Текст книги "Вор"
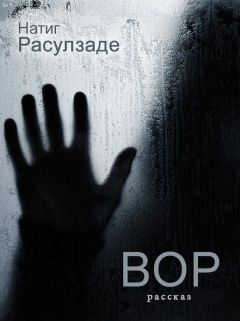
Автор книги: Натиг Расулзаде
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Натиг Расулзаде
Вор
Не то, чтобы, на самом деле, большие, непреодолимые затруднения, нет, этого не было, но зарождалось чувство зыбкости, эфемерности, непрочности всего окружающего, когда, как в сказках или фантастических фильмах, все превращалось во все другое или угрожало превратиться, и ты в этом сумасшедше изменчивом мире должен твердо знать свое место и не сходить с него ни за что на свете, иначе – кранты.
Шапкин-Шубкин помял в кармане маленький, дешевый кошелек, который только что стибрил, хапнул, свистнул и слямзил в большом маршрутном автобусе, следующем по маршруту: «Говно собачье – хрен моржовый» и печально повздыхал про себя: работать в городском транспорте, как раньше, лет пятнадцать-двадцать назад становилось невозможно – все богатенькие пересели на свои колеса, а голодранцы в лучшем случае носили с собой вот такие тощенькие, обессилившие кошельки, в которых бабок – кот наплакал, чтобы мне так жить, и в редком, редчайшем случае удавалось разжиться убогой зарплатой интеллигентного простофили, небрежно засунутой в карман пиджака, будто мудила имел миллионы, а это ему только на семечки выдали.
Шапкин-Шубкин хотел, назло всем неимущим пассажирам, перед выходом из автобуса испортить воздух, но решил воздержаться: все равно это не подняло бы его обосранного настроения.
Он поплелся по улице, вытащил на ходу кошелек и пересчитал деньги в нем – восемь тысяч манатов. Хватит, чтобы пожрать и останется на ночлег, если придется идти в платную хазу. Подумав о жрачке, Шапкин-Шубкин незамедлительно почувствовал голод, беспардонно переходящий в волчий, и потому, не мешкая, подошел к ближайшему ресторанному окошечку, из которого продавали доняры; судя по виду окошечка и неопрятного парнишки-продавца – специально для доходяг и босяков, так что Шапкин-Шубкин почувствовал себя вполне комфортабельно, если б не голод, и потому жадными глазами следил за манипуляциями юного продавца, как тот начинял разрезанную лепешку содержимым…
Нет, нет, – остановил его решительным жестом Шапкин-Шубкин, – сначала мясо клади…
Плутоватый мальчишка, на миг озаботясь мыслью, на глаза оттого повзрослев до «молодого человека», молча высыпал пожухлую зелень из чрева лепешки и стал засовывать на ее место кусочки малопрожаренного мяса. Шапкин-Шубкин продолжал внимательно и подозрительно следить за ним в нужный момент подсказал:
– Клади побольше.
– Сколько положено, – ответил молодой человек.
– Положено кем? – поинтересовался Шапкин-Шубкин.
Продавец молча мазнул по нему равнодушным взглядом и не стал поддерживать разговор: навидался всякого, особенно вот таких голодных бомжей, что с них поимеешь?.. Получив свой хлеб, начиненный чем надо и щедро политый подозрительным кетчупом, Шапкин-Шубкин прямо тут, у окошечка, жадно впился в него оставшимися зубами. Продавец равнодушно, глазами отрезанной бараньей головы смотрел на него, он – на продавца, активно жуя, пока не догадался отойти. Поедая купленное, Шапкин-Шубкин уже веселее пошагал прямо к едрене-фене, подсчитывая, сколько осталось из украденных денег и большую ли брешь в ненадежном его бюджете проделал этот обед. Левой рукой, лодочкой подсунутой под подбородок, он ловил неряшливо оброненные кусочки и тут же отправлял их в рот, чтобы добро не пропадало. Кстати, рот. Большие, посиневшие от холода губы, почти квадратной формы, обрамленные со всех сторон постоянной щетиной, как остров – часть суши, окруженная со всех сторон водой. Это он просто вспомнил сейчас про остров, потому что доучился до шестого класса в интернате, где, разумеется, проходил и географию, как остальные нормальные дети, и кое-что зацепилось в памяти, будто о репейник всякая летучая дрянь, носимая ветром, и некстати и не к месту вспомнилось, вот как, скажем, сейчас, когда он вспомнил про свой рот и ясно представил его себе, щетину вокруг губ, хотя мог бы и не представить, потому что давно не смотрел в зеркало, и было бы неудивительно… Впрочем, чего он там не видел, в этом зеркале засратом? – усмехнулся про себя Шапкин-Шубкин, дожевывая последний кусок. Последний кусок, вот ты кто, подумал про себя Шапкин-Шубкин, если б не пожмотился и дал бы той цыганке две-три тысячи, кто знает, могла бы такое предсказать… Может, тогда бы не пришлось ему, Шапкину-Шубкину, слоняться бесцельно по улицам, думая и размышляя од одном – где бы поживиться, где бы достать настоящие деньги, на которые мог бы он спокойно прожить хотя бы месяц или недельку-другую, прожить, расслабиться, питаться и спать нормально. Но клиента не было, не было клиента, как зорко не высматривал его на улицах Шапкин-Шубкин, одна вонючая сволочь кругом с дырками в карманах. Можно было бы, конечно, гробануть какую-нибудь торговую точку на тихой улочке-переулочке, аптеку, скажем, или пункт обмена валют, сейчас их много и бездарно грабили, без ума, нахрапом, и, естественно, попадались, даже несмотря на бездарную работу полиции; можно было ограбить квартиру, сейчас много богатых квартир по городу, но тогда потребовался бы понедельник, одному такое дело не поднять, да и вообще… все это ему не по нраву, не по сердцу было, и только крайняя нужда могла погнать его, Шапкина-Шубкина, на разбой и грабиловку, которые, не исключено, что – не дай Бог! – мокрым делом кончатся. Не по нутру все это было, потому что был Шапкин-Шубкин вор, настоящий профессиональный, искусный вор, вор от Бога, если только Бог допустит такое, вор высшего разряда с талантливыми и натренированными за последние два десятилетия пальцами, тонкими, чуткими, будто специально для запускания в чужие карманы созданными ловкими пальцами, которые служили ему и кормили его с десяти лет, как волка ноги кормят; и однажды, когда он украл какую-то мелочь из кабинета директора интерната, взломав замок на двери, и был пойман и уличен, и просидел сутки в пыльном и глухом подвале, пропахшем крысиным говном, вдруг, вопреки ожиданиям мальчишки, его не наказали, а привели сутки, продержав голодным и без воды, в кабинет директора и оставили с ним наедине. Директор тут же, без лишних слов, перешел к сути дела и поделился с мальчиком пришедшей в голову идеей – как более рационально, с большей отдачей использовать проснувшиеся инстинкты и способности своего подопечного, и послал его воровать на улицы, пригрозив, что суточная голодовка может продолжаться и, предупредив предварительно, что, мол, если что, он, директор ничего не знает, и если мальчик вздумает кому-нибудь проболтаться об их союзе и партнерстве, то он, директор, голову ему, мальчику оторвет, а если, значит, попадется на воровстве – наше дело опять же, сторона. Проинструктированный таким образом, десятилетний Шапкин-Шубкин пошел на первое свое дело, полагаясь только на ловкость своих рук и изворотливость, которой наградила его природа (наградила, надо сказать, довольно скупо). «Нет, – говорил он много позже в кругу приятелей – блатных мазуриков, воров, домушников, уркаганов и медвежатников, – нет, все-таки, что вы там ни киздите, а талант переходит с генами…»
– С кем, с кем?
– Э-э… Безграмотная шпана! – безнадежно махал рукой Шапкин-Шубкин, – видно отец мой вор знаменитый, вот и мне передались его умение и способности…
С тех пор он ежедневно приносил и отдавал директору интерната наворованное, тот хвалил за большую добычу, ругал за маленькую, и каждый раз неизменно напоминал, что обязательно, непременно оторвет ему голову, если Шапкин-Шубкин проговорится, из чего мальчик понял, что директор боится этого, как огня. Так продолжалось три года, после чего Шапкин-Шубкин сбежал из интерната, доведенный до ярости и отчаяния бесконечными приставаниями интернатских педерастов и периодическими домоганиями плотной, кубообразной пятидесяти семилетней поварихи, предлагавшей попробовать на вкус ее женообразные, пугающие прелести, а в случае отказа грозившей насыпать ему в обед стрихнина, и в ярких красках описывавшей мучительную кончину, которая ожидала бы Шапкина-Шубкина. Он не раз жаловался своему патрону и компаньону на все эти проблемы, мешающие жить и нормально трудиться – ведь надо было непременно хорошенько выспаться перед рабочим днем на улицах и транспорте города, чтобы потом не заснуть посреди очереди за апельсинами или импортными ботинками, запустив руку в карман впереди стоящего гражданина (в те годы неплохо работалось и в очередях, охваченных взаимной ненавистью и злобой, издерганных многочасовыми стояниями горожан, к большому сожалению Шапкина-Шубина, этих очередей не стало, они рассеялись подобно мифу о незыблемости великой державы), но мудрый директор воспринимал подобные жалобы, как необходимые и неискоренимые издержки всякого общежития, в каком бы виде оно не существовало: в тюрьме, в интернате или коммунальной квартире, и не очень обращал внимание на хныканье мальчишки, спокойно советуя ему держаться подальше от всего, что мешает развиваться его профессиональным качеством, а как подальше держаться он не говорил.
Кстати, сейчас годы, проведенные в стенах интерната, детские годы Шапкина-Шубина вспоминались им с теплотой, некоторые эпизоды из своей интернатской жизни он отчетливо помнит, несмотря на то, что прошло уже немало лет. Раз, он помнит, лет пять или шесть ему было, он только недавно поступил в интернат, стояло жаркое лето, он неприкаянно бродил по окрестностям и наткнулся на огромный арбуз в чьем-то огороде, долго возился с ним, стараясь в одиночку прикатить в интернат, но ничего не получалось, тогда он пошел за помощью, созвал несколько ребят из своей младшей группы и они тихо, осторожно, чтобы не увидели ребята из старшей группы и не отняли, как всегда делалось здесь, прикатили с большими трудностями огромный этот арбуз к столовой, и там кухарка, худая, иссушенная какой-то болезнью страха, разрезала длинным ножом арбуз на равные доли и раздала им, детишкам. Он до сих пор помнил, каким противно теплым в ту летнюю жару оказался арбуз, совсем не сладким, еле розовым, но они, малыши, ели его с наслаждением. Или еще он помнил из интернатской жизни, но на этот раз зимнее воспоминание. Возле их спальни, снаружи помещения, стояла кадка, они выбегали ночью мочиться в эту кадку, боясь в темноте бежать по темному двору к туалету, за ночь ударил мороз, моча в кадке замерзла. Утром, когда они вышли, кто-то из малышей закричал, увидев кадку:
– Мороженое!
Это послужило сигналом для их младшей группы, детишки набежали, каждый отломил себе кусок, стали облизывать, ведь многие из них тогда даже не знали вкуса мороженого и облизывали промерзшие сосульки мочи, пока взрослые воспитатели не отняли… Да, все-таки были, были и у него воспоминания, как у других людей, что ни говори, детство, оно у него, Шапкина-Шубкина было…
И, надо сказать, не такой уж простофиля был Шапкин-Шубкин, как, порой, казалось директору интерната, и смог до побега, за три года активной деятельности по чистке карманов законопослушных обитателей своего города, во-первых, ни разу не попасть в нечистые лапы правосудия, во-вторых, скопить себе на черный день. Кстати, за это время набралось порядочная сумма, которую мальчик прятал в тайнике под огромным платаном на улице, за забором их пригородного интерната, и никому из постоянных прохожих и в голову не могло прийти, что под этим пыльным, старым деревом лежит приличная сумма, часть которой была экспроприирована как раз из карманов этих самых прохожих, местных жителей, доверчиво отправлявших в город на одном автобусе с Шапкиным-Шубкиным. Между прочим, эти люди и послужили мальчику для – в некоторой степени – изучения психологии по внешности и поведению; через какое-то время он почти безошибочно мог определить были ли с собой деньги у того или иного пассажира, и стоило ли с ним потолкаться перед выходом из автобуса. Вот, скажем, молодой, лет двадцати шести – двадцати семи фраер (мальчик, несмотря на свой возраст, уже объективно и профессионально оценивал годы своих потенциальных клиентов, и двадцать семь лет для него была молодость, а не как казалось его сверстникам – ого-го! Двадцать семь! Какой же это молодой?! Это дядя…), тщательно одет, обувь блестит, и пахнет от него хорошим одеколоном, не таким дешевым, как от директора интерната, парень смотрит в окно, явно рад солнечной погоде, мечтательно улыбается – не иначе, как едет на свидание с девушкой, и, наверняка, это одно из первых свиданий с ней, когда хочется произвести впечатление, иначе он не стал бы так тщательно прихорашиваться, хочется выглядеть щедрым, по возможности сорить деньгами, и что отсюда вытекает? Вытекает самое главное: у парня есть деньги! А тот небритый мужчина с толстой неопрятной женой на первом ряду и со связанными индюшками в ногах у них, загораживающими выход из автобуса, явно имеет деньги только на проезд до городского базара, где он продаст своих индюшек, и если приведется вместе возвращаться, тогда он – мой клиент, думал мальчик. Конечно, он не столь конкретно все обдумывал и взвешивал, скорее чувствовал, интуитивно ощущал, и интуиция его почти никогда не обманывала, и он вставал, выходил вместе с хорошо одетым молодым человеком, толкался с ним у выхода, и потом на улице торопливо уходил – наступала пора рвать когти и делать ноги – забегал в ближайший подъезд и подсчитывал добычу.
За эти годы появились у него блатные кореши, друзья-приятели, с которыми он пил и ел, делил крышу над головой (чаще всего, это были кочегарки, спать в которых было приятно особенно зимними ночами, в непогоду, приятно, но небезопасно, потому что смотритель кочегарки часто напивался вместе с ними, и так как жрачка и водка была для него, приютившего шарашку, на холяву, то он и старался пить и есть, как верблюд – впрок, вследствие чего накачивался до потери сознания, а кочегарка, в которой надо было поддерживать определенное давление, оставалась без надзора, а отсюда и до беды недалеко, и он, Шапкин-Шубкин в подобных ситуациях чувствовал себя несколько напряженно, некомфортно, не мог от души расслабиться после тяжелого трудового дня), с которыми часто помогали друг другу материально, так сказать, финансировали друг друга в тяжелые дни, никогда не требуя возврата долга, но свято придерживаясь принципов воровского товарищества, когда приятелю-блатному приходилось туго, но как бы то ни было, ни разу за годы своей деятельности Шапкин-Шубкин не работал с подельщиком, с самого детства он был ярко выраженным индивидуалистом и всегда любил работать один, может, теперь причиной тому служило еще и то, что он не хотел разочаровываться в своих друзьях, кто знает? Силком, бывало, не затащишь его в групповое дело, отнекивался, отбрыкивался и уходил, даже когда в участии его ощущалась настоятельная необходимость… Обижались на него, но понимали – характер такой, не любит человек групповщину, что уж тут… Может, именно благодаря этому своему качеству – что он не умел работать с кем-то – он и прослыл заговоренным: ни разу за эти годы, начиная с десятилетнего возраста, когда он был впервые отправлен директором интерната на дело, Шапкин-Шубкин не попадался, его не ловили, не уличали, не задерживали, а уж тем более, не арестовывали, даже не вызывали в суд в качестве свидетеля (что было бы, кстати, и невозможно: Шапкин-Шубкин был человек без паспорта, а значит, его и не было вовсе), несмотря на то, что работал он очень активно и своего не упускал, бойко вытряхивая из сограждан кошельки, портмоне и просто сложенные в карман деньги, отчего они не становились менее заманчивыми и привлекательными. И единственное, пожалуй, исключение, когда он попался, составлял именно тот случай, когда его поймал директор интерната: это, видимо, и научило его осторожности…
Сейчас работать становилось труднее и сложнее в том смысле, что прежней простоты и доверчивости не было, не было прежнего романтического настроя у населения, когда все спешили к светлому будущему, забыв застегнуть ширинки, и еще: ведь раньше все миллионеры, все богатеи были подпольными и, чтобы никто их не заподозрил, вынуждены были ошиваться среди народа, терпеть чернь в очередях в отхожее место в театрах, собираться вместе в стадо по любому поводу, ни в коем случае не пренебрегать скоплением масс, а теперь они, сытые сволочи, отделились от народа, стали страшно далеки от народа, как справедливо утверждал классик, огородились от всех стенами, заборами, собаками, верзилами-охранниками, и теперь до них не добраться; разве что откроешь дверцу машины, когда этакий круглый, гладкий гаденыш выходит из подъезда, облегчившись на своей б…, и идет к машине с шофером, да и то, если повезет, если не получишь по шее от того же шофера, или пинка от охранника, если повезет, если он разрешит открыть дверцу, а не отстранит еще издали тебя рукой, чтобы не прикасаться к тебе, короче: если повезет то, если повезет другое, то у тебя, то есть у Шапкина-Шубкина, могла оказаться в кармане вполне приличная для него сумма; однако теперь, в отличие от детства, приличные суммы не задерживались в его кармане, потому что он – и это естественно – играл, и если часто выигрывал, то и проигрывал не реже, потому что картежная игра была обычным состоянием собравшегося коллектива мазуриков при любой погоде, и смене властей, и времени года. Да, зарабатывать становилось труднее с каждым днем, а сейчас еще придумали на карточки банковские переходить, суки, и теперь у богатеньких, к которым хоть изредка находился доступ, и вовсе не будет в карманах живых денег, а карточкой этой можешь подтереться, хоть пусть миллион на ней, никто по ней тебе не выдаст ни шиша, еще и арестуют к едрене-фене. Это Шапкин-Шубкин узнал у одного специалиста, банковского служащего. Очень огорчил его спец.
«Мой отец, мир праху его, – с уважительными нотками в голосе и неожиданно набожно начинал рассказывать Шапкин-Шубкин корешам, – всегда говорил: будь, кем хочешь, только мастером своего дела, настоящим профессионалом…»
И бессовестно врал, потому что отца своего он не помнил, и вряд ли помнила его и мать Шапкина-Шубкина, случайно забеременевшая от одного из своих случайных знакомых, позабывшая от разгульной, бездумной жизни про необходимые меры и спохватившаяся, когда уже поздно было что-нибудь предпринимать, и таким образом волей-неволей Шапкин-Шубкин был произведен на свет и до пяти лет обретался с матерью, а с пяти, то есть после смерти матери, выбросившейся из окна их комнаты на четвертом этаже в ненастную весеннюю ночь, мальчик, не имея родных и близких, кто мог бы приютить его, был сдан соседями по коммунальной квартире в детский дом, а комната их была узаконенно захвачена самым расторопным и предприимчивым соседом, в качестве доказательств на законность своих притязаний на чужую жилплощадь не постеснявшимся предъявить соседям устные факты их интимной близости с упокоившейся соседкой, на что жена его, то есть соседа, возражать не стала, но посмотрела на прыткого мужа своего, поджав губы, таким взглядом, от которого у него яички втянулись и стали, как горошины, как будто его опустили в прорубь.
Шапкин-Шубкин теперь вынужден был толкаться возле увеселительных заведений и аттракционов, куда сердобольные родители приводили свои чада увеселяться; толкаться по рынкам, по ярмаркам, куда приходили отовариваться здоровенные тетки, при необходимости могущие сами, без вмешательства полиции, расправиться с любым тщедушным воришкой вроде Шапкина-Шубкина… И чего только не было на этих ярмарках, на этих увеселениях и рынках. Но народ скурвился, стал прижимист, очень скуп стал, видимо, почувствовал все прелести перехода к новой общественной формации. Выражение про общественную формацию Шапкин-Шубкин почерпнул тоже из своей недолгой школьной практики и щеголял им, где придется, к месту и не к месту… Мазурики хихиками: да, да, отец говорил, хи-хи-хи, да, как же, формация, хи-хи, часть суши, окруженная, хи-хи… но образованный Шапкин-Шубкин не обращал на них, мудаков и дол…, никакого внимания, продолжая по возможности пополнять свой словарный запас и изысканно выражаться. Правда, как-то в поисках ночлега встретил он еще более образованного собрата и устыдился про себя своей темности и скудости информации о современном мире, но апломба и гонора, тем не менее, не терял.
– Пошли, – сказал новый знакомый, специализировавшийся на вырывании сумочек у дамочек с последующим убеганием, – тут одно место есть, можем переночевать.
– Что за место? – осторожно и подозрительно поинтересовался Шапкин-Шубкин, имея за плечами громадный горький опыт.
– Да не беспокойся… Нормальное место, правда, с удобствами там туго, на полу заночуем, крысы бегают, ссать придется в дырку в полу, а посрать там вообще не разрешают, но место хорошее, интеллигентное место – редакция… Главное – к бомжам с почтением относятся, могут и поднести, люди культурные, понимающие, начнут пить – не угонишься… Я к ним ходил, ходил и рассказ написал…
– И что? Неужели напечатали? – спросил недоверчивый Шапкин-Шубкин.
– А то как же… – самодовольно отозвался бомж. – Кого им еще и печатать, как не меня!
– Скажешь, и деньги дали? – продолжал выпытывать Шапкин-Шубкин.
– А то как же, – уничтожал его новый знакомый. – И деньги… Все честь честью… Гонорар называется. И собантуйчик я им сообразил недурственный…
– Ну да, ну да… – иронично покивал подозрительный Шапкин-Шубкин. – А не спрашивали эти интеллигентные люди, почему от тебя так козлом воняет?
– Да там не только от меня воняло…
Короче, знакомился Шапкин-Шубкин с разными людьми, и опыт его по этой части к тридцати годам превышал, пожалуй, какой-нибудь профессорский опыт, сознательная жизнь которого перехлестывала всю несознательную Шапкина-Шубкина, но прошла, однако, за тихим письменным столом, за учеными трудами, в отрыве от живого общения.
Однажды в автобусе он полез своими чуткими, предупредительными, как у дамского парикмахера (не беспокоит?) пальцами в похотливо прилипшую к нему в толчее и давке, сумочку, ярко надушенную, такую соблазнительную… Хозяйки он не видел, отгороженный от нее чьей-то бычеобразной шеей. Пришлось работать в экстремальных условиях: как раз, когда пальцы его нащупали в уже бесшумно открытой сумочке искомое и, по всей видимости, волнительно-толстенькое – пачечку денежек, обладательница пачечки стала активно протискиваться к выходу из автобуса и, естественно, повлекла за собой и заработавшиеся пальцы Шапкина-Шубкина, а те, в свою очередь, – самого Шапкина-Шубкина. Кончилось плачевно – в дверях девушка обронила сумочку на улицу, и Шапкин-Шубкин вынужден был, как джентльмен и начинающий интеллигент, любивший изысканно выражаться, поднять и подать.
– Спасибо, – молвила она, несколько раз похлопав… чем, угадайте? – длинными… загнутыми… ну?.. – ресницами, черт возьми, не по спине же ей хлопать Шапкина-Шубкина. – Спасибо, – еще раз повторила она грудным и очень сексуальным голосом и глянула на него так, что сердце Шапкина-Шубкина забилось отчаянно, упало и там еще раз забилось, как птица-подранок, упало и затрепыхалось в его пустом, гулком животе, а может, еще дальше закатилось – в ж. у, но, как бы там ни было, Шапкин-Шубкин, привычный к дешевой любви потаскушек, почувствовал, что у него вдруг отнялся язык и только кивнул неловко в ответ на двойную благодарность. Она отошла, забрав сумочку из его окостеневших пальцев, которые ей пришлось немножечко разжать, и бросила на него еще один, чуть недоумевающий взгляд, в котором приветливость медленно угасала, как жизнь моя, как жизнь моя, мелькнуло в помутившейся голове у Шапкина-Шубкина. Он машинально поплелся за ней, сделал несколько шагов, как уличная, беспризорная собака за незнакомцем, приласкавшим ее, но был вовремя остановлен очередным взглядом, в котором не было уже ни приветливости, ни ранее блеснувшей благодарности, а Шапкин-Шубкин к этому моменту готов был уже умереть за нее и ее взгляды, какими бы они ни были. Одно хорошо, даже при временно помутившемся сознании, он увидел, что она входит в подъезд, профессионально запомнил дом, огляделся, запомнил окружающее пространство, которое состояло из подземного перехода поблизости и места на асфальте тротуара от свороченного и унесенного какого-то киоска. Приду еще, еле переводя дух, как после долгого бега, подумал он, и понял вдруг, что с той минуты, как напоролся на взгляд этой… этой девушки, он почти, можно сказать, не дышал.
Он брел, как говорится, куда глаза глядят, и неправильно говорится, потому что глаза его видели теперь только одно: эту девушку, отчего дважды он чуть не попал под машину. Брел, брел и набрел на пожилую костлявую цыганку, которую… кажется, видел уже не в первый раз, но в первый, помнится, отказал. Теперь позади у нее большим платком был привязан ребенок лет трех-четырех, непонятно, мальчик или девочка, и не переставая верещал: хочу то, хочу это, малыш еще не понимал, что он нищий и, как другие дети, открыто и громко изъявлял свои желания. Он послушал требования малыша, сопровождаемые плачем, и, повинуясь молчаливому взгляду цыганки, протянул ей ладонь, бессмысленно, с девушкой в глазах уставившись на грязные, замасленные, полуседые волосы цыганки, выглядывавшие из-под цветного платка.
– Какое у тебя странное имя… – сказала вдруг она, разглядывая его ладонь, и ребенок сзади нее разом притих.
– Какое? – встрепенулся вдруг Шапкин-Шубкин.
– Ага-Назир! – ответила она, читая по ладони. – Господин министр!
– Да? – удивился он и стал усиленно припоминать, но ничего такого не вспомнил.
– Не веришь? – вкрадчиво спросила цыганка. – Посмотри в паспорте.
– У меня нет никакого паспорта, – ответил он. – И никогда не было.
– Не беда, – беззаботно отозвалась она. – Пора, однако, тебе наградить меня.
Шапкин-Шубкин машинально запустил руку в карман и как последний мудила вытащил все деньги и будто загипнотизированный протянул цыганке. Та не удивилась, торопливо схватила деньги, спрятала на своей тощей груди и тут же отбежала от него подальше.
Он равнодушно смотрел на нее, как во сне, и не думая догонять и отнимать.
– Смотри, не сдохни, как собака! – крикнула она ему и побежала по улице, высоко подобрав юбки. Ребенок за ее спиной завыл на этот раз, как сирена.
Шапкин-Шубкин смотрел ей вслед и вспоминал, как она его назвала: Ага-Назир, и что-то далекое из далекого детства медленно, зыбко всплывало в его памяти… вот-вот всплывет окончательно и примет конкретные формы… но, нет… каждый раз, круглое, как пузырь, оно, неуловимое, лопалось и исчезало, тонуло брызгами во тьме, в непривычной, неосвоенной глубине сознания, куда Шапкин-Шубкин не любил заглядывать. Не вспомнил… Махнул рукой и пошел дальше. Какая разница? Он с самого детства Шапкин-Шубкин, им и останется. А лезть в какие-то дебри, знаете, себе дороже станет, всколыхнется, помутится, жить тошно станет… Нет, нет, спасибо, не надо…
Любил Шапкин-Шубкин еще шустрить по демонстрациям и митингам, в последние годы катастрофически, на радость ему и другим ворам-щипачам участившимся в этом городе, особенно прибыльно было работать на митингах, устраиваемых властями, там непременно в первых рядах с надеждой попасть на телевизионные экраны стояли, выпятив животы, толстые кошельки, и однажды Шапкин-Шубкин до того обнаглел и обнахалился, что снял бабки у какого-то высокого полицейского чина – на шестьсот долларов подзалетел бедняга-законник, а Шапкин-Шубкин за столь безрассудную храбрость и тонкое мастерство был прославлен по всем воровским малинам и притоном, и несколько дней блатные кореши с восхищением поговаривали, качая головами, о его поступке. Да, здесь было чем поживиться, но становилось опасным, потому что, даже приодевшись, Шапкин-Шубкин и отдаленно не напоминал сочувствующего властям, и его, следовательно, могли разоблачить, поскольку внимание привлекал. Ходил он и на митинги оппозиции, и те были более активными, потому как более голодные, был даже один длинный, жердеобразный доходяга, повсюду появлявшийся с флагом на длинном шесте, и размахивал он этим флагом без устали, будто ему за это платили бог весть какие деньги, и, говорят, даже со своей семьей он устраивал всякие митинги и шествия. Шапкин-Шубкин одним взглядом оценил его возможности и решил держаться подальше от длинного. Однажды на одном из таких митингов, где оппозиция выдвигала какие-то политические требования, он стал свидетелем интересного происшествия, которое надолго запомнилось. Все кричали, махали, скандировали, орали, хлопали, шухер стоял знаменитый на весь квартал, тут и шакалы-репортеры в поисках горячительных интервью, тут и телевизионщики, и все они ревели, стараясь перекричать друг друга, перекричать толпу, интервьюируемые кричали в ответ до посинения, так что, когда Шапкин-Шубкин, дурачась, вдруг завопил, как резанный: «Убивают!», на него никто не обратил внимания, никто его попросту не услышал, и он тут же перестал, обиженный. Вдруг среди этого рева тысячной толпы, на периферии митинга остановился шикарный огромный «мерседес», из него выскочил громадный амбал-шофер, лихо распахнул заднюю дверцу, и из машины проворно выбежал маленький, как лилипут, толстяк и тут же присоединился к требованиям толпы, стал пищать и потрясать кулачками. Толпа, чье внимание мгновенно с трибуны своих лидеров переключилось на «мерседес» и маленького толстяка, враз перестала кричать, наступила неожиданная тишина, в которой лилипуту пришлось покричать в одиночестве. Тоненький голосок его на фоне притихшей толпы звенел и разливался, как колокольчик. Все с недоумением смотрели на него, а маленький толстячок, поголосив еще немного и потопав ножками, юркнул в свою машину, был бережно, но быстро закрыт в ней шкафообразным шофером и укатил восвояси. Изумленная толпа молча провожала взглядами стремительно удалявшуюся машину, и тут вдруг Шапкин-Шубкин понял, что эти люди, эта человеческая масса, эта толпа не справедливости жаждали, политической и социальной, а каждый здесь хотел одного – выбиться, жить богато, независимо, как этот толстячок, потому что вид несомненно богатого человека, миллионера, присоединившегося к их требованиям, вызывал у них только изумление и острое недоумение, многие даже, наверное, подумали, уж не издевается ли над ними лилипут: богач, что ему еще надо?! Если б я был таким богатым, имел бы такую машину, шофера, наверняка счет в иностранных банках и прочее, что сейчас не приходит в голову, я бы ни за что… С тех пор политически безграмотный Шапкин-Шубкин стал презирать демонстрации и митинги и демонстративно их игнорировал, даже если там могла бы быть хорошая добыча. Правда, опять же он не думал так конкретно, он не мог так четко думать, полуобразованный дикарь, но он мог хорошо чувствовать, и он пронзительно это чувствовал своими обнаженными, голодными ощущениями и интуицией.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































