Текст книги "Вор"
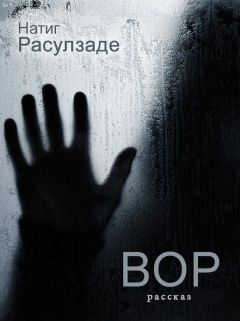
Автор книги: Натиг Расулзаде
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Было в жизни Шапкина-Шубкина два основательных пунктика, два железных бзика, две, так сказать, дури, без которых он воспринимал бы свою жизнь неполной и страшно обделенной радостями. Первый пунктик и первая странность заключалась в том, что он любил время от времени купаться. Ходил в сауну, заранее, за день или за два предвкушал наслаждение. В сауне он до изнеможения парился, так что, прямо, можно сказать, на глазах худел и таял, и сквозь пар ярче и четче вырисовывались ребра и прочие кости, коим анатомия человеческого тела дозволяла вырисовываться, и даже те кости и косточки, коим анатомия не дозволяла вырисовываться, все ж таки вырисовывались, так что остальные граждане парящиеся, если они при этом присутствовали, с беспокойством и опаской поглядывали на сей экспонат. Напарившись до одури, напившись чаю и накурившись анаши, назло всем борющимся с наркоманией, он ходил в бассейн и там плавал, как лягушка, вернее даже как личинка, потом шел под душ и тщательно мылся: терся кисой до посинения, а вслед за тем – мочалкой с мылом, и если б можно было купаться впрок, то ему, верно, на год бы хватило, никак не меньше. Иногда, если позволяли финансы и он все еще после такого купания не чувствовал себя при смерти, он пускался баловаться с массажистками, которые про себя хихикали над малой его мужественностью, вслух ласково называя ее п…й, дабы подбодрить клиента и добросовестно исполнить свою работу. Напарившись и натрахавшись, он выходил из сауны новым человеком, ощущая приятную чистоту как внутри себя, так и снаружи, утомленный, пожмуриваясь, как котенок. По впалому животику гладил себя любовно, сукин сын. Обстриженные волосики причесывал и ногти чистые с удовольствием разглядывал на побелевших от долгого купания пальцах, сволочь. Поводил рукой по гладко выбритым худым щекам, бессознательно щерясь, говно собачье. И уходил, чтобы через две-три недели, снова привычно завшивев на чужих матрацах и голых нарах, устроить себе праздник чистоты и совокупления. Время от времени Шапкин-Шубкин снимал комнаты, то тут, то там, но профессия, сами понимаете, не позволяла ему долго задерживаться на одном месте, и он уходил. Однажды, после особо крупной кражи, совершенной им в людном месте, в центре города, по телевизору показали даже предполагаемый фоторобот Шапкина-Шубкина и отдаленно не напоминавший его, но осторожный Шапкин-Шубкин в тот же день съехал из снимаемой комнаты. Береженого Бог бережет. Но платил, надо отдать ему должное, аккуратно и вперед. И даже когда в снимаемой квартире или комнате имелись необходимые условия для купания, к примеру, скажем, душ с водой в определенные часы суток, он все равно периодически ходил купаться в сауну, игнорируя убогий душ в облупленной ванной комнате. Правда, сортир игнорировать он не мог при всем желании. Пользовался. Сходил в очко – говорил. А однажды попалась ему комнатка, вся уставленная книжными полками, книги здесь даже на полу были сложены, и, одним словом, из мебели имелись только книги, на которых он сидел, спал и в свободное время жадно читал, и вопреки своим принципам, на этот раз не съехал из комнатки, пока не проглотил почти все книги в ущерб основной своей работе, разумеется, потому, как взяв в руки книгу, позабывал обо всем на свете, даже о еде иногда, и таким образом, за время пребывания в той чудной комнате прибавил к своему лексикону немало интеллигентных слов и словосочетаний…
Второй бзик Шапкина-Шубкина заключался в том, что (опять же, будучи кредитоспособным и материально состоятельным, то бишь при бабках, с добычей, или крупным карточным выигрышем, или же, напротив, не успев еще проиграть наворованное) он садился на рейсовый автобус, который за столько лет не изменил ни своего номера, ни облика, несмотря на рыночную экономику на дворе, и отправился прямиком в бывший свой детский дом в пригороде, и там же, накупив сладостей: мороженого, шоколаду, пирожных, подходил к щелястому в одном месте забору, за который не выпускали детдомовских, и кормил и угощал беспризорных мальцов, и они, уже зная его, каждый день наведывались к забору в этом месте и высматривали его сквозь щели в ожидании сладких подарков, хотя он, конечно, приезжал не каждый день и не всякую неделю даже, но, надо сказать, приезжал при первой же возможности и, между прочим, гораздо чаще, чем ходил париться в баню. Сироты поджидали его с нетерпением, в плохую погоду, когда долго не приезжал, высылали к забору лазутчиков, сами, прижавшись к стеклам окон неприютного дома, зорко следили, не подадут ли знак разведчики, и когда получали долгожданный радостный сигнал, поскуливая и повизгивая, со всех ног бросались к забору, разбрызгивая лужи, не чувствуя холодного, пронизывающего ветра… Между ними обычно не происходило никакого разговора: он молча смотрел, как они ели непривычные для них бананы, апельсины, шоколад, они молча ели, не желая укрыться с гостинцем в доме, где его могли отнять у них взрослые, персонал или директор, который с тех пор хоть и поменялся, но лучше от этого не стал, человеческая жадность и алчность так же владели им, его душой и помыслами, как и его предшественником… Когда они съедали все, они молча, без слов благодарности, уходили в дом, ежась в своей парусиновой одежонке. А он молча шел к автобусной остановке.
Шапкина-Шубкина не раз звали в цех, в братство и содружество воров, звали даже известные авторитеты, желавшие укрепить и усилить свои шайки золотыми руками удачливого щипача, но он неизменно отклонял эти предложения, желая оставаться свободным художником, независимым от кого бы то ни было, будь это хоть самый влиятельный вор в законе. Пробовали его припугнуть, гнали с наработанных территорий, необоснованно приписывая их себе, он покорно уступал силе, не спорил, находил себе новые участки, высматривал новых клиентов, обживал новую территорию, стараясь не ущемлять ничьих интересов. Он и дружил с такими же мазуриками-отщепенцами, как сам, которые превыше всего ставили свою свободу и независимость, в приятелях у него была шпана, и при желании не могущая надавить на него, подавить его волю. И шпана, зная о его высоком мастерстве и профессионализме, немало удивлялась тому, что такой человек водит с ними дружбу, не брезгует их компанией. Он же среди них чувствовал себя вольно и раскованно и жил, как живется, не думая о завтрашнем дне, что будет есть, где будет спать и когда будет купаться – будет день, будет пища, а даст Бог, и, слава Богу. И крупные воровские авторитеты махнули на него рукой, как на дефективного, и оставили в покое. «А как бы он мог жить при его таланте!» – довели до его сведения слова одного известного вора в законе, тоже тщетно желавшего приобрести этого игрока для своей команды. Но он не среагировал на слова знаменитости, вернее, среагировал весьма оригинально: молча и громко пустил ветры, и так как дело было как раз в жарко натопленной непроветриваемой кочегарке в холодный, ненастный день, то тут же получил по шее под дружеский, доброжелательный гогот мелких воришек и начинающих медвежатников.
С того дня, когда он столь неудачно хотел обворовать случайную попутчицу в автобусе, Шапкин-Шубкин задался целью увидеть ее еще раз. Ее глаза, ее лицо, ее взгляд не выходили из его памяти, стояли перед рассеянным взором и, наконец, мешали работать. Он приобрел себе хороший, правда, немного поношенный костюм у знакомого барыги, новую – из магазина, чего не любил – сорочку, зверски вычистил ботинки, в таком виде зашел в шикарный парфюмерный магазин в центре города, где под предлогом выбрать одеколон, надушился и с недовольной физиономией вернул продавщице флакон-пульверизатор, отправился к дому девушки, как полагал, к ее подъезду и стал там на часах, как перед мавзолеем. Первый день прошел безрезультатно, и он был неприятно удивлен, что девушка, которая, вроде бы, не похожа на курву, не пришла до часу ночи, и, удрученный, покинул свой пост в начале второго, когда никакого транспорта уже на улицах не было, и пришлось ему переть пешком до ночлега, имевшегося в то время. На завтра с семи утра он уже был на месте, никуда не отлучался за весь день, не сводил глаз с подъезда и даже когда закуривал в очередной раз, не глядя на сигарету, чуть не зажег ее с фильтра. Также, посматривая на подъезд, он купил у мальчика-разносчика страшных пирожков, при одном взгляде на которые можно было заработать язву желудка, проглотил их, стоя, как лошадь (вернее, учитывая рост и вес – как жеребенок), и весь день провел, обозревая подъезд, который он уже изучил до мельчайших подробностей, включая и довольно сложные запахи, царившие в нем. И второй день, закончившийся в полночь, не принес никаких результатов.
На третий день, в одиннадцать утра девушка вошла в подъезд. Шапкин-Шубкин поперхнулся сигаретным дымом и, отшвырнув окурок, устремился за ней. Но она уже исчезла в одной из квартир, на одном из этажей, пока он перебегал через улицу (чтобы не привлекать к себе внимания, он в тот день решил стоять на противоположном тротуаре). Шапкин-Шубкин чертыхнулся и решил ждать до последнего вздоха, даже если теперь она, не появляющаяся двое суток, не выйдет из этого дома в течение нескольких недель. Но девушка вышла неожиданно скоро: часа через полтора. Шапкин-Шубкин, отхлебнув из металлической фляжки, предусмотрительно захваченной именно для этого момента, устремился за ней. Она, к счастью, видимо, не спешила, и он еще раз для храбрости и устранения могущей возникнуть косноязычности, сделав большой неторопливый глоток коньяка, повременив несколько мгновений, положил флягу во внутренний карман пиджака и подошел к ней, по всей видимости, поджидавшей автобус здесь, где никакой остановки автобусов не было (но таков, однако, был нрав всех горожан: они ждали того, чего не было, искали там, где ничего не могло быть, и, как ни странно, порой дожидались и находили). Также и эта девушка вскоре должна была дождаться, чего ждала. И потому нельзя было мешкать, и он подошел к ней довольно близко, тихо, интеллигентно кашлянул. Она мельком глянула на него.
– Здрассте, – сказал он, глуповато улыбаясь.
Она отвернулась.
«Не узнала меня», – подумал Шапкин-Шубкин, почему-то лелеявший мечту, что его узнают так же, как он узнал.
– Не узнали меня? – спросил он с заискивающей улыбочкой, готовый убить себя за эту жалкую улыбку.
Девушка не ответила, на этот раз даже не взглянула на Шапкина-Шубкина.
– Я в среду помог вам сумочку поднять. Вы уронили. Когда из автобуса выходили. В среду, между одиннадцатью и половиной двенадцатого. Вспомните! – торопливо проговорил Шапкин-Шубкин, заметив, как девушка сделала движение в сторону подъезжавшего микроавтобуса, и, испугавшись, что сейчас она сядет в него и уедет, тем более, не на чем-нибудь, а в микроавтобусе, их он профессионально ненавидел из-за того, что там неудобно и почти невозможно работать. Девушку, казалось, его слова заинтересовали, она поглядела на него уже не так равнодушно вскользь, уже дольше и внимательнее поглядела и пропустила микроавтобус, несмотря на упорные и громкие крики мальчишки-зазывалы, выкликавшего маршрут из его полупустого чрева. Отметив это про себя, Шапкин-Шубкин очень обрадовался и заулыбался до ушей, которые у него даже, как ей показалось, немного задвигались, и так как одет он был прилично, выбрит и все еще пахло от него позавчерашним одеколоном, она тоже чуть улыбнулась в ответ. А Шапкин-Шубкин, вовремя вспомнив о щербатом своем рте, постарался погасить радостно-идиотскую улыбку.
– Вспомнили, – то ли вопросительно, то ли утвердительно, но точно – с облегчением, – выдохнул Шапкин-Шубкин.
– Да, – сказала она. – Теперь вспомнила.
– Ну вот, видите, – глупо проговорил он.
– Я тогда, честно говоря, немного испугалась, – неожиданно призналась она. – В сумочке были деньги за уроки, всю дорогу боялась, что украдут, а тут, как назло, сама роняю…
– Да, сказал он. – А я поднимаю…
Они немного помолчали, смущенно улыбаясь друг другу, и Шапкин-Шубкин почувствовал, что если пауза еще немного продлится – ему хана: она сядет в очередной поганый микроавтобус, и только ее и видели…
– А вы что, на уроки ходите? – спросил он торопливо.
– Да, – охотно ответила она, – здесь, – она кивнула на подъезд, из которого вышла, – я беру уроки, учусь на компьютере работать.
– А здесь, что же, учитель ваш? Или контора какая? – полюбопытствовал Шапкин-Шубкин.
– Учитель – сказала она. – Я по объявлению его нашла. Он занимается с группой. Четверо нас. Сейчас, знаете, без знания компьютера – никак…
– А сколько он берет? – с видом инспектора, проверяющего недобросовестных преподавателей-жуликов, поинтересовался Шапкин-Шубкин.
– Пятьдесят долларов в месяц, – сказала она. – Это, в общем-то, недорого, но я пока не работаю, и для меня это большие деньги… Потому я и перепугалась, когда выронила сумочку… Там были деньги за уроки, правда, в манатах, не в долларах… Но какая разница, украсть могли и в манатах… Столько сейчас разных бродяг в городе, – она еще раз изучающе поглядела на аккуратно одетого Шапкина-Шубкина.
– Да, – охотно подтвердил он. – Бродяг много. Это точно. Всюду они, эти проклятые бродяги, бомжи, воры и жулики. Тут надо держать ухо востро… Того и гляди, что-нибудь спи… слямзят…
– Вот и мама мне то же говорит, – призналась она.
– У вас есть мама? – спросил он.
– Да, – удивилась вопросу она. – А что тут странного?
– Нет, нет, что вы? Ничего странного. Я так спросил, – торопливо поправился он, подумав, что среди его знакомых и приятелей, пожалуй, не найдется ни одного, у кого была бы мама. – И папа есть? – осторожно спросил он.
– Да, – сказала она. – Только он сейчас в России, на заработки уехал… Приезжает раз в полгода, побудет недолго, оставит нам денег и опять уезжает, – в ее голосе послышались грустные нотки, и он решил отвлечь ее внимание от этой печальной темы.
– Да, конечно, – подтвердил он с видом знатока, – Здесь совсем невозможно стало работать. Люди озверели как будто. Правда?
– Не знаю, – сказала она.
– Вы ждете автобус?
– Да.
– А может, мы немножко пройдемся? – нерешительно предложил он. – Любите гулять?
Она поколебалась, но ей понравилась нерешительность в его голосе.
– Гулять люблю, – ответила она. – Но до моего дома отсюда далеко.
– А мы немного пройдемся, а потом воспользуемся городским транспортом, – изысканно выразился Шапкин-Шубкин.
– Ладно, – не сразу ответила она. – Погода хорошая.
– Конечно! – обрадовался он. – Еще какая хорошая, чтоб я так!.. – и, вытащив сигарету – внезапно от радости, что она согласилась прогуляться с ним, пересохло в горле, – он вспомнил эпизоды из заграничных фильмов о высшем обществе (что любил смотреть в кинотеатрах, на его счастье, опустевших теперь, двойная приятность: не надо выстаивать очередь и смешивать оттого отдых с работой, и второе – сидишь в почти пустом зале, как перед телевизором, никто не надоедает, никто не верещит под ухом, как раньше, лет пятнадцать назад) и предупредительно спросил:
– Вы позволите? – кокетливо указывая на сигарету в пальцах.
Девушка, казалось, слегка удивилась подобной не очень уместной в условиях улицы, галантности, но ответила с удовольствием:
– Конечно, курите на здоровье.
– А Минздрав утверждает обратное, – сострил он.
– Да, – улыбнулась она. – Я глупость сказала.
– Что вы! – поспешно опроверг он ее. – Вы не можете сказать глупость.
– Почему? – спросила она, улыбаясь.
Он пожал плечами.
– Ну… просто… это невозможно, чтобы вы глупость сказали…
Он чувствовал себя с ней раскованно и свободно, но не как среди блатных корешей, когда позволялось все – и смачно выругаться без причины, и плевать в помещении, и бросать окурки, куда попало, и пускать ветры под дикий гогот, и показывать член в адрес несимпатичного тебе фраера, и чесать задницу, – нет, с ней он чувствовал себя вольно, но подтянуто вольно, каждую минуту приказывая себе не расслабляться и не ляпнуть среди разговора чего непотребного, и эта подтянутая вольность, воспитанная раскованность нравились ему; он чувствовал себя в новой роли, в новом качестве, и это новое качество было замечательно, приятно; неожиданно обнаруженное, оно нравилось ему, потому что нравилась ему девушка. Они проходили мимо какого-то маленького ресторанчика, больше похожего на забегаловку, несмотря на то, что вывеска опровергала столь низкое звание, и он машинально предложил:
– Зайдем, посидим?
– Нет, что вы?! – испуганно возразила она и немного прибавила шаг, чтобы побыстрее оставить позади сомнительное заведение.
– Я так сказал, – пробормотал он, чувствуя невольно допущенный прокол. – Пошутил. Я тоже не люблю рестораны. А вы не хотите поесть?
– Нет, – сказала она. – Я ем только дома.
– А-а… – произнес он. – Хорошо, наверно, дома есть… Домашняя еда…
– А вам не готовят дома?
– Как же! Готовят… То есть нет, – спохватился он. Я же неженатый, что это я говорю…
– А у вас нет никого, кто бы готовил? Мама…
– Мама? Нет. Умерла.
– Ой, извините, – сказала она виновато.
– Ну, что вы! Пустяки. Я тогда еще ребенком был. Давно это было.
– А вас как зовут? – спросила она с проснувшимся инстинктом жалости, присущим всем женщинам.
Ну все, подумал он, окончилась торжественная часть, начались расстрелы.
– А вас? – в свою очередь спросил он.
– Нет, я первая спросила, – поулыбалась она.
– А вдруг я вам скажу, а вы меня нае… надуете, не скажете? – стал дурачиться он.
И тут взгляд его упал на вывеску магазина, и некстати охваченный острым приступом патриотизма, он воскликнул:
– Безобразие! Вы только посмотрите: надпись на русском языке – «Подарки», как будто нельзя было на нашем написать! А? Все-таки, мы живем в независимом государстве, это вам не шурлы-мурлы…
Она заинтересованно поглядела на него, тихо покивала.
– Меня зовут Наиля, – вдруг неожиданно для него сказала она.
– Вот и отлично, – сказал он. – А то я только хотел назвать вас по имени, а его не знаю… Давайте зайдем, Наиля, – предложил он, – я хочу купить вам подарки.
– Ой, зачем это? – нерешительно воспротивилась она, но было видно, что ей не неприятно его предложение.
– Как зачем? Надо! – он вдруг, сам удивляясь своей смелости, взял ее за руку и потянул за собой в магазин. – Пошли.
Из магазина они вышли с мягкой игрушкой – маленьким щенком с удивительным и смешным выражением мордочки.
– Какая забавная! – сказала она. – Спасибо.
– Что вы! Не стоит.
– Я люблю мягкие игрушки, – призналась она. – И не потому, что они сейчас в моде. Просто я с детства люблю зверушек, а дома держать собак и кошек мне запрещали, но иногда покупали такие игрушки, в компенсацию. Я к ним привыкла. А вы любили игрушки?
– Да, – сказал он, не моргнув глазом. – Конечно. У меня в детстве много их было. Я же из приличной семьи… У нас всегда игрушки водились, шоколад, пирожные, обеды всякие, век воли… – он вовремя остановился.
Она несколько удивленно посмотрела на него.
– А как вас зовут вы так и не сказали, – напомнила она.
Ему не хотелось врать ей, хотя начало уже было положено – но разве это вранье, мелочь – не хотелось дальше углубляться и погрязать во лжи, когда маленький обман тянет за собой большую ложь, а маленькая ложь рождает большое недоверие, а он не хотел, чтобы между ними возникло недоверие и разрушило их только зарождавшиеся, так неплохо зарождавшиеся отношения, и он не хотел погрязать во лжи с этой чудесной девушкой Наилей, и потому откровенно признался, уже чувствуя, что за этим последует.
– Да, – сказал он. – Меня зовут.
Она еще раз заинтересованно поглядела на него, а он не пропускал ни одного ее взгляда (немного добавим лирики начала прошлого века), стрелами вонзавшимися в сердце его (и хватит).
– А как?
– Что? – спросил он.
– Имя есть?
– Есть.
– Какое?
– Хорошее, – продолжал дурачиться он, чувствуя, что она принимает его игру и ей нравится. – Даже двойное.
– Какое двойное?
Дальше тянуть было невозможно, надо было разродиться.
– Шапкин-Шубкин, – признался он, сделав идиотское выражение лица, и на самом деле вдруг стал похож на умственно отсталого подростка.
– Что это за имя такое? – вдруг неожиданно звонко рассмеялась она.
– Мама меня так в детстве звала, – ответил он.
– Вот еще! – не поверила она, не переставая улыбаться.
– Правда, правда! – торопливо сказал он. – Век воли не видать!
– Ой, что это за выражение у вас?
– Это такое шутливое выражение. С языка сорвалось.
– Расскажите, почему Шапкин-Шубкин? – попросила она.
– Может, в другой раз? – предложил он неуверенно, не желая ее обидеть.
– Ой, ну, пожалуйста, – мило закапризничала она. – Я так люблю все такое забавное…
– Ну, значит, я был маленький… – начал он и внезапно замолчал.
– Это понятно, – осторожно вторглась она в паузу, желая подбодрить рассказчика.
– Да, я был маленький, – повторил он, стараясь продолжить, и вдруг долгим взглядом, впервые за эту встречу, посмотрел на нее, на ее лицо, губы, глаза, и почувствовал, как в прошлый раз, когда выходил из автобуса вслед за ней, что у него замерло и оборвалось сердце.
Она смутилась от его столь откровенного взгляда, чуть отвернула лицо, сказала:
– А дальше?
– Я был маленький, – спохватился он и в третий раз повторил фразу, будто желая убедить ее в том, что и он тоже был маленьким, что у него было детство. – И мать всюду водила меня с собой, и… не, это не важно, – перебил он себя, – водила, чтобы не оставлять дома одного и не беспокоиться за меня, а когда мы уходили из гостей я очень тревожился и волновался за мою одежду, все мне казалось, что кто-то наденет мою шапку и шубку и в них уйдет, украдет их, а я останусь так… потому что однажды один мамин знакомый, то есть один наш родственник, шутя, сказал мне: «Вот сейчас надену твою шапку-шубку и пойду на работу, а ты сиди тут!» Я его уверял, что на него не полезут, но он стал уже шутливо тянуться к шубке, чтобы, как бы примерить ее, и я очень испугался и с тех пор мне казалось, что кто-нибудь на самом деле однажды наденет мою шапку и шубку, украдет, и я всегда спрашивал, если не было их перед глазами у меня: «А где моя шапка-шубка?», и мать прозвала меня «Шапкин-Шубкин».
– Как хорошо! – восхищенно выдохнула она. – Я тоже буду вас так звать. Можно?
– Да, – сказал он, улыбнувшись ей в ответ. – Конечно, можно.
– Шапкин-Шубкин! – сказала она и тихо рассмеялась. – А как вас вообще называют?
– По-разному. Эй! – это чаще всего. Потом – Эй, ты! Потом – Эй, фраер! Или – Эй, кореш!
– Какой вы смешной.
– Да уж… какой есть.
– Шапкин-Шубкин, – повторила она с видимым удовольствием.
Никому другому он не рассказал бы эту историю из своего короткого детства, как и не рассказывал до сих пор, но она… Она – совсем другое дело… Под ее взглядами он чувствовал себя чище, что ли, лучше, чем он был на самом деле, и знал, что она не будет насмехаться.
Он проводил ее до дому, и они расстались, договорившись о следующей встрече.
Он шел по улице, бездумно улыбаясь, вспоминая ее лицо, ее милый смех, ее улыбку, глаза, но воспоминание о детстве всколыхнуло, встревожило его душу, она заставила его вспомнить о том, что он старался не вспоминать, тщетно старался забыть, и теперь одна за другой картинки из детства, спровоцированные, до сих пор лежавшие на дне его души, стали настойчиво, назойливо, требовательно стучаться в память его, проситься наружу, стараясь найти лазейку, просочиться сквозь нее и перевернуть, взорвать изнутри сердце его, искромсать, переделать, перетрясти душу.
Он вспомнил еще, когда ему было четыре года, или чуть больше, совсем незадолго до смерти, до трагической кончины матери, у которой все чаще и чаще обнаруживалось странностей в словах и поступках, странностей, уже явно и неприкрыто переходящих в психические отклонения, мать его, как-то охваченная кратковременным, как вспышка и пугающим своей страстью, порывом материнских чувств, купила ему под Новый год подарок и за отсутствием елки, которой (как он смутно помнит, стараясь разграничивать свои мечты, задним числом приукрашивающие детство, от реальных событий тех лет) никогда у них не было, положила подарок рядом с подушкой, чтобы утром, проснувшись, он обнаружил и порадовался… Он уже не помнил, что это был за подарок, верно, обычная ерунда, что дарят четырехлетним мальчишкам, но – вот удивительные и странные свойства памяти! – отчетливо помнит, что утром на слова матери, утверждавшей, что подарок ему принес Дед Мороз, равнодушно, с не по-детски житейской мудростью ответил:
– Никакого Деда Мороза нет.
– Почему же, сынок? – спросила мать. – Для всех детей он есть.
– Никакого Деда Мороза на свете нет, – упрямо повторил маленький Шапкин-Шубкин, и это было правдой, его горькой правдой, потому что в его жизни не было места Дедам Морозам, Снегурочкам и всяким чудесам, мать не могла да и не стремилась сделать его детство настоящим детством, как у других ребят, его сверстников, она таскала его с собой по своим знакомым, таскала на работу в те недолгие недели и месяцы просветления, когда вспоминала о том, что работать необходимо и работала до очередного увольнения по собственному желанию (неясно понимая свои желания и не умея противостоять им), он вечно тащился с ней в незнакомые, заранее ненавидимые им места, сидел там в каком-нибудь тихом углу на своей шубке и разговаривал сам с собой. Вот так проходило его детство, пока он не очутился в приюте.
Шапкин-Шубкин и Наиля стали встречаться. Ходили в кино, цирк, гуляли по городу, иногда ему удавалось затащить ее в кафе. Подолгу говорили, чувствуя, как им хорошо вдвоем. В меру циничный и прагматичный Шапкин-Шубкин даже не думал лечь с ней в постель, как-то пока в их отношениях еще не было места этой мысли. Естественно, и дружкам своим не говорил он о ней ни слова. Pазве они, мазурики несчастные, поймут про такое?..
Он влюблялся в нее, как говорится, по уши, по свои растопыренные уши, которыми мог шевелить. Она звонко смеялась, не сводя своих прекрасных глаз с его розовых, чисто вымытых, безобразных ушей. Шапкин-Шубкин уже подумывал о том, что надо бы вставить зубы, а то он не может от души улыбаться, неудобно как-то, но пока у него не было материальной возможности. Зато он совершенно бесплатно отпустил бородку и усы и стал неузнаваем. Что и требовалось доказать. Ей нравилась его коротко остриженная, аккуратная бородка, но усы – нет. Несмотря на это, он оставил и то, и другое. Еще бы – сбрить усы и оставить бороду! Сразу привлечешь внимание. Не в Норвегии живем. С преобразившейся внешностью Шапкин-Шубкин более уверенно чувствовал себя на улицах в дневное время. Мало ли чего. Береженого Бог бережет. Да и польза двойная: не надо бриться – раз, а ведь это, на самом деле, оборачивалось порой большой проблемой, учитывая отсутствие постоянного места жительства; а к ней на свидание небритым не придешь, ежу понятно. И второе: если кто из прохожих и мог бы заподозрить, то теперь вряд ли заподозрит, даже тот давнишний исправленный до схожести фоторобот не помешал бы ему вольно гулять по улицам с девушкой среди бела дня. Однако были постоянные простой в профессии и вынужденная безработица. Надо было зарабатывать. Гуляние с Наилей – хоть и небольших – но все же требовало денег. Хотя порой он и чувствовал смутно, что теперь, когда он встретил ее, ему следует что-то предпринять, не может так дальше продолжаться, однако, с детства приученный воровать, с несколько смещенной психикой и деформированной совестью, он не ощущал особого греха, если, ну… слегка украдет при необходимости, ну, совсем чуть-чуть… от избытков… ведь вокруг столько богатых людей, что с ним будет, если немножечко пощипать их, небось, с голода не помрут?..
Он попробовал играть, и ночью отправился в малину с небольшой наличностью, но по закону подлости и по закону игры, когда идешь, чтобы непременно выиграть, проигрался в пух. Ушел чуть не без штанов. Гипербола. Штаны, конечно, на нем были, когда уходил. Но без часов и кольца, имевшегося на безымянном пальце, которым, подобно людям своего пошиба, очень гордился, считая кольцо в какой-то степени показателем высокого уровня жизни, – без них ушел точно. Положение критическое. Где денег добыть? Вот в чем вопрос. Надо было выходить на промысел, искать фраера. А где его возьмешь? Или же вынешь из него какую-то мелочишку, массы прижимистыми стали… Вопреки своим принципам одиночки-индивидуалиста, он согласился и всей шарашкой пошел на дело, чем немало удивил подельщиков. Брали квартиру. Жилец был дома в одиночестве, как раз скучал, что его давно не грабят. Его допрашивали с пристрастием, пока не раскололся и не показал место. Взяли хороший куш, но Шапкин-Шубкин пребывал в беспокойстве, он, можно сказать, впервые засветился, хоть и не принимал участия в избиении, а ходил по квартире, положившись на свою интуицию, и высматривал, вынюхивал, выстукивал. Тем не менее, срок мог набежать приличный – не шутка: ограбление с умышленным членовредительством, в лучшем случае, если повезет – от восьми лет. Все это было очень не по душе Шапкину-Шубкину. Получил свою долю и отвалил. На этот раз обошлось.
Так прошел месяц, но для Шапкина-Шубкина в месяце этом, как в тюрьме строгого режима или на фронте день шел за два, а то и за три – до того насыщены, до того наполнены были дни и часы его, проведенные с Наилей. Но, в отличие от фронта, время его было насыщено непривычной радостью и ожиданием радости, у него необычно (никогда с ним такое не приключалось, век воли не видать!) трепетало сердце, когда он издали видел ее, спешащую на свидание с ним, с ним, с ним, охламоном! (до чего же, должно быть, чистая, наивная девочка, думалось ему в эти минуты), он задыхался от счастья и чувствовал прилив доселе неизведанной гордости, когда она на улице брала его под руку, он таял, буквально таял и изнывал от избыточного счастья своего, когда она просто смотрела на него своими прекрасными задумчивыми глазами… Нет, это был не месяц, это была целая жизнь, новая, тревожно-беспокойно-волнительная, если выразиться изысканно, а если точно выразиться: тревожно-ожидаемая, потому как – примет ли его она, эта новая жизнь?.. И в то же время он боялся думать о дальнейшем, только начинал – и до того все представлялось запутанным, темным и страшным, что он в досаде рукой махал, потом разберемся… С детства приученный к воровству, он не знал другой жизни, и вот она, другая жизнь, предстала перед ним в облике прекрасной девушки Наили, и он всей душой стремился к ней, хотел измениться, но не знал как и с чего начать, не было рядом никого, кто мог бы помочь ему советом, который понадобился ему впервые за тридцать лет, и он боялся, боялся будущего, боялся, что новая, забрезжившая впереди, на смутном пути его, жизнь не примет его, отвергнет, а тогда…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































