Текст книги "Ранняя философия Эдмунда Гуссерля (Галле, 1887–1901)"
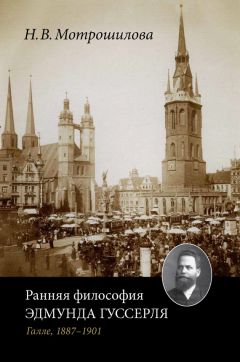
Автор книги: Неля Мотрошилова
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Теперь я кратко разберу те философско-математические идеи Кантора, которые, по моему мнению, должны были повлиять и действительно повлияли на становление философских идей Гуссерля.
§ 2. Философская ориентированность математических исследований Г. КантораСвязь с философией – характерная черта немецкой математики XIX века. В этом отношении Г. Кантор не составляет исключения. Но в его математических исследованиях можно найти немало особенностей именно в характере поворота к философии, и как раз они, полагаю, заинтересовали Гуссерля. Рассмотрим проблему подробнее.
В пользу той идеи, что математические исследования Кантора всегда были тесно связаны с философией, можно привести немало доказательств. Обратим внимание уже и на красноречивый подзаголовок упомянутой ранее работы Кантора: «Математически-философский опыт (построения) учения о бесконечности». И этот опыт (Versuch), как я далее попытаюсь показать, был действительно проникнут философией.
Начиная уже с обоснования понятийной базы (ее разъяснения нам особенно важны, потому что на них опирается Гуссерль в «Философии арифметики»), Г. Кантор вводит в свою работу философские и, в частности, историко-философские элементы. Присмотримся к определению центрального канторовского понятия «Mannigfaltigkeitslehre», «учение о многообразии». «Этим словом, – поясняет Кантор, – я обозначаю весьма широкое научное понятие (Lehrbegriff), которое я пытался образовать, имея в виду специальную форму арифметического или геометрического учения о множествах (Mengenlehre). Под многообразием, или множеством (обратите внимание на это «или», «oder». – Н. М.), я пониманию именно то любое многое (Viele), которое можно трактовать как нечто одно (Eines), т. е. всякое целостное понятие определенных элементов, которое – в соответствии с некоторым законом – может быть объединено в целостность. И я полагаю благодаря этому определить нечто родственное платоновскому эйдосу или идее agathon, как и тому, что Платон в своем диалоге “Филеб, или высшее благо” называет agathon. Он противопоставляет это апейрону или безграничному, неопределенному, каковое я называю не-собственно-бесконечным <…> Платон сам поясняет, что эти понятия имеют пифагорейское происхождение».[155]155
Beförderer der Logik. Bd. 2.1. S. 66.
[Закрыть]
Есть все основания придать этому фундаментальному определению и основанной на нем концепции Кантора чрезвычайное значение. Во-первых, становятся совершенно ясными философские истоки теории множеств, восходящие к самым древним философским идеям и образцам. Ведь уже в древней философии обсуждалась та проблема, которая в математике эпохи Кантора стала актуальной: объединение Многого в прочное Единое, в некоторые наполненные многообразием Единицы, которые тоже можно воспринимать как относительно самостоятельные и весьма многочисленные Целостности, т. е. именно как Множества. Должны были пройти целые века, чтобы математика для самой себя «актуализировала» древние философские идеи, придав им строго и специфически математическую форму.
Необходимо также принять в расчет, что понятия, центральные для канторовского учения – «Множество» (Menge), «Многое» (Vielheit), «Совокупность, Целостность» (Inbegriff), «Многообразие» (Mannigfaltigkeit), «Число» (Zahl) и другие – стоят также и в центре гуссерлевской «Философии арифметики». Гуссерль вводит эти понятия уже в начале первой главы сочинения, обещая впоследствии подробно разъяснить и действительно разъясняя их, разумеется, соответственно своему пониманию.[156]156
Husserl E. Philosophie der Arithmetik // Husserl E. Gesammelte Schriften / hrsg. von E. Ströcker. Bd. 1. Hamburg, 1992. S. 14.
[Закрыть] В этом мы убедимся и в ходе подробного текстологического анализа ФА.
Во-вторых, вовсе неслучайна здесь ссылка Кантора на Платона, на эйдосы, или идеи, как общее философское обозначение подобного рода Целостностей, воплощающих в себе взаимопроникновение Единого-Многого и даже обретающих, согласно платоновской теории, некоторое [квази] самостоятельное существование (в потустороннем «мире идей»). Как известно, математикам всех времен импонировал этот «прием» платоновской мысли – придавать целостным идеальным сущностям (включая математические или «математизованные» идеи) значение некоего (относительно) самостоятельного мира, как бы параллельного миру физических вещей и допускающего специальную работу с его многоразличными целостностями-эйдосами. Ссылка на пифагорейское происхождение такого хода мысли вполне правильна. Особо подчеркиваю, что отсюда – от идей Кантора и других математиков – тянется прямая нить к гуссерлевской концепции «эйдетических сущностей», зафиксированной уже в «Логических исследованиях», но и сохранившей свое значение для всей последующей феноменологии. В I томе «Логических исследований», тоже возникающем «на глазах», особенно заметно влияние на Гуссерля платонистских ориентаций математики (опосредованных концепцией Больцано), хотя во II томе положение заметно меняется из-за возрастания роли трансцендентально-феноменологических ориентаций Гуссерля и его стремления четко отмежеваться от платоновского мифологического «гипостазирования всеобщего». Впрочем, идея о «мире», или мирах всеобщего (например, о мире математических сущностей) всегда владела Гуссерлем и в разных его сочинениях находила вполне рациональное научно-философское обоснование и объяснение.
В-третьих, из фундаментального определения, а тем более из всей теории многообразий, множеств вытекает ее непреходящее философское значение, которое, полагаю, еще недостаточно оценено и разъяснено соответствующими специалистами. В частности, в учении Кантора заключен мощный стимул и уже имеются теоретические элементы, позволяющие строить новое, более «современное» философское учение о бесконечности, учение о едином и многом, опирать его на математику и находить в ней тончайшие оттенки мыслей, которые позволяют и философам усложнять, обогащать свои концепции.
Но и для математиков (впрочем, не только для них) в истории, связанной с именем Г. Кантора, заключен, думаю, полезный урок. Конечно, математические открытия делаются на почве развития самой математики и других точных наук. Но приобщенность к философии, знание ее истории, по-видимому, способствует математическим открытиям, иногда просто инициирует их и уж во всяком случае придает им особую широту, фундаментальность и глубину влияния на самые различные области научного знания и познания. Итак, философская фундированность мысли уже начиная с молодости Кантора была его несравненным преимуществом как ученого, мыслителя, первооткрывателя, что бы ни говорили некоторые математики XX века, утверждавшие, что время «метафизики» в математике уже прошло и что Кантор, возможно, был «последним из могикан»…
В-четвертых, в кантовском философском разъяснении, касающемся многообразий, множеств, имплицитно содержится немало предпосылок для понимания философских же оснований, определивших резкое размежевание Кантора с некоторыми направлениями, концепциями современной ему математики (например, с теми, которые представлены Л. Кронекером). Этот аспект требует, впрочем, специального анализа.
В-пятых, канторовская дефиниция как бы предопределяет не только линию развития математических идей, но и вытекающую из них логическую составляющую, которая (в том числе) дает толчок также и будущему развитию «чистой» логики. Значение этих канторовских ориентаций для будущего развития Гуссерля как логика и философа трудно переоценить.
Мы начали с ранних работ Кантора – отчасти и потому, что их цитирует Гуссерль в «Философии арифметики». Но не только по этой причине. Конечно, понятия в них еще не устоялись; теории множеств еще предстояло пройти достаточно длительный путь оформления и обоснования. И все же нам надо снова и снова подчеркнуть: нельзя недооценивать творческих порывов молодости у тех ученых и философов, которые уже тогда были помечены печатью таланта и даже гениальности.
Из более конкретных аспектов, где можно обнаружить именно сплетение математических, философских, логических, даже эстетических и теологических духовных предпосылок и ценностных установок, представляется необходимым специально акцентировать и охарактеризовать следующую тему, которая ранее в общей форме уже затрагивалась. Кантор придавал большое значение рассмотрению, анализу математических понятийных, логических образований (подобных множествам) в качестве своего рода сущностей (эйдосов), Entitäten, которые могут и должны быть выделены, описаны, даже специально усмотрены как некоторые [квази] обособленные, самостоятельные – но, конечно, идеальные целостности. «Онтологию» такого подхода, как мы видели, он сводил к концепции великого Платона. Как расценить эту сторону идей Кантора? В понятном для философа, особенно для историка философии, воодушевлении тем фактом, что выдающийся математик опирается на понятия, решения философов, в том числе и древних, никак нельзя пренебрегать другим важнейшим, а для математики и более важным обстоятельством. Оно кратко выражено в следующих словах математика Герберта Мешковского, обрисовавшего своего рода исторический парадокс: с одной стороны, Кантор и в раннем, и в позднем творчестве соотносил, даже сообразовывал свою работу с учением Платона.[157]157
Meschkowski H. S. 60.
[Закрыть] «Но именно исследования Кантора по проблеме бесконечного впоследствии привели к тому, что математика XX века отказалась от платоновского способа мысли и вообще от метафизического фундирования. Такова уж была трагика жизни, что Кантор – сопротивляясь многим коллегам – предчувствовал такое развитие, но уже не смог осознать теоретико-познавательное значение данного поворота».[158]158
Ibid. S. 61.
[Закрыть] Однако можно высказать несколько иное оценочное суждение, опираясь именно на Гуссерля. Полагаю, что с преодолением в математике XIX – начала XX века специфически-платонистских обоснований и ориентаций с повестки дня развития этой науки отнюдь не была снята философско-математическая, если хотите, и «метафизическая», проблематика. (В скобках замечу, что и утверждение об окончательной «смерти» платонизма в философии математики XX века тоже страдает некоторым преувеличением. И вот почему: платонизм в чем-то созвучен воззрениям математиков, нуждающихся в своих онтологизациях. Поэтому к «платонизму», пусть модернизированному и смягченному, по-видимому, еще будут прибегать математики.)
Необходимость преодоления платонизма и в его исторической форме, и в виде учений «платонизирующих авторов», понял молодой Гуссерль. Платоновское учение об идеях автор I тома «Логических исследований» тоже назвал «метафизическим гипостазированием всеобщего» (в том числе и всеобщематематического, полагаю я). Однако Гуссерль одновременно остро осознал необходимость предложить новую концепцию, позволяющую не по-платоновски, но все же по-философски проанализировать наличие специфического «мира» чистых (в том числе математических) сущностей, не впадая в мифологические, идеалистические онтологизации и пытаясь очень конкретно исследовать всю специфику работы с ними, которой ведь заняты не только математики по профессии, но и ученые других специальностей. Да и не только ученые, а все люди, которые привычно «видят», «исчисляют», описывают, словом, рождают и обрабатывают (часто не догадываясь об этом) не столько материально-вещные образования, сколько идеальные конструкты разной степени общности и сложности. Феноменология Гуссерля рождалась и развивалась далее (вплоть до смерти основателя) также на этой проблемной почве и на почве всех возникающих здесь теоретических и практических трудностей.
Итак, то обстоятельство, что Гуссерлю была так важна вся эта проблематика, в определенной степени связано с влиянием Кантора. А то, что будущий основатель феноменологии стремился овладеть ею уже на новом, не платоновском пути, свидетельствует о понимании молодым ученым также и математических трудностей, ориентаций, для осознания и признания которых великому Кантору не хватило времени жизни и (рано подорванных) духовных сил. Но осмеливаюсь думать, что и Кантора в принципе удовлетворила бы какая-нибудь более современная платформа, на основе которой можно было бы ввести особый «мир» (или даже множество «миров») идеального и обосновать методологию работы над ним. Вот что важно: на пути к «Логическим исследованиям» и в самом этот произведении Гуссерль будет биться над тем, чтобы разработать и предъявить такую концепцию, необходимую и пригодную для понимания как математических сущностей-целостностей, так и подобных «чистых», отвлеченных образований (или, выражаясь словами Больцано, «истин в себе») в других дисциплинах, прежде всего в «чистой» логике, т. е. концепцию, пригодную для интерпретации всех законов точных наук. (К сожалению, в начале XX века Кантор, как говорилось, тяжело заболевший, вряд ли мог вникнуть в смысл этой теории сущностей своего коллеги и друга Э. Гуссерля.) На протяжении всего многолетнего развития феноменологии Гуссерля не оставлял интерес к этой концепции, философско-математические (и в том числе связанные с деятельностью Кантора) истоки которой не вызывают сомнения.
Что касается самого Кантора, то ему было исключительно важно как бы оснастить свой сущностно-логический подход к математической работе и ее понятиям некоторыми философско-метафизическими предпосылками и основаниями. Он размышлял над тем, как методологически (и даже личностно) обеспечить выход математика из сферы «жизненного мира» (термин позднего Гуссерля), даже из обремененного всякими «определенностями», реальностями математического исследования – в «самостоятельные» и исключительно своеобразные миры, где, так сказать, своей жизнью «живут», «взаимодействуют» математические сущности. Ничего мистического и идеалистического в подобном подходе нет. Вдохновляет и по-своему поражает тот факт, что после «Философии арифметики» Гуссерль сосредоточился на разрешении совершенно аналогичных, родственных вопросов применительно к логике (а попутно и к математике). Ответом на них был, прежде всего, I том «Логических исследований» – а потом и спешно оформляемая, имплицитно содержащаяся в «Логических исследованиях» идея феноменологической редукции. Выполненная сначала на материале философии и логики, концепция феноменологической редукции, феноменологического epoché в действительности отвечала на более общую теоретическую потребность тех наук (или областей научной мысли), которым было необходимо теоретически осмыслить и методологически грамотно осуществить выход в «миры» чистых сущностей. Затем, уже в поздний период, Гуссерль снова свяжет эти принципиальные идеи и установки своей философии с опытом математики, которому вполне справедливо будет придано принципиальное, парадигмальное научно-теоретическое, философское и даже цивилизационное значение (речь идет об известных исследованиях позднего Гуссерля, касающихся происхождения геометрии).
Любопытно, что в деятельности Кантора описываемые здесь общие идеи, повороты внимания, методологические поиски (как сказано, философские, эстетические, даже теологические) одновременно влияли и на самые конкретные математические размышления и устремления. Что касается конкретной математической работы, то даже размежевания с линией Кронекера восходили к означенным методологическим поискам. Если Кронекер и его сторонники все время акцентировали «определенность», в некотором смысле «материальную» реальность объектов и средств математической работы, то Кантор настаивал на необходимости методологического «очищения», движения ко всё более «чистым», общим, как бы «парящим в воздухе чистого математического фантазирования» математическим образованиям. Правда, и их он считал «реальными» – но в совершенно особом значении и смысле.
В плане метафизических, эстетических устремлений считаю весьма метким следующее наблюдение Герберта Мешковского, исследователя учения Кантора: «Можно сказать так: теория Кантора – подтверждение (Beleg) того факта, что человеческий дух может обретать такие структуры, для коих в природе нет никакого прообраза. Деятельность творческого математика возможно сравнивать с творчеством современного художника, который в своем произведении стремится воплотить некоторые ви́дения, для которых в природе нет прообраза. Миры, создаваемые благодаря междисциплинарной деятельности математиков [правда], кажутся нам более значимыми, чем те, которые могли бы открыть своенравные художники. Но у художников, возможно, иное мнение по этому вопросу. Во всяком случае, у творений математиков есть подлинный шанс, что они когда-то станут пригодными для описания реального мира, пусть сначала они и не демонстрируют таких возможностей».[159]159
Meschkowski H. S. 218–219.
[Закрыть] Отвлекаясь от вопроса о сравнительной значимости «миров» математики и искусства, можно признать вполне точным это фиксирование мотивации математиков, свободно и творчески работающих в совместно, на протяжении всей истории создаваемых и видоизменяемых «идеальных мирах».
В подтверждение своего суждения Г. Мешковский приводит следующий карандашный набросок, найденный в бумагах Кантора после его смерти и очерчивающий введение к работе «О связи учения о множестве с арифметикой». Он условно датируется 1913 годом: «Без крупицы метафизики, по моему мнению, нельзя обосновать ни одну точную науку. Да извинят мне те немногие слова, которые я во Введении отваживаюсь сказать об этой, в новое время по большей части столь скомпрометированной доктрине. Метафизика, как я ее понимаю, есть учение о сущем (vom Seienden), или, что то же самое, о том, что наличествует здесь (da ist), т. е. существует, а следовательно, о мире, каков он сам по себе, а не каким он [нам] является. Все, что воспринимается с помощью органов чувств и что представлено нам с помощью нашего абстрактного мышления – не-сущее (Nichtseiende) и в лучшем случае есть след в себе сущего.
А то, что сущее есть, мы познаем не через наше абстрактное мышление; скорее, мы ощущаем это в нас самих, и мы тем самым совершенно уверены в сущем, не нуждаясь в доказательствах этого. Мы суть (sind), т. к. мы существуем, следовательно, сущее есть, дано. Не только мы есть, наличествуем (sind da); и другие, отличные от нас сущие есть, наличны (sind da); мы живем вместе и составляем один мир, части которого сообщаются друг с другом. Тот, кто отваживается отрицать это, пусть погрузится в свое я и посмотрит, далеко ли он продвинется. Любое сущее может стать предметом нашего мышления. Тогда мы называем его вещью, а любое не-сущее, которое становится предметом нашего мышления, это не-вещь (Unding, non ens). Вот я и есть вещь, и всякий другой человек – тоже вещь».[160]160
Цитир. по: Meschkowski H. S. 114.
[Закрыть]
Процитировав этот выразительный отрывок, математик Г. Мешковский справедливо замечает: «С этими положениями согласится любой мыслитель, который сегодня, вместе с Хайдеггером, сетует на “забвение бытия” современным человеком».[161]161
Ibid. S. 114.
[Закрыть] Но тут Мешковский ставит вполне резонный вопрос: а что общего имеет теория множеств с таким отвлеченным философским понятием, как «бытие»? Не стану приводить его конкретные доводы, выражу лишь общий смысл, как я его понимаю.
Этот уважаемый математик различает, даже разводит те тезисы, положения, выводы учения Кантора, которые сохранили свое непреходящее значение, и те онтологизации, за которыми стояла попытка как бы превратить математические (и другие научные) понятия в некоторые якобы самостоятельные сущие. Скажем, актуально-бесконечное выступает у него в двух «обличьях» – in abstracto и in concreto. И как раз во втором случае Кантор принимает «множество атомов универсума за исчислимое». Ссылаясь на пространное письмо Кантора к Миттаг-Лефлеру от 16 ноября 1884 года, в котором Кантор (надо сказать, постоянно колеблясь и противореча самому себе) в конце концов высказывается за принятие некоторой «точечной», но все же материалистической атомистики или, вернее, учения об элементах – как пишет Кантор «сотворенных, но после сотворения самостоятельных, неразрушимых, простых, непротяженных, наделенных силой элементах».[162]162
Цитируется по Meschkowski. S. 247.
[Закрыть] Иными словами, философские размышления о сущих «самих по себе» были для Кантора никак не посторонними и не второстепенными. Они укладывались в общую картину мира и одновременно позволяли этому замечательному математику развить конкретную часть своего учения об актуально-бесконечном. Г. Мешковский делает вывод: «Доказанные в то время Вейерштрассом и Миттаг-Лефлером положения теории функций сохраняют свое значение и сейчас; канторовское доказательство неисчислимости континуума и сегодня есть прочный исследовательский результат, а вот “гипотезы” о структуре материи давно устарели».[163]163
Ibid. S. 115.
[Закрыть]
Всё это, конечно, верно. Однако нельзя не признать и того, что математики, как и другие ученые, не только в XIX веке, но и в XX и XXI столетиях испытывали и будут, вероятно, испытывать потребность в таких онтологизациях, которые позволяют им как бы «видеть», «исчислять» идеальные, абстрактные сущности. В. Гайзенберг верно отметил, что атомы современной физики абстрактнее, чем атомы греков. Но ведь и современные физики, работая с приборами и воздействуя на материальные процессы, постоянно прибегают к каким-то в целом плодотворным онтологизациям, онтологизациям воображения, к этим «сущим как если бы»… Изменить это положение вряд ли возможно, да и желать таких изменений вряд ли целесообразно. Однако и философия к XIX столетию внесла свой вклад в устаревшую онтологизацию – в духе теории эфира – тех или иных отдельных сущностей, процессов, результатов. Кантор, выходя на уровень «метафизики», нередко мыслил в согласии с этими духовными установками и привычками. Кстати, достаточно важно замечание Мешковского о том, что гораздо быстрее, чем в философии арифметики, онтологизирующий подход разрушался в геометрии, в связи с появлением геометрии Лобачевского-Римана. Но вот тут имел значение факт, отмечаемый Мешковским:[164]164
Ibid. S. 116–117.
[Закрыть] Кантор, по-видимому, очень мало обращался к геометрии. Во всяком случае, свидетельств этого нет ни в опубликованных сочинениях, ни в переписке.
Что касается Гуссерля, то он – но только к концу пребывания в Галле, и не в I, а во II томе «Логических исследований» – начал, и лишь начал, отвечать на эту ситуацию философским трансцендентализмом, который тоже стал ясным и последовательным только в «Идеях I». Для Гуссерля это был постепенный поворот к Декарту и Канту от онтологизирующих, еще гегельянских устоев, привычек как философии, так и (мы теперь это видим) математики, естествознания того времени. Как трудно такой переход давался даже философам, видно из того, сколь прохладный прием «Идеи I» встретили в ближайшем кругу верных учеников и последователей, которые надеялись, что феноменология, учение о «чистых сущностях» все еще пребывает в чистом эфире «Логических исследований».
Меня, признаться, поражает то, как философия помогает Кантору, когда он, скажем, стремится вырваться за пределы только «конечных», только «действительных», только «рациональных» чисел и ввести непривычные для традиции понятия иных «числовых классов». Правда, он признает, что немалое число математиков его времени развивает математическую науку только на базе «конечных целых чисел». И для них все известные и высоко оцениваемые достижения математики (Infinitesimalanalysis, анализ бесконечно малых, теория функций) «только в том случае легализованы, если их положения доказуемы» на основе законов целых конечных чисел. «С таким пониманием математики, хотя я с ним не могу согласиться, связаны, – признает Кантор, – известные, ставшие бесспорными преимущества, которые я хотел бы здесь подчеркнуть; в пользу его значимости говорит и то обстоятельство, что к его представителям принадлежит часть заслуженных математиков современности».[165]165
Ibid. S. 76.
[Закрыть] И все-таки Г. Кантор отваживается идти против столь мощного потока господствующего математического знания. Конечно, он идет по этой дороге не один – на его стороне исследования, идеи Вейерштрасса, Дедекинда и других ученых. Но есть еще одна надежная опора новаторских устремлений Кантора. Это философия, ее история.
Кантор вступает в чрезвычайно интересный и плодотворный диалог с целой когортой великих философов; среди них – Аристотель, Платон, Николай Кузанский, Джордано Бруно, Спиноза, Лейбниц. Весьма примечательно, что эти философские и даже историко-философские рассуждения тесно связаны с центральным понятием, над которым усиленно работала вся школа Вейерштрасса. Это понятие числа. Но ему, как и конкретным историко-философским разработкам Г. Кантора, следует посвятить самостоятельные исследования, которые выходят за рамки нашего анализа. Вместе с тем к другим “пересечениям” идей двух ученых – Кантора и Гуссерля – мы обратимся далее в рамках более конкретного по темам философско-математического анализа.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































