Текст книги "Волшебный камень"
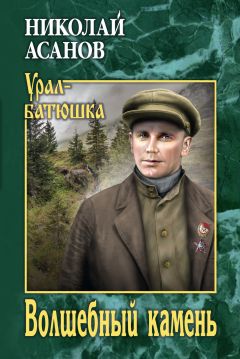
Автор книги: Николай Асанов
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
Саламатов вздохнул и сказал тоном задушевного признания:
– Эх, поздно мне учиться вашей науке! Но решайте как хотите, а я с Нестеровым.
– Вы кому верите, геологу или мечтателю? – взорвался Палехов.
– Сталинградцу, – медленно ответил Саламатов и повторил с угрожающей силой: – Сталинградцу и открывателю. Нестеров уже нашел здесь девять кристаллов. Он делает полезное дело. Его доводы мне кажутся правильными. Я за него.
– Вы понимаете, какую ответственность берете на себя? – не унимался Палехов, вдруг почувствовав, как шатается все построенное им здание, как распадается фундамент, сложенный из хитроумных аргументов, и все это только из-за того, что Саламатов снова склоняется на сторону Нестерова. – Ведь вы же не геолог! – не сдерживаясь, выкрикнул он.
– Да, – спокойно сказал Саламатов. – Я не геолог. Но за этой разведкой я вижу то, что никому еще не видно. Если Нестеров найдет алмазы, здесь будет прииск, сюда проведут железную дорогу. Вот вы, Борис Львович, открыли на Колчиме красный железняк и закрыли его обратно. – Он сделал смешное движение рукой, показывая, как Палехов «закрыл» месторождение. – Вы были правы, его оттуда не достанешь. Но если сюда проведут дорогу, то и там построят завод. Вверх по течению Дикой есть медистые песчаники. Варвара Михайловна говорит, что они тощие. Но если будет дорога, там будет рудник. Эти леса недоступны ни для сплава, ни для вывоза, но будет дорога – они пойдут в Ленинград и Сталинград. Сейчас у меня в районе едва наберется тридцать тысяч жителей, а тогда будет триста тысяч. Будет открыта новая земля! С кем же мне идти – с вами или с Нестеровым?
– А кто будет отвечать за неудачу? – истерически выкрикнул Палехов.
– Вот-вот, для вас главное – кто ответит, а для Нестерова – как ему ответить на доверие народа. Что ж, мы ответим…
– Игнатий Петрович… – заговорил было Нестеров, но секретарь перебил его:
– Помолчи! Может, еще будешь ругать меня за то, что я не вытащил тебя отсюда…
Варя, не сказавшая почти ни слова в этом страстном споре, – может быть потому, что боялась обидеть Сергея, – тихо спросила:
– Значит, остаешься, Сергей?
– Да.
Она вышла из палатки. За нею, помедлив немного, пошел Палехов. Подняв полог, он остановился, сказал:
– Жаль мне тебя, старик. Теория тебя подвела. Отдохнул бы немного, а потом хоть на Саяны. Там, слышно, тоже алмазы ищут. А еще лучше – пошел бы со мной за редкими землями, на них теперь большой спрос. Чем ты ответишь при неудаче?
– Головой, – упрямо сказал Нестеров.
– Ой, отрубят!
– А я не боюсь.
– Ну, прощай, упрямый человек. Оставляй себе некоторое количество рабочих, но поменьше. Я ведь тоже упрям, так этого дела не оставлю, помни на всякий случай. – Произнеся эту формулу объявления войны, он вышел и уже за палаткой закричал: – Варвара Михайловна, собирайтесь!
Варя где-то близко ответила:
– Я уже давно собралась.
Саламатов посмотрел на удрученное лицо Нестерова, вздохнул, пожал плечами и вышел. Нельзя мешать человеку, когда он горюет.
Нестеров тщательно убрал отчеты, постоял немного, будто вспоминал что-то и не мог вспомнить, затем откинул полог.
Лагерь шумел. Бежали люди, таща чемоданы на сборное место. Те, кто оставался с Нестеровым, стояли кучкой поодаль и провожали отъезжающих насмешками.
Навстречу Нестерову шел Лукомцев с чемоданом в одной руке и с баяном через плечо. За ним шла Даша.
Нестеров сказал:
– И ты, Андрей?
– Эх, Сергей Николаевич, – грустно сказал Лукомцев, – обманывает тебя твоя наука. Уж если у старателя руки тоскуют, значит, ничего здесь нет!
– Куда же ты теперь? Опять по лесам зимогорить?
– Нет уж, теперь моя судьба оседлая. Поеду к товарищу Суслову. Он, слышно, жилу потерял, посмотрю, не найду ли ее. У меня среди горщиков приятелей много; иное чутьем, иное знанием поищем – а вдруг найдем?
– Желаю удачи, Андрей! Мне чутье и знание твое тоже пригодилось бы, но держать не могу. Прощайте, Даша!
Она вдруг заплакала, уронила мешок, села на него, размазала слезы по лицу.
– Да разве я еду, это он – горе мое – уезжает!
Нестеров ошеломленно посмотрел на нее:
– Зачем же вам-то оставаться?
– А кто же останется, если не я? Юля-то сдалась! А рентген без присмотра не оставишь, самому вам сидеть за ним некогда будет… – И опять заплакала.
– Ну, ну, Дашулька, – неуклюже погладил ее по голове Лукомцев, – не на век расстаемся! А это ты правильно придумала. Пусть товарищ Нестеров не считает, что мы оба как вешний лед, есть у нас в семье и каменные характеры… – Он поднял Дашу, поклонился Нестерову с опущенными глазами, и они пошли к месту сбора: он – с потускневшим бахвальством на лице, она – плача.
Юля пробежала мимо Нестерова с чемоданом Вари. Увидев Сергея, она приостановилась, заговорила горячо и быстро:
– Вы не подумайте, Сергей Николаевич, я ведь только потому, что Варя…
Он перебил ее, грустно сказав:
– Ничего, ничего, Юля, это ведь тоже подвиг – вовремя уйти!
Девушка опустила голову и побежала бегом.
Подошел Саламатов, обнял Сергея, отступил на шаг, осмотрел с ног до головы, сказал:
– Ничего, выдержишь! Бывало и хуже – выдерживали… – Вздохнул, хлопнул себя по шее: – Вот где у меня эти геологи сидят! Главное-то ведь в Красногорске начнется. Там им тебя стыдиться не надо, и пойдет! Комиссии да комитеты, доклады да отчеты! – И вдруг взмолился: – Найди ты, пожалуйста, эти алмазы, Сергей! Ведь и мне нелегко за тебя отбиваться! Подумай, что за этими камешками лежит! Вся здешняя земля их появления ждет, чтобы зацвести. У меня срок небольшой по земле ходить, а хочется увидеть ее другой.
– Что ж, не найду – отвечу.
– А ну тебя! Отвечать – так уж вместе! Продуктов тебе завезли, забойщики у тебя есть. – Помолчал немного, грустно сказал: – Не такое я ожидал тут увидеть, да что поделаешь. Не будем терять надежду. Только голову не теряй. – Быстро поцеловал Нестерова и пошел не оглядываясь.
Варя, должно быть выжидавшая, когда Сергей останется один, вдруг вышла из палатки, подошла к нему быстрыми легкими шагами, с поднятыми руками, похожая на летящую птицу, обняла его и заплакала, без удержу, горько, словно над мертвым. Он, охваченный жалостью к ней, понимая, что она оплакивает все: надежды, разлуку, боязнь за него и за себя, неверие в будущее счастье, прижал ее на мгновение, потом приподнял ее голову, взглянул в потемневшие глаза.
– Сергей, я буду в Красногорске, пока не кончатся камеральные работы. Может быть, ты еще вернешься.
– Ах, Варя, ты когда-то говорила, что есть два типа женщин: бунтовщица и раба. Но есть еще помощница. Я думал, ты будешь такой…
Он говорил это, готовый простить ей все, ее капризы, ее измену, лишь бы она вдруг сказала: «Ты прав, я остаюсь!» Но она выпрямилась, как будто ей стало стыдно за свой порыв, отстранилась, сказала:
– Поступай как хочешь. Я вижу, кого ты ждешь на помощь!
– Варя!
Но она уже уходила вслед за другими, не оглядываясь. Он постоял немного, пока ее фигура не скрылась за деревьями, обернулся к молчаливо окружившим его забойщикам, сказал:
– Ну что же, товарищи, пора за работу!
Он мельком пересчитал их. Осталось меньше половины. Но были же в его жизни дни, когда у него тоже оставалось мало людей в батальоне, и тем не менее они совершали невозможное! Стоит ли вздыхать раньше времени? Огорчение и жалость к себе убивают силы…
И его товарищи, как будто поняв эти не сказанные им слова, торопливо взялись за инструменты. И так пропало полдня…
Глава двадцать первая
Иглой дорогу не меряют…
Народная пословица
1
Нестерова разбудило тягостное ощущение мертвой тишины. Лучи солнца пробились сквозь незаметные отверстия в брезенте палатки и испещрили сумрак тонкими полосками. Брезент стал похож на бархат в витрине с драгоценными камнями, и камни лежали на нем в беспорядке, который мог бы вызвать зависть у художника. Нестеров удивился, что его не разбудили, хотя было уже поздно. Он торопливо поднялся и вышел, щурясь от яркого света.
В ту же минуту он вспомнил вчерашний день.
Тишина окружала лагерь. Палатки были пусты, костры погашены. Нестеров выругал себя за леность и торопливо пошел к дальним шурфам, которые они начали бить вдоль Голубых гор вчера после ухода Меньшиковой.
На увале он остановился и оглядел лагерь. К сердцу хлынула кровь, оно забилось гулко и тревожно. Много путей прошел Нестеров, он знал и пустоту одиночества, и боль поражения. Пыль военных дорог скрипела у него на зубах. Но никогда еще не испытывал он большей горечи, как будто его окружили изменой.
Лагерь был пуст. Никто не возился у промывочных машин. Привезенная вчера порода уже высохла и потеряла свой темный, влажный цвет, став тусклой и пыльной. Не было оленей Иляшева: он повез груз уходивших и не вернулся. Вода торопливо изливала свою злобу, грохоча откинутыми досками промывального станка. Вашгерд преграждал ей дорогу, и она, швыряя белую пену на заградительные сукна, пыталась сбросить и уволочь его вниз.
Была изменчива даже тишина, опасным казался обожженный, высохший лес. Только у горы, на востоке, слышались отдаленные, приглушенные голоса людей, как будто те, кто остался с Нестеровым, испытывали такое же неловкое чувство боязни, какое вдруг обеспокоило самого Сергея. Нестерову показалось, что он все еще живет во сне, надо проснуться, чтобы сбросить с себя это тоскливое оцепенение.
Он усмехнулся. Эта усмешка возвращала жизнь. Значит, можно усмехаться и жить, думать и трудиться, какое бы горе или измена ни обрушились на тебя. Медленно, но уже уверенно он пошел на голоса.
Итак, он снова в меньшинстве. Но что помешает ему продолжить работу? Руки его крепки, спина сильна, вера его осталась с ним. Иногда обиды и поражения приводят именно к тому, что рождается сила сопротивления, которая потом приносит победу… Побеждают его боевые товарищи, прошедшие путь от Сталинграда до Белгорода, – он тоже пойдет своим путем, пока не победит.
Увидав на первом шурфе Головлева, он вполне оценил участие старого товарища. Парторг сам распределил работу, тщательно согласуясь с заметками Нестерова. Он, должно быть, хотел, чтобы Нестеров немного «отошел» после той боли и горя, которые доставил ему вчерашний день. Но эта забота обижала Нестерова, ему не хотелось излишнего участия, которое выделило бы его среди товарищей, и он строго спросил парторга, почему его не разбудили в шесть часов утра. Вчера они решили большинством голосов, что увеличат свой полевой день на два часа. Только при таком распределении времени они с оставшимися забойщиками успели бы закончить все запланированные работы.
Головлев смущенно улыбнулся и перевел речь на другое. Не лучше ли ставить забойщиков по два человека на шурф, а не по три, как предполагалось вчера? Их всего восемь человек, тогда можно будет бить сразу четыре шурфа. Сам Нестеров и Даша станут заниматься проверкой проб. Что касается переброски породы к вашгердам, то теперь, когда у них не осталось оленей, придется, видимо, довольствоваться частичной промывкой…
Он говорил это спокойно, уверенно, зная, что только эти важные для всех вещи и могут отвлечь каждого из них от тяжелых и грустных мыслей. Если Нестерова гнетет измена Вари, то и остальным не легче. Одним горько при мысли о товарищах, покинувших их, другие, может быть, жалеют, что остались, третьи, те, кто послабее душой, теперь, когда одиночество каждого превратилось в пугающую реальность, хотели бы бросить все и уйти. Сколько голов – столько умов. И Головлев говорил для всех, обращаясь к Нестерову. Стоит занять мозг решением простых, но насущных вопросов, и человек оживляется, забывает свои страхи.
Нестеров взглянул на Дашу. Она, с красными, заплаканными глазами, набирала породу из основания выброшенной горки в кожаную кису, не вмешиваясь в разговор. Головлев сказал:
– Вот Даша предлагает выборочную промывку. Тот шурф, который покажет присутствие ультраосновных пород, можно будет затем проверить целиком, а пока брать по мешку, по два… Если бы они оленей хоть оставили, – с неприязнью, первый раз за весь разговор вспомнив об ушедших, вдруг сказал он.
– Иляшев может вернуться, – сказал Нестеров.
– Навряд ли, – неохотно ответил Головлев.
Поминать Иляшева не хотелось. Даша взвалила мешок на плечи и пошла вниз, к вашгердам. Нестеров пометил места будущих шурфов, взял лопату и сменил Евлахова. Черная земля, которую надо было ударить лопатой, поднять и выкинуть на поверхность, на время заслонила все. Он опять как будто рыл окоп, чтобы защитить себя от вражеской пули. Евлахов, посмотрев, как Нестеров управляется с лопатой, взялся за топор, чтобы расчистить место следующего шурфа.
Поразительно было это общее единодушие, стремление сделать как можно больше. С теми малыми силами, что оставались у них, так легко было впасть в уныние, и этого, признаться, побаивался Нестеров. «Допустим, – думал он, – сам-то я верю в алмазы и не страшусь препятствий. Но вселил ли я такую же страстную веру в других?» И вот теперь он видел, что его чувство передавалось товарищам, а если они и не верили с той же страстью, то хотели помочь ему, облегчить его труд, и уже за это самоотверженное желание он должен был благодарить их. А они не хотели никакой благодарности, они признали его дело своим, и надо было лишь самому держаться с таким же простым и бесхитростным спокойствием, с каким держались они, надо было по столько учить их, сколько учиться у них…
Сняв слой почвы, он сменил лопату на кайло и отправил своего помощника к следующему шурфу. Одному легче было работать и думать. Выпрямляясь, чтобы перевести дыхание и дать отдых сердцу, он взглядывал вдоль голубой линии гор, прикидывая размеры предпринятой ими работы. Если они будут каждый день трудиться с мужеством и умением первоклассных рабочих, они, несомненно, закончат разведки до наступления осенних дождей. И снова склонялся с кайлом к тяжелой породе, как будто эта мысль увеличивала его силы.
Из каждого отбитого кубического метра породы он набирал полную кису пробы. Эти мешки он отставлял в сторону, чтобы заняться более легким делом промывки вечером, когда устанет. Останавливался он не чаще, чем того требовала работа, и знал, что в такую же полную силу работают все его помощники.
Один раз ему послышалось, что где-то далеко раздался зов:
– Сергей Николаевич!
Он прислушался. Гудели комары. Шелестела трава. С тяжелым жужжанием поднялся с откоса шмель. При желании можно было услышать все, что угодно. Он вытер пот с лица и снова склонился над неподатливой землей.
Он забыл течение времени. Только ощутив дрожь в руках, он подумал, что надо установить регулярные перерывы для еды и отдыха. Если этого не сделать, то люди могут свалиться от переутомления. Ему-то легче, чем другим. У него работа будет разнообразная – и промывка, и проверка проб рентгеном, – а всякая перемена уже отдых. Куда труднее забойщикам. Головлев, Евлахов и он вчера еще подсчитали, что каждому забойщику придется делать по две нормы, чтобы успеть закончить задуманное. Головлев уже, наверно, отправил дежурного в лагерь, чтобы приготовить обед на всех. И, тут же забыв об этом, снова склонился с кайлом.
Послышались чьи-то шаги. Выпрыгнув из шурфа, он лицом к лицу столкнулся с Иляшевым.
Иляшев хмыкнул, посмотрел на шурф, на Нестерова, сказал:
– Однако я знал, что ты робить будешь. Она говорит: «Все равно Сергей Николаевич нас на первой версте догонит». А я думаю: если человек далеко идет, он останавливаться на привал не часто станет… У тебя дорога дальняя, возьми меня в товарищи! А ту лукавую я на тропу поставил, больше у меня с ними дел нет, они и сами доберутся… – И виновато посмотрел на Сергея.
Больше всего Нестерова огорчило именно то, с какой легкостью покинул его Иляшев. Он мог бы назвать это бегством, если бы другие не заслужили названия беглецов с большим правом. Все остяки могли давно уйти, и он не сердился на них. Но то, что ушел этот мудрый старик, обижало и вызывало какое-то чувство сомнения. И вдруг он вернулся.
Нестеров швырнул кайло, ударил по протянутой, похожей на нестроганую дощечку ладони старика своей ладонью и сказал:
– Что ж, перекурим мировую, Филипп Иванович! Признаться, мне было горько, что ты ушел с ними.
– А ты как думаешь? Я ваших споров не понимаю. А сатана человека до самой церкви провожает, только на паперти останавливается. Мне парма как церковь. Как только в нее зашли, так у меня все и прояснилось. Почему, когда она вышла от тебя, глаза у нее были сухие? Если бы за радостью приходила, шла бы, как пьяная, улыбалась бы небу и себе. Я женщин почитай пятьдесят лет знаю, все их лукавство и все их хитрости выучил. А ты лицом не темней, Сергей Николаевич, много еще забот впереди. Будет время и от горя высохнуть.
Он говорил все это в утешение. Для утешения он мог и соврать, и сказать самую горькую правду. Понюхал табаку, засунул тавлинку поглубже, поднялся.
– Тут теперь я робить стану, а ты иди другие дела приделывай, чтобы у тебя одно за другое не забегало. – И хитро добавил: – Те, что ушли, все ссорятся. Саламатов меня отозвал, сказал: «Пусть хоть подерутся, может, тогда правду поймут!» Не знаю, как они, а я понял… А ты посчитай все вперед. До Ильина дня работать будет хорошо, после Ильина дня дожди пойдут. Хороший хозяин на каждую погоду свое дело имеет, а хозяйство от того только в красоту входит…
Сергей молчал, слушая эти присловья. Старик вдруг с горечью сказал:
– Жаль, однако, что я не всех оленей у них забрал. Но подумал: пошто обижать несмышленых? Мы, может, и с одной упряжкой обойдемся…
– Так ты и оленей привел? Да где они? – обрадовался Нестеров.
– А их Голова уже на работу поставил, – с уважением сказал Иляшев о Головлеве. – Почему же ты думаешь, будто я, как плохая невеста, к тебе приду без приданого? – обиделся он. – Если хороший человек обеднел, так ему и соседи помогут…
– Ничего, ничего, – успокоил его Нестеров, – хватит и одной упряжки. Путь до речки теперь короткий, промывать только образцы станем. А несмышленых и верно обижать не надо…
Он вдруг примирился и с уходом Вари. Подумалось: а может быть, это к лучшему? Ее недоверие слишком мешало ему. И как только он решил это, стало легче на душе. Он заторопился на вашгерд, словно ждал немедленной награды за свою выдержку и верность товарищей.
2
Он завел строгий порядок: каждый вечер, за общим ужином, когда все сидели за столом, ели пахнущий дымком кулеш или подстреленную Иляшевым дичину, он сообщал о результатах работы за день. И все, он знал, ждали этого часа. Он давно уже считал сидевших рядом с ним за столом не просто работниками, а соратниками в той борьбе, которую начал. И хотя ничего веселого он не говорил, товарищам его было легче знать самое тяжелое, чем биться, не представляя цели.
Если люди были слишком усталы, Филипп, каким-то чутьем понимавший, когда доброе слово нужнее всего, вступал в беседу с какой-нибудь присказкой. Однажды он вдруг сказал:
– Удача как лесная гора. Рядом стоишь, а ее за деревьями не видно. Только слышишь, как ручей журчит, камни под ноги попадают, идти вроде тяжело. А потом вдруг вся небесная и земная ширь откроется – и станет на душе легко, будто в русской бане вымылся. А побойся до отступи – все сгинет, только елки бородами кивают, над тобой, дураком, насмехаются…
Горы стояли рядом, но они действительно были не видны за потемневшим лесом, за елями, с которых свисал густой мох, будто деревья таили в бороде лукавую усмешку. Головлев добродушно сказал:
– Ничего, мы все вверх будем карабкаться. Устанем идти – на четвереньках поползем. Правда, Сергей Николаевич?
– Авось и выдержим, – позевывая, подтвердил Филипп.
Спокойная уверенность товарищей была как будто даже крепче стремительной веры самого Нестерова. И он почувствовал себя так, словно в долгом пути оперся на твердую руку проводника.
Хуже было с Дашей. Оставшись без Андрея, она утратила ясное свое спокойствие и твердость духа. Не один раз Нестеров, сидя напротив нее за черной лентой транспортера под рентгеном, видел у нее на глазах слезы. Камни текли бесконечной рекой, светясь всеми цветами радуги, недоставало только голубого цвета алмаза. Иногда Нестеров выключал на десять – пятнадцать минут аппарат, чтобы глаза отдохнули от призрачного свечения, движок замолкал, Даша откидывала полог палатки, в помещение хозяином входило солнце. Нестеров поднимал глаза и видел утомленное, бледное от напряжения лицо Даши, и ему становилось жалко ее. Она же, поймав его взгляд, торопилась снова задернуть полог и просила:
– Включите мотор, Сергей Николаевич, у нас еще два ящика концентратов.
Сергей поговорил о ней с Головлевым. Головлев согласился, что Дашу надо отпустить. Иляшев мог проводить ее до Дикого, а там дорога простая…
Условившись об этом, Нестеров заговорил как-то с Дашей об отъезде.
Даша вскинула на него обведенные темными кругами глаза, вдруг встала, машинально смешала отобранные под рентгеном кристаллы граната, сухо спросила:
– Выходит, я хуже всех?
– Нет, Даша, – примирительно сказал он, – но вам труднее, чем другим. Да и Андрей…
– Андрей от меня не уйдет, – отрезала она. – А не поклонясь земле, и гриба не поднимешь. Так что уж давайте вместе ей кланяться!
Сергей попросил поговорить с Дашей Головлева. Но с тем она просто поругалась, и больше этот разговор не поднимался. Да и сама Даша стала как будто легче переносить разлуку с мужем, а может быть, теперь она боялась показать свою тоску.
Больше всего дивился Нестеров тому, что никакая неудача, никакая тяжелая работа не отражались на здоровье его и его помощников. Они как будто раз навсегда прогнали болезни, уныние, грусть из своего лагеря. Сам Нестеров чувствовал себя так, будто исполнилось врачебное предписание или предчувствие его давнего знакомца, госпитального врача. Ни разу не возвращались ни головная боль, ни состояние слабости и тяжести, столько раз наваливавшиеся на него в те дни, когда он и работал меньше, и ел лучше. Все тело его налилось здоровьем и силой. И он с удовольствием думал о том, как, закончив работу, навестит доброго этого человека и поблагодарит за рецепт. И, уж конечно, тогда врач не откажется вернуть его в армию.
Но все эти мечты были ограничены сроком: когда он добудет алмазы. Дело было даже не в сроках, а в твердой уверенности, что произойдет это скоро – еще не сегодня, не завтра, но скоро.
По-прежнему раз в три дня он сообщал Саламатову данные о своей работе. Он не спрашивал о Варе и Палехове, а Саламатов, как видно, не хотел тревожить его и тоже молчал о них. Только однажды, как бы невзначай, Саламатов сообщил, что Меньшикова не уехала, что она работает на руднике у Суслова. И Сергей подумал: «Любопытство остановило ее или она еще ждет меня?»
Но все труднее становилось думать о постороннем, а Варя была посторонним в этой жизни. Постепенно росло утомление. Этого больше всего боялся Сергей. Оно накапливалось незаметно, начиналось с того, что кто-то ссорился, кто-то уходил на полчаса раньше в лагерь, а кончилось тем, что у них появился первый отступник – и, что было горше всего для Нестерова, им оказался Иляшев.
В начале августа, как раз в Ильин день, согласно предсказанию Иляшева, начался затяжной дождь. Долину заволокло желтым туманом. В короткие солнечные проблески с неба не сходила пологая радуга, концы которой явственно уходили за горы, – все предвещало долгую непогоду.
Может быть, именно вынужденное безделье – в такую погоду нельзя было бить шурфы, и все работы ограничивались просмотром проб под рентгеном – замучило старика. Он стал молчалив, о чем-то задумывался, вдруг начинал заговаривать на своем языке, не слыша обращенных к нему вопросов. Нестеров решил, что старик болен. – Он попросил Дашу сварить отвар из осиновой коры – может, у него лихорадка, а хинин кончился, – приготовил чай с малиной и пригласил Иляшева к себе.
Рабочие уныло сидели по палаткам, негромко разговаривали или лежали, пытаясь во время этого вынужденного безделья выгнать из тела усталость. Нестеров только что обошел шурфы. Они были залиты водой. Ночной бурелом, пронесшийся над лагерем, завалил часть разработок столетними деревьями.
Закончив работу по облучению последних проб и выбросив пустые шлихи за откинутый полог палатки, Сергей посмотрел на отвал пустой породы, сползавший серым языком с косогора. Сколько надежд и мучений похоронили эти отвалы! Сквозь мутную пелену дождя был виден притихший лагерь. И Сергей почувствовал, что нет у него сил, чтобы отвернуться от этой картины запустения. Иляшев покашлял за его спиной. Не оборачиваясь, как бы продолжая какой-то давний разговор, Сергей сказал:
– А может быть, они правы, Филипп, – нет здесь алмазов?
Филипп молчал. Нестеров подумал, что старик не слышал его, но ему было стыдно обернуться. Неожиданно Филипп сказал ясным, тихим голосом:
– Есть у нас сказ, Сергей Николаевич. Пошел один человек в гости к солнцу, да попалась ему на дороге гора. Вот и задумался человек: одолеет ли он эту гору? Думал, думал и решил свернуть в сторону. И столько времени путался, что солнцу надоело ждать гостя, – оно и зашло. Так человек и остался в темноте. Это я к примеру сказал, а есть ли алмазы – про то тебе, ученому, знать лучше…
Нестеров сел рядом со стариком и тихо сказал:
– Хорошая сказка, Филипп.
– А у народа плохих нету, Сергей Николаевич, однако я тебе не советчик.
– Ничего, Филипп, все равно останусь.
– Вот так-то и лучше! – мягко ответил Филипп. Пока они пили свой несладкий чай, дождь кончился.
Солнце, неожиданно вынырнувшее из-за края леса, осветило пожелтевшие вдруг деревья. Выходит, что люди и не заметили, как переломилось лето. Скоро начнутся заморозки…
Филипп перевернул пустую кружку вверх дном, осторожно поставил ее на ящик, заменявший стол. Сергей взглянул на старика. Тайные мысли, которых Иляшев никому не говорил, совсем, видно, измучили старика: белая редкая борода пробилась космами от шеи до скул, продубленная кожа на лице стала почти прозрачной. Старик поднялся на ноги, поклонился Сергею поясным поклоном, медленно отступил, снова поклонился и тихо сказал:
– Прости, ради бога, Сергей Николаевич, мое время пришло.
– Что с тобой, Филипп Иванович?
– Уходить мне надо отсюда. Засиделся я у вас, а дела мои еще не все сделаны. Есть одно такое дело – если я его не сделаю, никто другой не сумеет, а ждать времени нет… – говорил он спокойно, вдумчиво, будто прислушивался к внутреннему голосу.
– Куда же ты один-то пойдешь, Филипп Иванович? – спросил Сергей. – Побудь еще с нами, скоро выйдем все.
– Ты не скоро выйдешь, – ответил Филипп. – И хорошо, что тебя дело держит. А мое дело далеко отсюда. Прости, Сергей Николаевич, что не помог тебе своими руками, может, чужими помогу, – непонятно добавил он.
– Что ты, что ты, Филипп, лучшего помощника у меня не было! – проговорил Нестеров. – Погоди, будет удача, мы еще не одно ведро браги с тобой выпьем!
– Выпить я не откажусь, – деловито ответил Филипп. – Жизнь у меня шумная, я люблю людей веселить. И ты меня плохим вспоминать не должен. А теперь отпусти!
– Да ведь ты же болен!
– От такой болезни не умирают. Меня думы заморили. А уйду, лес меня вылечит на то время, которое мне осталось. В лесу есть травы и коренья, есть и другие лекарства, о которых ты, человек хотя и ученый, не знаешь. Прости, что не помог тебе до конца, только не держи меня больше. Может, в дороге я тебе не меньше пользы принесу. Я ведь вижу, что не мне тебя поддерживать, тут другая рука нужна. Это Суслова Ивана Матвеевича пришлось мне от черных мыслей оберегать, кружным путем к счастью вести, а у тебя мысли светлые, ты сам кого надо приведешь и выучишь.
И хотя трудно было понять, почему торопился Филипп, Сергей побоялся задерживать старика. Оставь его здесь – он исчахнет от тоски по вольной жизни. Нельзя препятствовать душевной склонности человека. И он перестал отговаривать старика.
Следующий день старик отдыхал. Он как будто забыл о делах Сергея, ни о чем не расспрашивал его, молчаливо собирался в дорогу. Подолгу сидел у огня с отсутствующим взором, тихонько бормотал какие-то песни или сказания.
Сергей с утра уходил на работу. Он знал, что теперь, когда он простился с Филиппом, старик уйдет в час, когда ему подскажет сердце, и не беспокоил его ненужными разговорами. И когда однажды, возвратившись с работы, не увидел Филиппа, то почувствовал даже некоторое облегчение, хотя и сожалел о его отступничестве.
Была еще мысль, которую он тщетно пытался прогнать или заглушить, – воспоминание о Христине. Он вдруг начинал грустить о том времени, когда они были здесь вдвоем. И странно, это воспоминание как бы удваивало его силы. Он еще не говорил: «Я люблю ее!» Он только повторял: «Какой она чудесный товарищ! Как она понимала меня!» Но в этом признании было окончательное отстранение Вариной власти. Больше не возникало сравнений, он не объединял их в памяти, но тем отчетливее видел Христину. Иногда он ловил себя на том, что смотрит на перевал, как будто ожидая, что вот она появится на нем и начнет спускаться вниз, веселая, улыбающаяся.
Так он сделал Христину безмолвной и невольной участницей своего труда и страданий, привык советоваться с ней, выслушивать краткие слова одобрения, сообщать противоречивые мнения, чтобы с ее помощью остановиться на лучшем. И чем чаще он думал о Христине, тем большая нежность пробуждалась в его измученной душе.
Он не хотел предвосхищать будущего, но верил, что в день, когда труд его закончится, он придет к ней, и они вместе порадуются тяжело добытому успеху.
Он не знал, где найдет ее, но верил, что она должна быть недалеко, должна думать о нем, как он думает о ней. Даже усталость его уменьшалась, когда он вспоминал о Христине.
Так он окружил себя друзьями, выбирая из многих людей лишь тех, кто был до конца верен долгу, кто был тверд в начатом труде. Если бы ему понадобилось составить список тех, кого он приглашал на свои одинокие собеседования, то в списке этом были бы Бушуев, врач из госпиталя, Христина, Саламатов, даже Суслов – как раз те люди, которые незримо участвовали в его подвиге, потому что они помогли ему стать таким, каким он был теперь, а он знал, что в одиночестве и труде своем он был прежде всего человеком.
Прошла неделя с того дня, как ушел Иляшев. Приближалась зима, и погода установилась. Работать стало легче. И Нестеров торопился завершить свой труд, уже отчетливо видя близящийся конец.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































