Текст книги "Мое самодержавное правление"
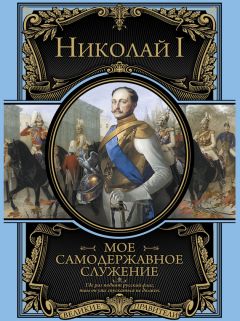
Автор книги: Николай I
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Здесь же, где не существует ничего подобного, нужно было действовать, насколько возможно, законно и, следовательно, не изобретать ничего, а руководствоваться примерами прошлого.
Константину Павловичу[108]108
Междуцарствие. С. 217–218.
[Закрыть]
С.-Петербург, 8 (20) января 1827 года
Благоволите, дорогой и бесценный Константин, принять мои самые искренние пожелания к наступившему Новому году. Да сохранит он всех, кто нам дорог! Пусть я всегда буду заслуживать вашу доброту и снисходительность вашу и доверие! Таково было всегда мое самое заветное желание, таким оно останется на всю мою жизнь.
При окончании 1826 года позвольте мне засвидетельствовать вам выражение моей вечной признательности за все многочисленные доказательства вашей доброты и снисходительности. Ваше письмо от 6 декабря было мне еще новым доказательством этого. Это милое письмо тронуло меня больше, чем когда-либо, и я не в силах вам выразить это.
Можно ли быть добрее и снисходительнее, чем вы ко мне! Бог мне свидетель, что мое единственное желание – доказать вам, как я хочу заслужить это доверие!
Если вы припомните, быть может, письмо, написанное вами мне в это же время в прошлом году, вы вспомните указания, какие тогда мне дали и которые я постарался добросовестно исполнить.
Истекший год был одним из самых тяжелых, и Бог благословил нас тем, что нам удалось сохранить все, что завещал нам наш Ангел. Все идет и, быть может, сказал бы я, идет с большей энергией, чем вначале. Наши внешние дела идут хорошо, невзирая на трудность момента.
К счастью, мы расположены так, что можем быть независимы в действиях и во мнениях. В этом отношении я старался держаться середины между молчанием и таким образом действий, когда твердо высказанное наше мнение могло бы оказать пользу, не ставя нас в неловкое положение. Благословение Божие до сих пор было явно с нами; положимся же на него с доверием и твердостью.
Вчера вечером дошло до меня ваше письмо от 31-го. Примите мою благодарность за него, дорогой Константин. Не скрою, однако, от вас, что нашел в нем слова, меня огорчившие. Разве может встать между вами и мной вопрос о неудовольствии? Вы с вашей постоянной ко мне добротой, которая меня смущает и которую не знаю, чем достаточно заслужить!
Неужели я с моей стороны подал вам чем-нибудь повод подумать нечто подобное? Это сделало бы меня очень несчастным. Если же это только, как я смею надеяться, выражение, вырвавшееся у вас из особо дружеского намерения, то знайте, что оно меня очень огорчило, и что оно уничтожает иллюзию, которая одна только делает сносным мое положение, иллюзию, в которой я представляю себе, что вы и я, мы оба, служим еще нашему Ангелу.
В глазах остальных пусть будет, как вы хотите, – но между нами не может и не должно быть иначе. Поэтому, ради Бога, пощадите меня в другой раз, и, если я буду иметь несчастие сделать что-нибудь, конечно без умысла, что вы могли бы дурно истолковать, пожалуйста, скажите мне совершенно откровенно; я вам отвечу на это с тою же откровенностью, к какой привык всегда в отношении к вам.
…Здесь все благополучно; нет больше ни слухов, ни каких-либо глупостей. Я очень доволен войсками, исключая некоторых пустяков. Михаил преуспевает и, без всякого сомнения, достигнет хороших результатов. Гражданские дела подвигаются; я ими теперь более доволен: работа идет ровнее и скорее, улучшения же придут потом, когда мы узнаем, что делать.
Главное то, что вот уже год прошел и какой год, и ничто не переменилось, даже лица, за исключением одного, которое настолько злоупотребило доверием нашего Ангела, что напечатало его собственноручные письма для раздачи своим друзьям. При первой возможности вам будет вручен экземпляр его публикации.
Константин Павлович – Николаю I[109]109
Междуцарствие. С. 219.
[Закрыть]
Варшава, 14 (26) января 1827 года
Поручаю барону Моренгейму передать вам это письмо, дорогой брат, а также отвезти вам доклад Следственного Комитета, учрежденного здесь по вашему приказанию и окончившего свои труды. К докладу приложены подлинные акты, которые составляют, так сказать, целую библиотеку.
Если здешнее следствие тянулось больше петербургского, причина не в недостатке усердия и преданности делу – члены комитета выказывали их постоянно в своих расследованиях фактов и лиц, – но в самом существе дела, потому что здесь нет явных преступных действий, которые дали бы возможность, отчасти или вполне, обнаружить виновных. Здесь следствие было предпринято лишь на основании слухов и подозрений.
Я далек от того, чтобы преуменьшать факты или их извинять, но могу смело сказать, что от планов русских, которые начали уже отчасти приводиться в исполнение, далеко до планов поляков, которые, как они ни виновны и ни преступны, уже в своем положении всегда найдут извинение в глазах мыслящих людей всех веков.
Благоволите дать аудиенцию барону Моренгейму и выслушать то, что он будет иметь честь представить на ваше усмотрение:
1) относительно самого следствия,
2) относительно формы суда и его процедуры,
3) относительно церемонии коронации.
Теперь же я позволю себе заметить раз навсегда следующее:
1) Я не вмешивался в следствие: собрав Комитет, я в нем больше не появлялся, ибо противно всякой справедливости, всем понятиям для человека чести быть судьей и держать сторону в собственном деле; все же козни обвиняемых были направлены, как утверждали, прямо против императорской фамилии и меня, в частности, – что, впрочем, не удалось доказать.
2) Я только следовал предположениям Комитета относительно освобождения, отпуска или пересылки обвиняемых, равно как их ареста и их разделения на разряды.
Вот отчет о моем поведении. В общем, если его рассмотреть и судить беспристрастно, я надеюсь, за мною будет признана и лояльность, и прямота.
Не желая отнимать у вас времени больше, чем нужно для этого доклада, от занятий более важных, я кончаю свое письмо, прося вас верить в одушевляющие меня неизменную преданность и усердие к вашей службе и к вашей особе, с которыми не перестану быть вам вернейший брат и друг
Константин
Константину Павловичу[110]110
Междуцарствие. С. 219–220.
[Закрыть]
С.-Петербург, 26 января (7 февраля) 1827 года
Третьего дня утром Моренгейм передал мне ваше письмо, дорогой Константин, так же как и все бумаги, которые вы благоволили поручить ему для меня. Прежде всего благоволите принять мою благодарность за те слова, в которых вы мне сообщаете ваше понимание следствия, мною вполне разделяемое.
Когда станут известны все предосторожности и заботы, приложенные вами для освещения малейших сомнений и подозрений, всякий беспристрастный человек воздаст только полную справедливость тому поведению, какого вы держались. Я уверен, что наш дорогой Ангел был бы удовлетворен вашим осторожным образом действий в этом деле.
Третьего дня и вчера у меня хватило времени закончить чтение одного только следствия; завтра я буду продолжать чтение других бумаг; я не могу подвигаться скорее ввиду моей остальной работы. Моренгейм расскажет вам о моих немногих замечаниях, на которые он дал мне объяснения.
Подсудимые начинают прибывать сюда; предполагаю, что некоторые будут необходимы для процесса поляков, и я поручил Моренгейму отметить тех, кого он сочтет нужным для очных ставок и которых придется на время отослать вам обратно.

Записки императора Николая I о вступлении на престол[111]111
Междуцарствие. С. 11–35.
[Закрыть]
Часто собирался я положить на бумагу краткое повествование тех странных обстоятельств, которые ознаменовали время кончины покойного моего благодетеля императора Александра и мое вступление на степень, к которой столь мало вели меня и склонности и желания мои; степень, на которую я никогда не готовился и, напротив, всегда со страхом взирал, глядя на тягость бремени, лежавшего на благодетеле моем, коему посвящено было все его время, все его познания и за которое столь мало стяжал благодарности, по крайней мере при жизни своей!
Меня удерживало чувство, которое и теперь с трудом превозмогаю, – боязнь быть дурно понятым. Я пишу не для света – пишу для детей своих; желаю, чтоб до них дошло в настоящем виде то, чему был я свидетель. Решаюсь на сие для того, что испытываю уже после шести лет, сколь время изглаживает истину и память таких дел и обстоятельств, кои важны, ибо дают настоящее объяснение причинам или поводам происшествий, от коих зависит участь, даже жизнь людей, более, честь их, скажу даже – участь царств.
Буду говорить, как сам видел, чувствовал – от чистого сердца, от прямой души: иного языка не знаю.
1
Лишившись отца, остался я невступно[112]112
Невступно (устар.) – почти, немного меньше.
[Закрыть] пяти лет; покойная моя родительница, как нежнейшая мать, пеклась о нас двух с братом Михаилом Павловичем, не щадя ничего, дабы дать нам воспитание, по ее убеждению, совершенное. Мы поручены были как главному нашему наставнику генералу графу Ламздорфу, человеку, пользовавшемуся всем доверием матушки; но, кроме его, находились при нас 6 других наставников, кои, дежуря посуточно при нас и сменяясь попеременно у нас обоих, носили звание кавалеров.
Сей порядок имел последствием, что из них иного мы любили, другого нет, но ни который без исключения не пользовался нашей доверенностью, и наши отношения к ним были более основаны на страхе или большей или меньшей смелости. Граф Ламздорф умел вселить в нас одно чувство – страх, и такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятий.
Сей порядок лишил нас совершенно счастья сыновнего доверия к родительнице, к которой допущаемы мы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор. Беспрестанная перемена окружающих лиц вселила в нас с младенчества привычку искать в них слабые стороны, дабы воспользоваться ими в смысле того, что по нашим желаниям нам нужно было, и должно признаться, что не без успеха.
Генерал-адъютант Ушаков был тот, которого мы более всех любили, ибо он с нами никогда сурово не обходился, тогда как гр. Ламздорф и другие, ему подражая, употребляли строгость с запальчивостью, которая отнимала у нас и чувство вины своей, оставляя одну досаду за грубое обращение, а часто и незаслуженное. Одним словом – страх и искание, как избегнуть от наказания, более всего занимали мой ум.
В учении видел я одно принуждение и учился без охоты. Меня часто, и я думаю не без причины, обвиняли в лености и рассеянности, и нередко гр. Ламздорф меня наказывал тростником весьма больно среди самых уроков.
Таково было мое воспитание до 1809 года, где приняли другую методу. Матушка решилась оставаться зимовать в Гатчине, и с тем вместе учение наше приняло еще более важности: все время почти было обращено на оное. Латинский язык был тогда главным предметом, но врожденная неохота к оному, в особенности от известности, что учимся сему языку для посылки со временем в Лейпцигский университет, сделала сие учение напрасным.
Успехов я не оказывал, за что часто строго был наказываем, хотя уже не телесно. Математика, потом артиллерия и в особенности инженерная наука и тактика привлекали меня исключительно; успехи по сей части оказывал я особенные, и тогда я получил охоту служить по инженерной части.
Мы редко видали государя Александра Павловича, но всегда любили его, как ангела своего покровителя, ибо он к нам всегда был особенно ласков. Брата Константина Павловича видали мы еще реже, но столь же сердечно любили, ибо он как будто входил в наше положение, имев гр. Ламздорфа кавалером в свое младенчество.
Наконец настал 1812 год; сей роковой год изменил и наше положение. Мне минуло уже 16 лет, и отъезд государя в армию был для нас двоих ударом жестоким, ибо мы чувствовали сильно, что и в нас бились русские сердца и душа наша стремилась за ним! Но матушке неугодно было даровать нам сего счастия.
Мы остались, но все приняло вокруг нас другой оборот; всякий помышлял об общем деле; и нам стало легче. Все мысли наши были в армии, ученье шло, как могло, среди беспрестанных тревог и известий из армии. Одни военные науки занимали меня страстно, в них одних находил я утешение и приятное занятие, сходное с расположением моего духа. Наступил 1813 год, и мне минуло 17 лет; но меня не отпускали.
В это время в первый раз случайно узнал я от сестры Анны Павловны, с которой мы были очень дружны, что государь, быв в Шлезии, видел семью короля Прусского, что старшая дочь его принцесса Шарлотта ему понравилась и что в намерениях его было, чтоб мы когда-нибудь с ней увиделись.
Наконец неотступные наши просьбы и пример детей короля Прусского подействовали на матушку, и в 1814 году получили мы дозволение отправиться в армию. Радости нашей, лучше сказать сумасшествия, я описать не могу; мы начали жить и точно перешагнули одним разом из ребячества в свет, в жизнь.
7 февраля отправились мы с братом Михаилом Павловичем в желанный путь. Нас сопровождал гр. Ламздорф и из кавалеров, при нас бывших, Саврасов, Ушаков, Арсеньев и Алединский, равно инженерный полковник Джанотти[113]113
В рукописи – Жианноти.
[Закрыть], военный наш наставник. Мы ехали не по нашему желанию, но по прихотливым распоряжениям гр. Ламздорфа, который останавливался, где ему вздумывалось, и таким образом довез нас в Берлин через 17 дней!
Тяжелое испытание при нашем справедливом нетерпении! Тут, в Берлине, провидением назначено было решиться счастию[114]114
Первоначально – «участи», затем исправлено «щастию».
[Закрыть] всей моей будущности: здесь увидел я в первый [раз] ту, которая по собственному моему выбору с первого раза возбудила во мне желание принадлежать ей на всю жизнь, – и Бог благословил сие желание шестнадцатилетним семейным блаженством.
Пробыв одни сутки в Берлине, повезли нас с теми же расстановками через Лейпциг, Веймар, где мы имели свидание с сестрой Марией Павловной, потом далее на Франкфурт-на-Майне. Здесь, несмотря на быстрые успехи армий наших, отнимавшие у нас надежду поспеть еще к концу кампании, те же нас встретили остановки, и терпение наше страдало несколько дней. Наконец повезли нас на Бруксаль, где жила тогда императрица Елисавета Алексеевна, на Раштад, Фрейбург, в Базель.
Здесь услышали мы первые неприятельские выстрелы, ибо австрийцы с баварцами осаждали близлежащую крепость Гюнинген. Наконец въехали мы через Альткирх в пределы Франции и достигли хвоста армий в Везуле в то самое время, когда Наполеон сделал большое движение на левый наш фланг.
В этот роковой для нас день прибывший флигель-адъютант Клейнмихель к состоявшему при нас генерал-адъютанту Коновницыну, высланному к нам навстречу во Франкфурт, привез нам государево повеление возвратиться в Базель.
Можно себе вообразить наше отчаяние!
Повезли нас обратно той же дорогой в Базель, где мы прожили более двух недель и съездили в Шафгаузен и Цюрих, вместо столь желанного нахождения при армии, при лице государя. Хотя сему уже прошло 18 лет, но живо еще во мне то чувство грусти, которое тогда нами одолело и ввек не изгладится. Мы в Базеле узнали, что Париж взят и Наполеон изгнан на остров Эльбу. Наконец получено приказание нам прибыть в Париж, и мы отправились на Кольмар, Нанси, Шалон и Мо.

2. О наследии после императора Александра I
В лето 1819 года находился я в свою очередь с командуемою мной тогда 2-й гвардейской бригадой в лагере под Красным Селом. Перед выступлением из оного было моей бригаде линейное ученье, кончившееся малым маневром в присутствии императора. Государь был доволен и милостив до крайности.
После ученья пожаловал он к жене моей обедать; за столом мы были только трое. Разговор во время обеда был самый дружеский, но принял вдруг самый неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту нашей спокойной будущности. Вот в коротких словах смысл сего достопамятного разговора.
Государь начал говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство (тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременна старшей дочерью Мариею); что он счастия сего никогда не знал, виня себя в связи, которую имел в молодости; что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтоб уметь ценить с молодости сие счастие; что последствия для обоих были, что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли, и что сие чувство самое для него тяжелое.
Что он чувствует, что силы его ослабевают; что в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов; что скоро он лишится потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как он его разумеет; и что потому он решился, ибо сие считает долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время.
Что он неоднократно о том говорил брату Константину Павловичу, который, быв одних с ним почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать на престоле, тем более, что они оба видят в нас знак благодати Божией, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство.
Мы были поражены как громом. В слезах, в рыдании от сей ужасной неожиданной вести мы молчали! Наконец государь, видя, какое глубокое, терзающее впечатление слова его произвели, сжалился над нами и с ангельскою, ему одному свойственною ласкою начал нас успокаивать и утешать, начав с того, что минута сему ужасному для нас перевороту еще не настала и не так скоро настанет, что может быть лет десять еще до оной, но что мы должны заблаговременно только привыкать к сей будущности неизбежной.
Тут я осмелился ему сказать, что я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе сил, ни духу на столь великое дело; что одна мысль, одно желание было – служить ему изо всей души, и сил, и разумения моего в кругу поручаемых мне должностей; что мысли мои даже дальше не достигают.
Дружески отвечал мне он, что когда вступил на престол, он в том же был положении; что ему было тем еще труднее, что нашел дела в совершенном запущении от совершенного отсутствия всякого основного правила и порядка в ходе правительственных дел; ибо хотя при императрице Екатерине в последние годы порядку было мало, но все держалось еще привычками; но при восшествии на престол родителя нашего совершенное изменение прежнего вошло в правило: весь прежний порядок нарушился, не заменяясь ничем.
Что с восшествия на престол государя по сей части много сделано к улучшению и всему дано законное течение; и что потому я найду все в порядке, который мне останется только удерживать.
Кончился сей разговор; государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами и с которой всюду открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться. Вот – совершенное изображение нашего ужасного положения.
С тех пор часто государь в разговорах намекал нам про сей предмет, но не распространяясь более об оном; а мы всячески старались избегать оного. Матушка с 1822 года начала нам про то же говорить, упоминая о каком-то акте, который будто бы братом Константином Павловичем был учинен для отречения в нашу пользу, и спрашивала, не показывал ли нам оный государь.
Весной 1825-го был здесь принц Оранский; ему государь открыл свои намерения, и на друга моего сделали они то же ужасное впечатление. С пламенным сердцем старался он сперва на словах, потом письменно доказывать, сколь мысль отречения от правления могла быть пагубна для империи; какой опасный пример подавала в наш железный век, где каждый шаг принимают предпочтительно с дурной стороны. Все было напрасно; милостиво, но твердо отверг государь все моления благороднейшей души.
Наконец настала осень 1825 года, с нею – и отъезд государя в Таганрог. 30 августа был я столь счастлив, что государь взял меня с собою в коляску, ехав и возвращаясь из Невского монастыря. Государь был пасмурен, но снисходителен до крайности. В тот же день я должен был ехать в Бобруйск на инспекцию; государь меня предварил, что хотел нам приобрести и подарить Мятлеву дачу, но что просили цену несбыточную и что он, по желанию нашему, жалует нам место близ Петергофа, где ныне дача жены моей Александрия.
Обед был в новом дворце брата Михаила Павловича, который в тот же день был освящен. Здесь я простился навсегда с государем, моим благодетелем, и с императрицею Елисаветой Алексеевной.

Дабы сделать яснее то, что мне описать остается, нужно мне сперва обратиться к другому предмету.
До 1818 года не был я занят ничем; все мое знакомство со светом ограничивалось ежедневным ожиданием в переднях или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в 10 часов все генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, гвардейские и приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие допуск к государю.
В сем шумном собрании проводили мы час, иногда и более, доколь не призывался к государю военный генерал-губернатор с комендантом и вслед за сим все генерал-адъютанты и адъютанты с рапортами и мы с ними, и представлялись фельдфебели и вестовые.
От нечего делать вошло в привычку, что в сем собрании делались дела по гвардии, но большею частию время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего; бывали и интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти так же и не щадя начальников, ни правительство.
Долго я видел и не понимал; сперва родилось удивление, наконец и я смеялся, потом начал замечать, многое видел, многое понял; многих узнал – и в редком обманулся. Время сие было потерей времени, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался.
Осенью 1818 года государю угодно было сделать мне милость, назначив командиром 2-й бригады 1-й гвардейской дивизии, т. е. Измайловским и Егерским полками. За несколько перед тем месяцев вступил я в управление Инженерною частию.
Только что вступил я в командование бригады, государь, императрица и матушка уехали в чужие края; тогда был конгресс в Ахене. Я остался с женой и сыном одни в России из всей семьи. Итак, при самом моем вступлении в службу, где мне наинужнее было иметь наставника, брата благодетеля, оставлен был я один с пламенным усердием, но с совершенною неопытностью.
Я начал знакомиться со своей командой и не замедлил убедиться, что служба шла везде совершенно иначе, чем слышал волю моего государя, чем сам полагал, разумел ее, ибо правила оной были в нас твердо влиты. Я начал взыскивать, но взыскивал один, ибо что я по долгу совести порочил, дозволялось везде даже моими начальниками.
Положение было самое трудное; действовать иначе было противно моей совести и долгу; но сим я явно ставил и начальников и подчиненных против себя, тем более, что меня не знали и многие или не понимали, или не хотели понимать.
Корпусом начальствовал тогда генерал-адъютант Васильчиков; к нему я прибег, ибо ему поручен был как начальнику покойной матушкой. Часто изъяснял ему свое затруднение, он входил в мое положение, во многом соглашался и советами исправлял мои понятия.
Но сего недоставало, чтоб поправить дело; даже решительно сказать можно – не зависело более от генерал-адъютанта Васильчикова исправить порядок службы, распущенный, испорченный до невероятности с самого 1814 года, когда, по возвращении из Франции, гвардия осталась в продолжительное отсутствие государя под начальством графа Милорадовича.
В сие-то время и без того уже расстроенный трехгодичным походом порядок совершенно разрушился; и к довершению всего дозволена была офицерам носка фраков. Было время (поверит ли кто сему), что офицеры езжали на ученье во фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу.
Подчиненность исчезла и сохранилась только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы поневоле, дабы только жить со дня на день.
В сем-то положении застал я и свою бригаду, хотя с малыми оттенками, ибо сие зависело и от большей или меньшей строгости начальников. По мере того как начинал я знакомиться со своими подчиненными и видеть происходившее в прочих полках, я возымел мысль, что под сим, т. е. военным распутством, крылось что-то важнее; и мысль сия постоянно у меня оставалась источником строгих наблюдений.
Вскоре заметил я, что офицеры делились на три разбора: на искренно усердных и знающих; на добрых малых, но запущенных и оттого не знающих; и на решительно дурных, т. е. говорунов дерзких, ленивых и совершенно вредных, – на сих-то последних налег я без милосердия и всячески старался оных избавиться, что мне и удавалось.
Но дело сие было нелегкое, ибо сии-то люди составляли как бы цепь чрез все полки и в обществе имели покровителей, коих сильное влияние оказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми неприятностями, которыми удаление их из полков мне отплачивалось.
Государь возвратился из Ахена в конце года, и тогда в первый раз удостоился я доброго отзыва моего начальства и милостивого слова моего благодетеля, которого один благосклонный взгляд вселял бодрость и счастие. С новым усердием я принялся за дело, но продолжал видеть то же округ себя, что меня изумляло и чему я тщетно искал причину.
3. (Утеряна)
4
Надо было решиться – или оставаться мне в совершенном бездействии, отстранясь от всякого участия в делах, до коих, в строгом смысле службы, как говорится, мне дела не было, или участвовать в них и почти направлять тех людей, в руках коих, по званию их, власть находилась.
В первом случае, соблюдая форму, по совести я бы грешил, попуская делам искажаться, может быть, безвозвратно, и тогда бы я заслужил в полной мере название эгоиста. Во втором случае – я жертвовал собою с убеждением быть полезным Отечеству и тому, которому я присягнул.
Я не усомнился, и влечение внутреннее решило мое поведение. Одно было трудно: я должен был скрывать настоящее положение дел от мнительности матушки, от глаз окружающих, которых любопытство предугадывало истину. Но с твердым упованием на милость Божию я решился действовать, как сумею.
Город казался тих; так, по крайней мере, уверял граф Милорадович, уверяли и те немногие, которые ко мне хаживали, ибо я не считал приличным показываться и почти не выходил из комнат. Но в то же время бунтовщики были уже в сильном движении, и непонятно, что никто сего не видел.
Оболенский, бывший тогда адъютантом у генерала Бистрома, командовавшего всею пехотой гвардии, один из злейших заговорщиков, ежедневно бывал во дворце, где тогда обычай был собираться после развода в так называемой Конногвардейской комнате.
Там, в шуме сборища разных чинов офицеров и других, ежедневно приезжавших во дворец узнавать о здоровье матушки, но еще более приезжавших за новостями, с жадностию Оболенский подхватывал все, что могло быть полезным к успеху заговора, и сообщал соумышленникам узнанное. Сборища их бывали у Рылеева.
Другое лицо, изверг во всем смысле слова, Якубовский в то же время умел хитростью своею и некоторою наружностию смельчака втереться в дом графа Милорадовича и, уловив доброе сердце графа, снискать даже некоторую его к себе доверенность. Чего Оболенский не успевал узнать во дворце, то Якубовский изведывал от графа, у которого, как говорится, часто сердце было на языке.

Мы были в ожидании ответа Константина Павловича на присягу, и иные ожидали со страхом, другие – и я смело ставлю себя в число последних – со спокойным духом, что он велит. В сие время прибыл Михаил Павлович. Ему вручил Константин Павлович свой ответ в письме к матушке и несколько слов ко мне. Первое движение всех – а справедливое нетерпение сие извиняло – было броситься во дворец; всякий спрашивал, присягнул ли Михаил Павлович.
– Нет, – отвечали приехавшие с ним.
Матушка заперлась с Михаилом Павловичем; я ожидал в другом покое – и точно ожидал решения своей участи. Минута неизъяснимая. Наконец дверь отперлась, и матушка мне сказала:
– Eh bien, Nicolas, prosternez vous devant votre frère, car il est respectable et sublime dans son inaltе́rable dе́termination de vous abandonner le trône[115]115
Ну, Николай, преклонитесь пред вашим братом: он заслуживает почтения и высок в своем неизменном решении предоставить вам трон. (Фр.)
[Закрыть].
Признаюсь, мне слова сии было тяжело слушать, и я в том винюсь; но я себя спрашивал, кто большую приносит из нас двух жертву: тот ли, который отвергал наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и остался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям, или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого?
Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче.
Я отвечал матушке:
– Avant que de me prosterner, maman, veuillez me permettre de savoir pourquoi je devrais le faire, car je ne sais lequel des sacrifices est le plus grand: de celui qui refuse ou de celui qui accepte en pareilles circonstances![116]116
Прежде чем преклоняться, позвольте мне, матушка, узнать, почему я это должен сделать, ибо я не знаю, чья из двух жертв больше: того ли, кто отказывается (от трона), или того, кто принимает (его) при подобных обстоятельствах! (Фр.)
[Закрыть]
Нетерпение всех возрастало и дошло до крайности, когда догадывались по продолжительности нашего присутствия у матушки, что дело еще не решилось. Действительно, брат Константин Павлович прислал ответ на письмо матушки хотя и официально, но на присягу, ему данную, не было ответа, ни манифеста, словом, ничего, что бы в лице народа могло служить актом удостоверения, что воля его непременна и отречение, оставшееся при жизни императора Александра тайною для всех, есть и ныне непременной его волей.
Надо было решить, что делать, как выйти из затруднения, опаснейшего в своих последствиях и которым, как увидим ниже, заговорщики весьма хитро воспользовались.
После долгих прений я остался при том мнении, что брату должно было объявить манифестом, что, оставаясь непреклонным в решимости, им уже освященной отречением, утвержденным духовной императора Александра, он повторяет оное и ныне, не принимая данной ему присяги. Сим, казалось мне, торжественно утверждалась воля его и отымалась всякая возможность к сомнению.
Но брат избрал иной способ: он прислал письмо официальное к матушке, другое – ко мне и, наконец, род выговора – князю Лопухину как председателю Государственного Совета. Содержание двух первых актов известно; вкратце содержали они удостоверение в неизменной его решимости, и в письме к матушке упоминалось, что решение сие в свое время получило ее согласие.
В письме, ко мне писанном как к императору, упоминалось только в особенности о том, что его высочество просил оставить его при прежде занимаемом им месте и звании.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































