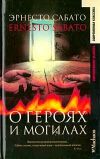Текст книги "Ваша жизнь больше не прекрасна"

Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Скандал на мясокомбинате
Получив аттестат артиста, я читал лекции от Госконцерта, нес Есенина и Евтушенко в студенческие и пэтэушные общежития, на стройки, заводы и в закрытые НИИ. Это была длившаяся со времен революции культуртрегерская праздничная отрыжка, эйфорическое приобщение масс к искусству и одновременно способ идеологического вливания. Последним объяснялось и обязательное присутствие на концерте лектора.
Граждане реагировали по-разному.
Согнанные в красные уголки, учащиеся ПТУ продолжали и там заниматься своим делом, то есть исходили половой истомой с привлечением алкоголя, иногда отвлекаясь на реальный комментарий к романсу. Вредные цеха настороженно слушали пушкинский «Анчар». Младшие научные сотрудники задавали каверзные вопросы о парижской автобиографии Евтушенко, последней книге Абрама Терца и «Философических письмах» Чаадаева. Я узнавал свою страну.
Из инвалидной артели, устроенной во Владимирской церкви, нас выгнали калеки, травмированные тем, что в рассказе Зощенко, где героя кладут в ванну вместе с умирающей старухой, увидели они лакировку действительности. Одноногие, с руками, похожими на детские ласты, с лицами, на которых парез запечатлел кривую усмешку, устрашающе живые каляки-маляки, они выкрикивали свои правдивые истории и плясали вокруг актрисы, которая одной рукой прикрывала обнажившуюся грудь, другой шарила по полу в поисках оброненных бус.
Воображение мое буксует. Каким испытаниям должно было отечественное здравоохранение подвергнуть этих инвалидов, чтобы юмор Зощенко и ванна с покойницей показались им легковесной бытовухой?
Солидный контингент собирался в тюремных клубах. Заключенные рассаживались по команде в полной тишине, как будто пришли с опозданием на премьеру академического театра; не было слышно ни шепота. Лица зрителей выражали напряженную работу интеллекта и одновременно монашеское смирение. Более благодарной и вдумчивой аудитории мне видеть не приходилось. Зал до жути напоминал тематически подобранный музей восковых фигур.
Оживление наступало после команды: «Вопросы!». Спрашивали по существу:
– Александр Сергеевич к женщинам относился без предрассудков, это народу известно. А вот ежели в нем сифилис или, допустим, гонорея, а тут очередное «чудное мгновенье», тогда как? Гондонов ведь еще в природе не было?
– Вы лучше про поэзию, к вам тут артисты, – говорил начальник. – С материальной частью сами, без Пушкина разберетесь.
Но говорил он это не слишком, я бы сказал, категорично, в надежде, что ответ будет все же получен и опекаемую им аудиторию уважат. Он же, бывало, спрашивал, напирая на интеллигентность вопроса:
– Не подскажете, у «Вдовы Клико», например, сколько градусов?
Уважительное отношение к сослуживцам муз царило на всех концертах. Артисты впечатляли сшитыми на амортизационные деньги костюмами и улыбались демократично, гегемоны в роли хозяев скрывали подозрение насчет качества искусства, доставленного им по месту работы (отсидки, жилья) городским транспортом. В конце концов душевный пафос советских песен все же делал свое дело: зал и сцена аплодировали друг другу и встреча превращалась в плановое собрание землячества.
Но настоящее общение без церемоний начиналось после концерта. Застолья в кабинетах являлись тоже частью ритуала, однако спирт развязывал языки и намеки Эзопа становились прозрачней, чем басни Михалкова. У парторга в запасе всегда было несколько политических анекдотов, наполненных скрытой теплотой патриотизма. Зацветала умеренная фривольность, дамы выбирали кавалеров, баритоны вынимали записные книжки, чтобы записать телефон дантиста, портного или железнодорожной кассирши. Тут же затевались внеслужебные романы. Работал принцип дополнительности. Для бартера «искусство – товар» я предпочитал книжные базы и типографии.
Удачей считалось поработать в каком-нибудь окраинном доме культуры, куда принаряженная публика собиралась на танцы, но все же готова была с некоторым даже благоговением выслушать культурную прелюдию. Я всегда справлялся у директора или завхоза, не застряла ли у них случаем в процессе революционных или военных дислокаций какая-нибудь фисгармония. Мечта подарить публике концерт своего детства не оставляла меня.
Администратор Миша Корольков упорно и весело поддерживал меня в этом. Его одутловатое от пристрастия не к спиртному, а к долгому обворожительному сну лицо казалось живой посылкой из детства. Живые глазки моргали, иногда закрываясь в тяжелом трепещущем обмороке, и в этом было заметно братское усилие части организма справиться с чудовищным заиканьем хозяина. Ему хотелось верить. А Миша, выпав из обморока и уже предчувствуя следующий, говорил с удесятеренной скоростью:
– Старик, договорюсь в Юсуповском – будет тебе концерт. В консерватории одна завалялась, я наводил справки – собираются списывать. С местными корешами договорился – по дороге умыкнем. Есть еще в одной церквухе на Васильевском, но им тянут с давно заказанным органом. Кстати, может быть, орган-позитив подойдет? На прошлой неделе купил ансамбль старинных инструментов.
Так моя мечта благодаря Королькову который уже год жила в ожидании премьеры.
Но идем дальше.
Существовали площадки выше всяких личных приоритетов, где союз хлеба и зрелищ проявлялся наиболее тесно и плодотворно. Одна из них – мясокомбинат. У администратора существовал на этот случай секретный список, в который входили по большей части эстрадники, привозившие ему сувениры из далекой Болгарии, но иногда перепадало и труженикам филармонического отдела, к которым принадлежал я.
Как артист массовки, сжигаемый латентным талантом, дожидается годами болезни премьера, так я незаметно для себя высидел очередь, чтобы наконец исполнить соло на мясокомбинате. Заболел первый лектор Мазуркевич. Он был знаменит тем, что приходился троюродным племянником Ленину и имел от него записку: «Прошу поспособствовать установлению т. Мазуркевичу телефона на его квартире. В. Ульянов-Ленин». Записка эта по неизвестной причине всплыла только в начале шестидесятых. Чиновники сначала подняли Мазуркевича на смех, потом, заглянув в его правдивые глаза, стали заикаться. Автограф забрали в Институт истории партии, и через две недели экспертиза установила подлинность документа. Поскольку у Мазуркевича к тому времени не было не только телефона, но и собственной квартиры, ему с испугу выделили полный комплект. В том же году вне очереди он купил машину «Волга» и, несмотря на ученую степень кандидата филологических наук, стал разъезжать с эстрадниками по ближайшей загранице в качестве конферансье.
И вот этот могучий старик первый раз в жизни свалился. Настиг его всего лишь маленький инсульт, но зато внезапно. Я попался под руку и был буквально вброшен в автобус. То есть судьба, как обычно, действовала вслепую.
Первое, что поразило на мясокомбинате, – крысы. Они разгуливали по заводским дворам с сановным видом, так что нам приходилось уступать им дорогу. В памяти всплыли истории о крысиных хвостиках, которые население время от времени обнаруживало в мясных консервах и колбасе. Но по мере того как мы продвигались по улицам этого мясного города, крысы становились пугливей, пятились и наконец исчезли совершенно. Эффект этот я до сих пор не могу объяснить, но только крыс в тех цехах, где готовилась снедь для партийных заказников, не было. Не могли же они окружить элитную часть территории крысиным ядом и жить внутри этого круга? Или как раз могли?
И вот закончился концерт, о котором ничего не помню, в сумках артистов упакованы карбонад и гусиная печенка, приобретенные по юмористической цене. Сопровождаемые местной элитой, мы продвигаемся к кабинету начальника, оживленно делясь знанием жизни, которое на всех тогда было одно. Ничто не предвещает скандала. А ему, между тем, предстоит разразиться уже через несколько минут в гостевом зале руководителя мясного производства с литературной фамилией Копейкин. И виновником этого скандала, как вы уже поняли, стану я.
Для честности надо сказать, что сработали, конечно, и не имеющие отношения к сути конфликта ускорители. Концертов было на самом деле два, в двух цехах. Последний из цехов – исключительно комсомольский, дружный и состоящий в молодежной конфронтации к остальному производству. Поэтому здесь артистам устроили свой, летучий, сепаратистский стол. Выпили по чуть-чуть: «за знакомство», «приходите еще» и «на ход ноги». Но до всенародного «Рояля» было далеко, к спирту не привыкли, и кураж начал действовать задолго до официального мероприятия. А и у Копейкина мы были второй делегацией, до нас он встречался с международными поставщиками, теперь, можно сказать, остались только свои, контроль ослаб. Это и сыграло решающую роль.
По своему типажу Копейкин был не похож на директора мясокомбината, скорее учитель танцев, такая у человека конституция. На промышленность его передвинули из Олимпийского комитета, который незадолго до этого успешно провел усеченную олимпиаду с мишкой.
Бытие все же определяет, ни в чем никого винить нельзя. Номенклатурное бытие Копейкина определило его фестивальное представление о происходящих в стране процессах, поэтому во вступительном слове сказал он примерно так, что живут они уже при коммунизме, посмотрите на стол, но и народ стараются не обижать, и недалеко, стало быть, время, когда все подтянутся к равенству.
А я еще во время первых приветствий и рукопожатий обратил внимание на мебельный гарнитур, который показался мне до боли знакомым. Исполнен он был в поздней отцовской манере, с характерным сочетанием черного дерева и перламутра, в стиле Буль. И тут заволокла мой мозг обида, вспомнился отец, исчезнувший со своей корабельной девушкой и оставивший нас с матерью на растерзание жизни и ее вечных вопросов. А на что и сам-то он угробил жизнь и талант, думал я. Он, почитатель поэта Ивана Коневского, мечтающий уплыть от своих иезуитов в свободный мир на яхте класса «Дракон»? Иезуиты не отпускали его, еще бы, им нужны были новые и новые гарнитуры, которые бы подтверждали их наследное верховенство и бессмертие.
И тут эти возмутительные слова крысиного учителя о равенстве. Главное же, этот попрыгайчик был уверен, что, продав даром партийные деликатесы, сделал нашу совесть еще гибче и превратил нас в послушных клакеров.
Я был разогрет к бою.
Выражение классовых чувств никогда не отличалось блеском и остроумием. Слишком, видимо, сильная эмоция, индивидуальные обороты ей не идут, борьба может вестись только тупым тяжелым оружием.
– А и при коммунизме, – сказал я, с ненавистью глядя на Копейкина, – страна должна знать имена своих героев.
Все, включая директора, приняли это за не слишком внятный, но идеологически выверенный тост, а потому с удовольствием и здравицами в честь артистов, тружеников и руководства комбината выпили по… пятой. Намек остался незамеченным, и эта неудача еще больше разозлила меня.
– Знакомо ли вам, например, имя автора этого гарнитура?
– Хороша вещь, – сказал Копейкин, по-хозяйски, с какой-то сальной улыбкой оглаживая бедро серванта. – Позднее барокко. Это, как мне рассказывали, еще во времена ранней экспроприации досталось нам от князей Юсуповых.
– А чего ты гладишь-то ее, как чужую бабу? – не помня себя, заорал я. – Чужую бабу в темноте надо ласкать, а ты при всех. Бар-рок-ко! А мне известно имя мастера, и фамилия у него русская!
Тут начался птичий грай. «Что за хама впустили?» – «Костя перепил. Нельзя спирт из чашек-то!» – «Константин Иванович, возьмите себя в руки, извинитесь». – «Моча в голову! Итальянская работа, это ясно». – «Вот уж не знал, что он такой патриот». – «Патриоты обычно пренебрегают доказательствами».
Только на последнюю реплику отозвался мой слух. Риск, конечно, был. Но я знал, что на внутренней плоскости витой ножки отец оставлял свои инициалы и дату изготовления. Риск был, но ничто уже не могло остановить меня.
– Я могу доказать! – закричал я, перекрывая общий гомон.
– И как же вы, интересно, это сделаете? – спросил Копейкин, унижая меня неколебимым «выканьем» и уверенный в том, что все закончится его верхом и моим позором.
– Очень просто.
Я подбежал к серванту, схватил его за низ и, хотя силы были не равны и в мирной ситуации я вряд ли сумел бы даже сдвинуть его с места, приподнял сооружение над полом, еще раз перехватил руками и с грохотом и звоном поставил-таки на попа. Посуда вынесла стекла, пол с медленным заводом рассыпчатого грома покрывался мелкими осколками фигурного фарфора. Это была по-своему красивая и, как я тут же понял, дорогая картина. Но я бросился к заветной ножке. На ней было четко вырезано: «Ив. Тр. 1964».
– Вот, – сказал я ровным голосом, как будто шел обыкновенный акт инвентаризации. – Сервант был сделан в 1964-м году. Автор – Иван Трушкин.
Наступила тишина, во время которой все оставались на своих местах. То ли в ожидании следователя, то ли из уважения к красоте. У Копейкина подергивалась левая, на глазах усохшая щека.
– Ну, ты доказал, – произнес он наконец. – И что теперь? Посуда сделана по специальному заказу на заводе Ломоносова. Вот это я знаю точно.
– Встанет тебе в копеечку, – сочувственно сказала дура-вокалистка, и кто-то едва слышно подхихикнул.
В сущности, все бунты и поиски справедливости заканчиваются так – разбитой посудой. Действительно, и что теперь, подумал я.
Я прошел громкими шагами по фарфору, что выглядело уже вовсе лишним вызовом, выложил из сумки деликатесы под шепот: «нашел, чем напугать» и молча пошел к выходу, думая о поджидающих меня во дворе крысах.
Литературный кабачок
Отец так и остался неотомщенным, и имя его не высветлилось в веках. В конторе меня уволили, но из чувства сострадания областная филармония поставила на журнал, и еще года два я отрабатывал по селам и пригородам ущерб, нанесенный мясокомбинату.
В семье инцидент вызвал пассивное сочувствие, разговоры велись тихо, как говорят дипломаты – за закрытыми дверями, чтобы не задеть шуткой глубоко раненного постояльца.
Дети пропадали в рок-клубе, осваивали гитару и одновременно занимались культуризмом. При этом они как-то незаметно и будто из уважения ко мне прочли всю домашнюю библиотеку, знания приобретали быстро, точно во сне, но ни одно из них не пригождалось в школе. Это общеобразовательное учреждение было у них понижено до статуса бурсы, говорили о ней не иначе как с иронией, но, разделив между собой предметы, каждый сдавал свою программу с вполне приемлемыми результатами.
Система наша была как будто создана для двойняшек. В будущем, впрочем, это обещало новые проблемы, но о будущем у нас думали только специально назначенные люди. Моим близнецам казалось, что изворотливость ума и буффонада являются лучшим способом одурачивания и приручения жизни. В том, что жизнь необходимо дурачить, у них, похоже, сомнений не было.
Жена в это время начала трудно и, на мой взгляд, преждевременно прощаться с молодостью. С горьким удовольствием каждое утро она вытенькивала из своей и без того негустой шевелюры седые волоски и ни за что не желала краситься. Лера поворачивала ко мне от зеркала заплаканное и вызывающе веселое лицо: «Скоро останусь лысой. Вот будет красота. Ты меня снова полюбишь, как своих птенчиков с тифозной опушкой».
Когда я ей успел рассказать про птенчиков, которых собирал в саду Фаины Николавны? Сейчас я понимал только, что мы в первые дни слишком сдружились и это не пошло впрок любви. Ревность и отчаянье алчно, то есть без разбора, питаются подробностями.
Между тем Лера увлеклась приготовлением растительных мазей и растворов, в связи с чем стала водить знакомство с женщинами много старше себя. Я был рад хотя бы такому способу сопротивления времени, который требовал, однако, немалых денег.
В Союзе писателей мне предложили должность референта в Клубе молодых литераторов, членом которого состоял и я. При нашей геронтократии в литературных птенцах ходили сорокалетние отцы семейства. Художник Вадик Тоцкий придумал герб, на котором вышедшее из употребления ученическое перо образовывало голову молодого петушка с клювом, глазом и гребнем. Под этим петушком, овеянное вдохновенным сигаретным дымом, входило в литературу и выходило в многотиражки не одно беспутное и целеустремленное поколение, поддерживавшее тесную связь с жизнью через ближайший гастроном. Поэты писали тематически актуальные «паровозики» и «датные» стишки в надежде, что те потянут за собой в печать вагоны настоящей поэзии. Изредка и правда выходили сборники, состоящие из «паровозиков» с двумя-тремя прицепленными к ним сумрачными пейзажами, намекающими на социальное неблагополучие.
Кабинет парткома с его стойкими историческими запахами из неведомых тактических соображений отдали под литературный, в сущности, кабачок. При этом запахи парткома и кабачка родственно слились, а литература вяло куролесила в этом плотном настое, напоминая буйных подопытных насекомых. Прекратить эксперимент могли только два события: развал партии и борьба с алкоголем, что через некоторое время и произошло, правда, в обратном порядке.
Диссидентствующие к нам не заглядывали, для них была построена собственная юрта во дворе КГБ, и, как им дышалось там, я не знаю. Суровые бытовики приходили только в минуты тяжелого похмелья, чтобы выказать презрение к конъюнктурщикам и опохмелиться. В клубе находили приют и просто тоскующие литераторы, которых не печатали, и деться им было все равно некуда. У этих была надежда, что чужие «паровозики» вывезут за собой когда-нибудь и их асоциальные творения в собираемые иногда альманахи.
С последними я дружил, но надежд их не разделял. К моим «стихам в прозе», как их почему-то называли, местные литначальники относились с доброжелательной терпимостью, потому что разговор о публикации даже не предполагался, и я, по их мнению, как умный человек, прекрасно понимал это сам. Поэтому и общаться со мной было просто, не держа камня за пазухой, не боясь испортить отношения мелкими одолжениями.
Сами по себе тексты мои были неопасны и все же вредны по причине избытка в них двусмысленного лаконизма и чуждого в целом колорита. Только однажды попытались пришить к ним социальный подтекст, и сделали это не слишком поворотливые в наших делах французы. Моей миниатюрой они почему-то решили проиллюстрировать статью «О реальном положении безработных в СССР». Начало у миниатюры, сколько помню, было такое:
«Я видел сегодня мертвую кошку. Она пила молоко. Молоко скисло, почти створожилось. Очень обидно. Молоко скисло.
Из урны на меня посмотрел оранжевым глазом мертвый голубенок. Он был зол и себялюбив. Он боялся, что я помешаю ему доесть табачные окурки.
Сегодня в разливухе мужчины вставали лицом к стене, как перед расстрелом. Они встают так каждое утро, каждый день, каждый вечер. С перерывом на обед. Стена – ложный мрамор.
Я бродил по городу. Спасибо вам. Ваш гуманный ритуал излечил меня от жизни.
Я плавал гусем обыкновенным в городском зоопарке, и милый ребенок протягивал мне печенье. У гусей мохнатые и злые морды. Я был гусем. Я озирал мир коленей и икр – он бездуховен и тороплив, господа. Я щипал воздух и хмурился».
Дальше что-то в том же роде. Миниатюра была подписана фальшивыми инициалами и отсылала к неизвестному автору в городе Пермь. Это спасло мою голову от гражданской казни. Гонорар, однако, нашел меня года через два, и я понял, что не все так просто и я нахожусь под присмотром сразу с двух сторон границы, хотя ни одной стороне по-настоящему и не было до меня дела. Я как-то сумел угодить и одновременно не пригодиться сразу всем.
Соседство с гением
Под низким горизонтом нашего неба привычно ходить, опустив глаза. Никому не приходит в голову чувствовать себя от этого несчастным, виноватым, придавленным чьей-то силой или притворяться, что взгляд сосредоточен на поиске философского зерна. К климату претензии бывают только у туристов. Для нас же он как бы национальная собственность и среда, кому пенять? Античные герои на фронтонах зданий и те не жаловались на паутинную морось, их слепые глаза были наполнены гневом и отвагой. Такое домашнее соседство богов и титанов, несмотря на согнутые спины, поддерживало наш областной гонор и с обещанием перспективы загоняло в библиотеки.
Я по натуре не был книжным человеком. Во всяком случае, пытливость моя ограничивалась поиском родного голоса, все остальные достойные голоса спокойно обходились без меня, а я без них. Понимаю Гофмана, который, будучи студентом Кенигсбергского университета, ни разу не зашел на лекцию Иммануила Канта.
Тем более не было во мне никакого теоретического интереса. Всякого рода классификации представлялись либо праздной игрой ума, либо клеткой, в которую пытаются замкнуть живое существо. Почему-то я был уверен, что все действительные понятия обладают известной неопределенностью и важнее попасть в поле этой неопределенности, нежели довериться формуле.
Талантливый текст легко превращал меня в своего адепта, пересоздавал на свой лад, начисто лишая исследовательского беспристрастия. Возможно, у меня и был филологический слух, но это был слух читателя, а не ученого, способность узнавания, а не анализа. Внутренне я сопротивлялся всякому профессионализму.
Большинство моих знакомых хотело обрести статус, я пытался найти хоть какой-нибудь смысл в своем маргинальном положении. Однако в какой-то момент я понял, что это был тот же поиск статуса. На этот раз судьба была не слепа, хотя повод, надо сказать, выбрала ничтожный, почти комический.
Работа у референта распорядительская, канцелярская. Как всякое секретарство, она является тем подвижным хрящиком, который соединяет верх и низ, без нее бюрократический позвоночник навсегда мог бы утратить свою гибкость. То есть волей-неволей я являлся гарантом его здорового функционирования, подавая наверх просьбы и отчеты и спуская их вниз с высочайшей подписью.
И вот однажды, когда я рылся в шкафу с архивными папками, на пол выпал листок, не подшитый, без входящего номера. Это было обыкновенное заявление, каких прошли через мои руки сотни. Чтобы понять унизительность сего прошения, истории надо несколько раз перевернуть бинокль. Податель просил оказать ему материальную помощь в размере 30 (тридцати) рублей для приобретения канцелярских принадлежностей, как то: бумага для машинописи, копировальные листы, скрепки, картонные папки, авторучки и карандаши. Под заявлением стояла подпись, которую знает теперь весь мир. До суда над Поэтом еще было время.
Ну и что: коллега-завистник решил напакостить гению? Сюжет почти классический, конечно, но сомнительный. А может быть, начальник, злобный лауреат Сталинских премий, вышвырнул холуя вместе с бумагой, как только увидел подпись? Тоже вряд ли. Выгодней было продемонстрировать скромную заботу о молодом и непослушном.
Скорее всего, это был просто холостой ход бюрократической машины. Референт (сужу по отсутствию номера) не донес этот листочек до нужного кабинета. Обычная халатность. Мало ли без этого у него забот? К тому же известно, что ни за какими скрепками этот нижеподписавшийся не пойдет, а потратит деньги на портвейн, который и выпьет с друзьями где-нибудь в параднике Третьего Рима. Однако и без этой ссуды, если будет компания и настроение, все равно выпьет. В общем, хоть житейски на это посмотри, хоть под соусом вечности, никакого злого умысла. Такая стекловатная жизнь. (Стекловата – смотрел в словаре – не пахнет, почти не гниет, а также не дает расти плесени и бактериям.) Тоталитарный шедевр.
И тут я физически ощутил то, что легко мог понять и до этого. Мы с Поэтом долгие годы дышали одним и тем же воздухом, от дождя и у меня и у него первыми намокали колени под короткой болоньей. Одни и те же люди тащили нас на барже под звуки траурного гимна, одни и те же голоса доносились с трибун. Жареный пирожок с мясом за семь копеек, вынутый из пара, служил сначала флагом вольноотпущенника, потом закуской. Барды соблазняли нас геологоразведкой как единственно достойным выходом из цивилизационных дебрей. И те же слепые глаза богов и титанов молча и вопрошающе смотрели нам в затылок.
Когда Поэта заметили, началась другая история. Но сначала его, как и меня, просто не имели в виду. Мы жили в ватном мире, где никто никому не собирался радоваться, ибо заранее опасался неподконтрольных фантазий вновь прибывшего. Сердце в этом мире могло забиться только от цифр статистики, товар шел партиями, по годам рождения, и сразу отправлялся на санобработку в школы. Талант и усердие также оценивались в цифрах, для аномально одаренных устраивали кружки. Машина работала, наслаждаясь собственным музыкальным шумом и ритмом и стараясь, чтобы за щитки не попадали некондиционные человеческие особи, которые могли повредить механизм. Руку просящего не отгрызали кабинетные церберы, они просто отворачивали свои морды. А Поэт, в отличие от других просящих, не дразнил их и не обижался, поскольку душевно не вкладывался в этот жест и невозмутимо, прямо у собачьих морд, той же рукой снимал с ветки ягоду.
Вот тут и выясняется, что, бродя одними улицами, в городе, где для всех один вход, один выход и одно окошечко кассы, можно ходить разными путями.
Поэт полной грудью вдыхал этот воздух, настоянный на миазмах, фабричном дыме и любви, я задерживал вдох, ожидая приникнуть к случайной свежей струе. Он дышал, не обольщаясь придуманным смыслом и не вникая в правила игры, я долго трудился над одушевлением этого смысла, жил утайкой, а от исполнения правил испытывал мазохистское удовольствие. И вот его гений окреп, напитавшись той самой химически несуразной атмосферой, которая отравила мой мозг.
Соблазненный и отвергнутый, я стал метаться в поисках твердого пятачка, того, что я назвал статусом. Даже по короткому размышлению понятно, что это мог быть только статус жертвы, от которого Поэт отказался с некой, я бы сказал, брезгливостью, хотя на такой статус у него прав было неизмеримо больше. Но жертва повязана с палачом одной, в некотором роде даже сентиментальной историей, в то время как Поэт давно выстраивал свой, одинокий сюжет. Если и было в нем место кому-нибудь, кто мог превзойти его силой и отнять жизнь, то это вдохновителю Вселенной и администратору светил, именно поэтому, кстати, он никогда не позволил бы себе той фамильярности, которую я позволил себе в этом обороте. Зато ни один лоскут стеклянной ваты, которую мне не удается снять ни пылесосом, ни уходом в созерцание, не унес он с собой даже и за океан.
Для обывателя Поэт был да и остался почти неосязаемым. Момент, когда имя его из сплетни перешло в легенду, я тоже упустил. В ватных буднях его было почти не слышно. Люди, которые только и мечтали о том, чтобы быть соблазненными, не могли сфокусировать взгляд на фигуре Поэта и зацепить слухом имя того, кто великодушного жеста выдумщиков просто не заметил. Он жил в настоящем больше, чем настоящее позволяло, то есть был изначально ирреальным, более живым, чем остальные, или, напротив, уже мертвым, отсутствующим в реальности большинства. Кто-то неосторожно и приблизительно назвал его футурологом смерти. Неосторожно и приблизительно. Правда, излишний аппетит к жизни ему действительно казался подозрительным.
Урок явления гения (я имею в виду не тектонический сдвиг в культуре – тут шкала не дней, а веков), урок явления гения в твоей школе, на твоей улице, в твоем дворе, в садике твоего поколения, что ли, когда он теснится с тобой на одной скамейке или глядит волчонком из идущей навстречу толпы, а еще, чего доброго, плюхается рядом в троллейбусе и из-за ворота его пальто прямо в нос тебе поднимается гнилой пар, так вот урок этого явления состоит в том, что ты в конце концов отчаянно понимаешь, что в самом тебе ничего от этого не изменилось. Не в мире (и бог бы с ним), а в тебе самом.
Завистник, конечно, затаит ревность к несправедливому небу, и жизнь его, в некотором роде, даже обретет смысл. Люди культуры, обращенной к культуре частью своего существа, будут потрясены внезапным изменением пейзажа и, возможно, на любовное исследование этого катаклизма потратят оставшиеся годы. Это может стать даже их страстью, но не перевернет жизнь. Так распорядок дня сейсмолога не связан с активностью землетрясений. Так астрономы от конкретного созерцания Вселенной уходят в математику, чтобы не сойти с ума.
Как гений сам приходит к пониманию, что мир именно таков, каким он ему представляется? Как сам он начинает фиксировать в себе то, что мы называем гениальностью, а он называет «я»? Можно допустить, что это происходит от ежедневно повторяющегося у него опыта переживания целого. Так входят в грамотного правила грамматики, так затверживаются в снах будущие преступления.
Казалось бы, читатель таким же способом, то есть регулярной полнотой переживания прочитанного, должен получить силу импульса, исходящего от гениального текста. Но ничего подобного на деле не происходит. Отчасти потому, что награжден он лишь читательским даром и ему нечем вернуть этот импульс миру, кроме как повторением чтения или разговорами о нем. То есть дело не в импульсе, а в форме и структуре, которые перенять невозможно, так как для этого пришлось бы перестать быть собой. В той же мере неосуществима полнота сострадания умершему, ибо она должна была бы выразить себя собственной смертью.
Ты стоишь с ним плечо к плечу и понимаешь, что рядом с тобой не просто более удачливый или талантливый старшеклассник, его улыбка во мраке не дает усомниться в жуткой подлинности происходящего. Вместе с ним ты мигренью ощущаешь скандальность весны и то, что Охтенка – тот же Ахерон, который вместе с отражениями уносит дыхание и связи; вы оба балансируете на краю звездной полыньи, слыша, как осыпается под ногами хрупкий весенний лед. Есть еще возможность полета, вы уже почти летите.
Но совместность переживания непременно обрывается. Вы расходитесь в разные стороны, не прощаясь, как незнакомые (и правда незнакомые) друг с другом люди. И вот ты уже обнаруживаешь себя в другом моменте пространства, и сердце готово запрыгать в ожидании маленькой удачи, которой будет радоваться действительнее, чем пережитому только что полету. Запах из окна жареной корюшки расшевелит уютные воспоминания, а любое ласковое слово станет драгоценнее, чем привет с того берега, о котором, впрочем, теперь и подумать нельзя иначе, как с иронией.
Человек уходит от риска патетически. Откровение оставляет в его душе след наподобие прекрасного и, может быть, грозного пейзажа, но это ничего не меняет в плане, который без труда, мысли и вдохновения передали ему отец и мать. Какая-нибудь слепая на один глаз керамическая кошечка навсегда вошла в его сны дорогим символом преждевременно закончившейся и рано поглупевшей жизни. Дышим, что делать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?