Текст книги "Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 3"
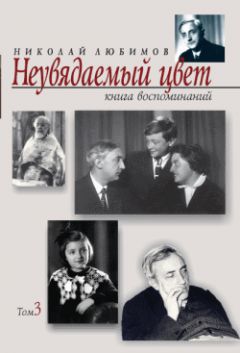
Автор книги: Николай Любимов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Зимой 1953–1954 годов я как-то увидел Лебедева во сне: будто он стоит на морозе в одном пиджачишке… Несколько дней спустя я узнал, что по распоряжению патриарха Алексия вольнонаемный лаврский хор распущен и заменен хором «академиков» и семинаристов.
Когда на что-нибудь прекрасное в жизни, в природе, в искусстве наступает ногой гражданская власть, меня это не удивляет, я к этому давно привык. Большевики с 1918 года взяли себе за правило пророческие слова Ал. Конст. Толстого о том, что «российская коммуна» почтет необходимым «все загадить для общего блаженства». Как однажды взяли, так с тех пор и следуют ему неуклонно. Но когда духовная власть посягает на духовную красоту – это и непонятно и обидно. И вдруг я снова, как после увольнения Соболева, услышал «глас народа». Крестьянского обличья женщина средних лет как-то раз остановила меня во дворе Лавры, – очевидно, мое лицо ей примелькалось, – и излила мне душу: оказывается, она, как и я, пережила в Успенском соборе много необычайных минут, а теперь там ни одной службы не отстаивает и, как и я, предпочитает семинарскому хору пение за молебнами в Троицком соборе – пение верующих баб.
В 1953 году я приехал в Киев – приехал, можно сказать, в первый раз. До войны я был в Киеве весной 1939 года, но тогда я прожил там всего несколько дней, приехал неподготовленный, кое-чего не увидел по своей вине, из-за своего невежества, многого не мог увидеть и услышать, потому что в Киеве тогда, за исключением Андреевской церкви и еще каких-то церквушек на окраине, обители и храмы были закрыты, а большею частью – снесены.
Итак, был июнь 1953 года. «Во едину от суббот» я поехал в Киево-Печерскую лавру ко всенощной. В этот день я много бегал по городу, приехал в Лавру «еле можаху», в храме производилась уборка, молящихся долго не пускали, я мок под дождем, это меня раздражало, наконец впустили, служба началась с чтения, и я подумал: «Не уйти ли мне? Все равно долго не выстою». Но как загудели, как залились вперекличку правый и левый клиросы, как услышал я эту, по выражению Чайковского, «дикую гармонию», услышал на ее родине, неиспорченную гармонизаторами, в ее первозданном звучании, – ноги мои приросли к месту.
Когда стоишь у истока реки, тебя охватывает какое-то особенное волнение. Пусть дальше берега будут и разнообразнее, и живописнее, но это исток. Вот такое же совсем особенное волнение испытывал я всякий раз, когда слушал в Святоуспенской Киево-Печерской лавре ее распев, а там и нельзя было ничего услышать, кроме этого распева, возникшего в XI веке, можно сказать – вместе с самой Лаврой, на основе старо-греческого напева, а впоследствии испытавшего на себе влияние, как указывают исследователи, напевов южно-славянского и древне-киевского. Дальше будут и Бортнянский, и Березовский, и Ведель, и Турчанинов, и Кастальский, и Архангельский, и Чайковский, и Рахманинов, и Чесноков, и кого-кого только еще не будет, но это один из истоков русского церковного пения, да и не только церковного. С годами, с веками киево-печерский распев разольется во всю ширь Руси великой и доплеснется до наших северных, западных и восточных окраин.
Чем прежде всего поражает слух киево-печерский распев? Своим громогласием.
Летом 1955 года я познакомился с иеромонахом Киево-Печерской лавры о. Иосифом (в миру – Иван Сергеевич Штельмах). Однажды мы с ним уединились для беседы в укромный уголок лаврского внутреннего дворика, и, сидя на бревнышках, этот подвижнической несгибаемости человек, за плечами у которого и медицинский факультет, и светское музыкальное образование, который всю войну 41–45 годов провел на фронте военным врачом, знавший историю Киево-Печерской лавры во всех ее разветвлениях, постигший и в теории и на практике премудрость православного пения, делился со мной по моей просьбе своим пониманием киево-печерского распева. Причину его «громогласия» о. Иосиф усматривал в характере украинского народа, выросшего среди степной и речной шири, народа пылкого и боевого. В качестве примера он указал мне на отзвуки запорожских воинственных напевов в киево-печерском догматике «В Чермнем мори». Вполне принимая толкование о. Иосифа, я все же позволю себе добавить, что громогласие вырастало еще, вероятно, и из простодушного убеждения наших предков: чем громче, тем Богу слышнее, тем до Него доходчивее.
Вслушиваешься, вслушиваешься в «дикую гармонию», которую такой ценитель, как Чайковский, предпочитал пению в других киевских храмах и монастырях, хотя и отдавал ему должное, – и тебя изумляет уже не только громогласие, но и повторы, подхваты:
Исповедуйтеся Го è сподеви, яко благ, исповедуйтеся Господеви, яко благ, исповедуйтеся Господеви, яко благ, яко ввек милость Его («Хвалите имя Господне…»).
Пробави милость Твою ведущим Тя, ведущим Тя, пробави милость Твою ведущим Тя («Великое славословие»).
Повторы и подхваты о. Иосиф объяснял настойчивостью в славословии и молитвословии (его буквальное выражение). Ради этого люди оставляли мир со всей круговертью его тщеты, со всей призрачной радужностью его мечтаний, со всей его необозримой и разноликой прелестью, этому посвящали всю свою жизнь – куда им было торопиться?
Слух постепенно привыкает и к громогласию, и к повторам, и тогда начинаешь различать характер басовой и теноровой партии в гармонии киево-печерского распева, основой которого, кстати говоря, является второй тенор.
Я спросил о. Иосифа, можно ли сказать, что басы «славословят», а тенора «молитвословят»?
– Можно, – согласился о. Иосиф и добавил: – А еще в нашем лаврском обиходе есть такое выражение: «Басы за землю держатся, а тенора в небеса уносятся».
В беседе со мной о. Иосиф раскрыл полное соответствие киево-печерского распева мыслям и чувствам, выраженным в словах песнопений».
Поют предначинательный псалом (103):
«Господи Боже мой, возвеличился еси зело».
«Во исповедание и в велелепоту облеклся еси».
«На горах станут воды. Дивна дела Твоя, Господи! Посреде гор пройдут воды. Дивна дела Твоя, Господи! Вся премудростию сотворил еси. Слава Ти, Господи, сотворившему вся!»
Когда слышишь эти «широкие разводы в мелодиях», как выразился Гайдай, характеризуя в письме ко мне киево-печерский распев, кажется, будто это невдалеке, под горой, выйдя из берегов, ширится, ширится Днепр по весне, в половодье.
Предначинательный псалом посвящен сотворению мира, – поясняет мне о. Иосиф. – Человек дивится тому, как прекрасен сотворенный Богом мир. Вот откуда этот подъем, эта радостная мощь.
Но почему же вслед за хвалой во славу оплавившегося из хаоса мира и во славу его Создателя такою скорбью звучит великая ектенья? Ведь тем минорным ключом, в котором ваш дьякон заканчивает каждое ее прошение, мы, северяне, воспользовались для ектений панихидных:
… и о еже проститися ему всякому прегрешению, вольному же и невольному…
… идеже праведнии упокояются…
… у Христа, Бессмертного Царя и Бога нашего, просим…
– Да, но за сотворением мира вскорости последовало грехопадение, – вот откуда минор великой ектеньи, – прокомментировал о. Иосиф.
– Но почему же такого духовного веселья исполнен частый перезвон колоколов, который слышится затем в «Блажен муж…»? Почему такое хвалебное жизнеутверждение в этих нескончаемых «аллилуйя»?
– А потому, что Спаситель все же придет, только ты, муж, будь праведен, а путь нечестивых – погибнет.
На общем фоне замедленности резко выделяются в полиелее своим «трезвонным» ритмом воскресные тропари, и в этой «ликовствующей», хотя и с оттенком недоверчивой грусти, стремительности отражается радость жен-мироносиц, узнавших о том, что Христос воскрес…
Одну из субботних всенощных летом 1955 года я стоял в Лавре вместе с профессором Борисом Ивановичем Пуришевым, для которого древнерусское зодчество и живопись – это была раскрытая, увлекательная, вдохновенная книга: каждая линия летит, поет, каждая краска живет и дышит, каждый завиток орнамента исполнен высокого значения.
В этот вечер Борис Иванович впервые слышал киево-печерский распев «сплошняком», без всякой прослойки и разбивки, с какими он исполняется в других монастырях и церквах. Всенощная в Лавре длилась долго – пять часов. Во время богослужения мы несколько раз спускались в лаврский сад, выходили за калитку и, посиживая опять-таки на бревнышках и глядя на мелеющий Днепр и на просторное Заднепровье, откуда тянул теплый душистый ветер, делились только что перечувствованным.
Особенно ошеломлен был Борис Иванович «Великим славословием», которое монахи, сняв клобуки, пели на середине храма. Кончается оно протяжным, могучим «Святым Боже».
Когда мы поднимались к трамвайной остановке, Борис Иванович сказал:
– Теперь мне ясно, что после такой молитвы, полной несокрушимой веры в то, что «Святый бессмертный» «помилует» их, монахам не страшно было расходиться на ночь по своим пещерам.
Еще мы говорили о том, как хорошо, что существует теперь такой заповедник древнерусского пения. Душе древнелюбца Пуришева особенно дорого было то, что это напев – подумать только! – XI века. Я высказал ту простую мысль, что не к чему было этот заповедник в начале революции прихлопывать; никакой опасности для государства он не представляет, а как это важно, как это нужно всем любящим музыку – побывать у истоков русской музыкальной культуры!
– Конечно, – подхватил Борис Иванович, – и только одни дураки этого не понимают… Да! – наставительной скороговоркой добавил он.
В 1923 году Пастернак жаловался, что «ум черствеет в царстве дурака»… С 1957 по 1964 год хрущевское «царство дурака» ширилось, приумножалось, богатело и процветало. По очень верному наблюдению Мережковского, в революционные эпохи выдвигаются люди, отличающиеся особенной глупостью, «когда прибавляется к их личной дури – общая» (Наполеон. Т. II. Белград, 1929. С. 37). В 1961 году глупцам киевским по указке глупцов московских понадобилось снова упразднить Киево-Печерскую лавру. Русских людей снова лишили возможности помолиться в пещерах у гробниц своих великих предков – первого русского историка Нестора, первого русского живописца Алипия, одного из первых русских врачей Агадита и услышать неискаженную, неисправленную, дикую, но прекрасную, дикую, но единственную в целом мире гармонию киево-печерского распева.
И все же о. Иосиф, после вторичного закрытия Лавры приезжавший ко мне в Москву погостить, говорил:
– Конечно, прискорбно мне и другим, что Лавру закрыли, но это закрытие недолговечное – она непременно откроется вновь, вот увидите.
Пророчество о. Иосифа сбылось.
Ялта 1963 – Москва 1989
Великое славословие
Да возрадуется душа твоя о Господе… да просветится свет твой пред человеки, яко да видят добрая дела твоя и прославят Отца нашего Иже есть на небесех.
Из чинопоследования архиерейского служения на литургии.
… в небесах я вижу Бога.
Лермонтов
Замолкли звуки дивных песен…
Лермонтов
Жаркий летний вечер в Киеве.
По узкой извилистой лестнице на хоры Владимирского собора медленно взбирается сухощавый чисто выбритый седой человек в элегантном, отлично на нем сидящем, кремовом легком костюме, с такой же изящной шляпой в руке. Видно, что ему нелегко брать этот подъем, и он слегка сутулится от напряжения. Пройдя на хоры, он тяжело опускается на стул, некоторое время сидит неподвижно, платком вытирает со лба пот.
Наконец Царские Врата отворяются, и среброголовый человек молодо вскакивает со стула, становится за пульт и задает тон. Он весь подобрался, он весь собрался, движения его то стремительны, то величавы. Он не дирижирует, – в применении к нему это не то слово, – он вдохновенно и неустанно творит.
Это Михаил Петрович Гайдай, управляющий хором киевского Владимирского митрополичьего собора.
Его хор под именем «хора Гайдая» известен далеко за пределами Киева, Московские и Петербургские, регенты и певцы нарочно едут в Киев, чтобы послушать этот хор, чтобы ознакомиться с искусством Гайдая, чтобы у него поучиться. Архидьякон московского Богоявленского патриаршего собора Владимир Дмитриевич Прокимнов считает за честь, приехав в Киев, попеть в хору у Гайдая. Москвичи и Петербургские – профессора, литераторы, простые смертные, православные, деисты и даже атеисты – раз послушав хор Гайдая, при первой возможности снова доставляют себе это наслаждение. А раз послушав хор Гайдая, уже никогда не забудешь и ни с чем не смешаешь в памяти его налитой, точно спелый колос, особенный звук. Среди внимательных и восторженных его слушателей можно встретить изумительного церковного певца Козловского. Если Иван Семенович в Киеве, то уж он не преминет побывать во Владимирском соборе, не пропустит ни одной службы. Случайно разговорившись при выходе из Московской Пименовской церкви с полуинтеллигентного вида женщиной, я узнаю, что она, как и я, каждое лето ездит в Киев ради хора Гайдая.
В самом Киеве у Гайдая поклонники разнообразные, вплоть до случайно заброшенного судьбой из Саратова в Киев бывшего дворника, пенсионера, похожего лицом на Николая II, – он гордится Гайдаем, его хором, его солистами и с ревнивой опаской спрашивает меня, не лучше ли поет патриарший хор в Москве. Прихожу как-то в субботу ко всенощной. В верхнем, Борисоглебском, приделе, опершись на балюстраду, стоит сивоусый, широкоплечий украинец в расшитой рубашке – вылитый Тарас Бульба. Он так огорчен, что обращается ко мне – совершенно незнакомому, но, очевидно, запомнившемуся ему человеку.
– Гайдая нет, – уныло гакает он, – и уже не будет пения того. (В этот день Гайдай случайно не пришел ко всенощной.) Африканцы и американцы с неизменными фотоаппаратами через плечо, войдя в собор, начинают с туристски легкомысленным верхоглядством водить глазами по стенам, но вдруг, зачарованные пением, столбенеют – и, совершенно неожиданно для них самих, выстаивают всю службу. Молоденькая учительница из далекой Сибири отбилась от своей туристской стаи и залетела в Собор, – в экскурсионный план всей стаи осмотр Владимирского собора не входит, экскурсионное бюро решило за туристов, что живопись Васнецова и Нестерова им неинтересна. Учительница, однако, проявила внеплановую любознательность, и уйти до конца службы у нее тоже не достало сил. Она спрашивает меня, будет ли служба завтра, в котором часу начало. Узнав, что утром, с загоревшимися глазами объявляет:
– Непременно приду… Завтра мы уезжаем, перед отъездом нас еще куда-то должны вести… Но я все равно приду – хоть ненадолго… Я никогда ничего подобного не слыхала. Скажите, кто этот дирижер?..
Назавтра мы с нею вновь встречаемся за обедней. Сначала она то и дело нервно поглядывает на часы, потом безнадежно машет рукой, на часы уже не смотрит – и уходит из собора только по окончании литургии.
Во всем этом нет ничего удивительного: хор Гайдая – это был лучший хор в стране (я имею в виду хоры не только церковные, но и светские), и это одно из самых больших явлений русского искусства вообще.
Репертуар этого хора был обширен, как ни в одном известном мне церковном хору. К тому богатству, каким располагаем мы, «среднеполосники», Гайдай присоединял произведения украинских композиторов – Стеценко, Войленко, Скрыпника, самого Гайдая. Гайдай умел из каждой музыкальной фразы извлекать всю таящуюся в ней красоту, всю без остатки. Знакомые вещи в его исполнении – точно живопись после искусной реставрации: все наносные слои сняты, все искажающее убрано, – перед нами нечто углубленное, обновленное, преображенное, чистое-чистое, как лесные ландыши раннею росистою ранью… А когда я после хора Гайдая слушаю какой-нибудь другой хор, слушаю те же самые вещи, мне кажется, что я рассматриваю те же драгоценные ковры, но только с изнанки. Русская духовная музыка словно захотела еще раз послушать, как она звучит в исполнении совершенном, и с этой целью произвела на свет Гайдая. Он – ее олицетворение, он – ее воплощение.
Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так выразительно дирижировал, как Гайдай. Однако про его движения не скажешь, что они скульптурны. Скульптурность предполагает окаменелость, окоченелость, застылость. Движения Гайдая сочетали изящество с порывистостью. А изящен он был во всем – в одежде, в манере ее носить, в каждом жесте. Он слегка откидывал голову, правой рукой делал широкий плавный кругообразный жест – и звуки разливались, как река. Он отдергивал от чего-то незримого пальцы обеих рук и немного подавался всем корпусом назад – это значило: звуки здесь такие хрупкие, что к ним можно только едва прикоснуться голосом. Он выбрасывал руки вверх и держал их округлою горстью – и вот уже вздымалась осанна…
Ему одинаково были подвластны и задушевное, и величальное.
«Великое славословие» полтавского регента Скрыпника вырисовывалось перед слушателями во всем его симфонически сложном переплетении мотивов, оставаясь в то же время свободным от светской фиоритурности, не теряя ярко-церковной окраски своего звукового узора.
«Малое славословие» Аллеманова – славословие лирическое, в этом его своеобразие. И когда в финале славословия прирожденный церковный певец Ульяницкий, не считая Козловского, лучший из всех, кого я когда-либо слышал, певший как птица, – так же легко и свободно, – и контральто Шевченко, сливая свои голоса в один, осиянный и неразделимый, пели дуэт: «…и уста моя возвестят хвалу Твою», я, на своем веку наслушавшийся великолепного церковного пения, думал: «Вот так, вот так в предрассветной небесной вышине пели ангелы в далекую Рождественскую ночь. И если только мне суждено умереть не внезапною смертью, я вспомню это славословие и перед кончиной – вспомню с облегченным сознанием, что я жил не напрасно».
Уже много спустя после кончины Гайдая я попросил одну свою приятельницу-киевлянку, певицу митрополичьего хора Екатерину Павловну Соловьеву, передать Ульяницкому приблизительно то, что я о нем тут написал. В ответном письме (от 17 января 1968 года) она мне сообщила: «Ульяницкий особенно Вас благодарит, а в тот день, когда я передала ему Вашу похвалу, он так пел, что все ахнули! Жаль только, что Вас не было».
Весной 1982 года, в Великий Четверг, Ульяницкий скончался. Хоронили его в Великую Субботу, накануне Светлого Христова Воскресения. Одна киевлянка посвятила ему непритязательные, трогающие непосредственным чувством благодарной любви к отошедшему стихи:
Дорогому Алексею Ивановичу Ульяницкому
Прекратилось прекрасного сердца биенье,
Тишина на кладбище и пуст его дом,
Сорок дней как одно пролетели мгновенье,
И собрались мы вспомнить сегодня о нем.
Вот стоял его гроб, со Спасителем рядом,
С плащаницей в страстные печальные дни,
В храме том, где он был для народа отрадой,
Где чудесно звучало его «Воскресни».
Он лежит и не слышит напевов любимых,
Держит крест вместо нот в охладевшей руке,
В облаках голубого кадильного дыма
И в весенних цветов белоснежном венке.
Тридцать лет он в соборе пропел у престола,
И, казалось, за голос тот душу отдашь.
Никогда не услышим небесное соло,
Никогда не услышим его «Отче наш».
Мы хотим, чтоб ему хорошо отдавалось,
Чтоб забыл он заботы дневные свои,
А для нас только светлая память осталась,
Да огонь неземной негасимой любви.
25. V.1982. М. Ганжулевич
Из светских композиторов, писавших для церкви, Гайдай больше всех любил Чайковского. «Сейчас готовлюсь к годовщине смерти Чайковского, – сообщал он мне 24.Х.I960 года. – В воскресенье 6 ноября хором будет исполнена полная „Литургия“ Чайковского, которая ежегодно поется в соборе. Гениальный композитор один из первых обратил внимание на нашу церковную музыку. Он влил свежую струю в переложение древних распевов и заставил их звучать по-иному. До сих пор его „Литургия“ остается непревзойденной: ни Рахманинов, ни Иполлитов-Иванов, ни Черепнин, ни Гречанинов не возвысились в церковном пении, как Чайковский, хотя у Рахманинова и есть чудесные церковные образцы. У всех перечисленных композиторов чувствуется какая-то надуманность, сложность, от чего свободен Чайковский, писавший просто, прочувствованно, с непередаваемым лиризмом».
Теплый луч умиления – один из самых животворных лучей, исходящих от православного богослужения, от его возгласов и песнопений. Сколько раз я слышал в московских церквах «Помилуй мя, Боже…» Архангельского, которого Гайдай любил больше, чем кого-нибудь еще из церковных композиторов. Ну что ж, хорошо, приятно для слуха, но – одноцветно, плоско. А Гайдай со своим хором одну музыкальную фразу – «…по велицей милости Твоей» – превращал в радужные переливы звуков: покаянный плач неприметно переходил в мольбу о прощении, а мольба вся была просвечена умилением. Это дождевые капли на солнце, это блаженная улыбка сквозь слезы.
Хор Гайдая обладал одному ему присущим уменьем петь так, что мне казалось, будто это поет моя душа, будто это мои уста «возвещают хвалу» Богу и молят Его очистить меня от беззаконий.
Но такую же покоряющую силу приобретала в его исполнении и молитва соборная.
В 1955 году Владимирский собор как-то особенно торжественно праздновал память равноапостольного князя. И настроение у молящихся создалось светло-праздничное. Накануне за всенощной я стоял внизу, в главном приделе, недалеко от амвона. Рядом со мной сосредоточенно молилась тонкая, стройная девушка в белом платье, подчеркивавшем ее сходство с молодой белоствольной березкой, не украинка по обличью, не украинка, как я вскоре уловил, и по выговору, с большими голубыми глазами, оттененными пушистыми черными ресницами, с прядками русых волос, выглядывавших из-под белого, в горошинку, платка. Читать акафист вышли архиереи и священники. Вышел и владыка Андрий, сидевший до войны, затем, уже при Хрущеве, получивший еще срок по наспех сфабрикованному делу, а фактически за то, что отказался закрыть в Чернигове собор и разогнать монастырь («Я призван насаждать, а не закрывать, – объявил он властям, – а тюрьмой меня не запугаете – я уже несколько лет отсидел, посижу еще»), после низвержения Хрущева досрочно освобожденный и скончавшийся в Печорах, в монастыре, где он, заболевший после второго лагерного срока душевным расстройством, жил на покое. При виде выходившего из алтаря духовенства моя самоуглубленная соседка встрепенулась, из ее огромных глаз брызнули голубые лучи, и она сказала вполголоса, обращаясь к самой себе: «И владыка Симон здесь! И Андрий! И Гурий! Голубчики вы мои! Опять я вас всех увидала!»
Литургию служил патриарший экзарх всея Украины митрополит Иоанн с сонмом епископов и иереев. И вот молодой протодьякон о. Антоний Битковский, – темно-каштановые волосы по богатырским плечам, – обладатель мощного баса с церковным тембром, грянул: «И о всех и за вся». Гайдая словно током ударило: он вздрогнул, взмахнул руками, как крыльями, и хор взметнул отрывающее человека от земли, страшное в своей ураганной силе «И о всех и за вся» Чайковского, «И о всех» – архангельские трубы усиливают звучание слова «всех»; оно грозно, это нарастание, но и утешительно: никого не забывает православная церковь – ни иноверцев, ни безбожников. Мгновенный переход: «и»… – это влился и заглушил архангелов звонкоголосый гимн серафимов; и вновь – но только с удесятеренной мощью, ибо это уже молитва за всякую тварь, за каждую былинку, за все мироздание – грохочет архангельский трубный глас: «за вся». Судорога восторга перехватила мне горло, а затем я услышал рыдание – оно рвалось как бы не из моей груди. Мне стало стыдно, и я сделал вид, что закашлялся.
Я девять лет подряд ездил в Киев ради Киево-Печерской лавры и ради хора Гайдая, иной раз – прямо из Москвы, иной раз давая изрядного крюку: по дороге в Москву из Ялты или из Хосты «заезжал» в Киев и там застревал на месяц. Я уже знал, что Гайдай возвращается из отпуска к Владимирову дню – к 28 июля, – и к этому сроку подгадывал свой приезд в Киев, бросая отдых на юге.
Мое знакомство с Михаилом Петровичем состоялось не скоро, за что мне потом от него досталось: почему я стеснялся подойти к нему и заговорить?
Первое его письмо ко мне (осень 1960 г.), написанное уже после того, как наше знакомство состоялось, начинается так:
«Милый мой Николай Михайлович! Жизнь моя почти окончена. Но на склоне дней знакомство с Вами дало мне огромную радость. Глубоко сожалею, что столько последних лет мы ведь могли видеться и наговориться вдоволь, а судьба-злодейка сделала так, что мы и видели друг друга, но молчали, не были знакомы, и лишь по письмам я мог догадываться, какой чуткий, сердечный человек слушает мое пение».
До знакомства я лишь дважды – в разные годы – писал Михаилу Петровичу письма и вручал их ему лично, но потом старался не попадаться ему на глаза – боялся показаться назойливым. И только летом 1960 года, незадолго до его ухода из собора, меня с ним сдружила Екатерина Павловна Соловьева.
В то лето мы с Михаилом Петровичем виделись почти каждый день, говорили о музыке, о пении светском и церковном, о живописи, о литературе. По его просьбе я читая ему наизусть стихи Ахматовой, Бунина, Есенина, Пастернака.
По внешнему виду – типичный, чистейшей воды украинский интеллигент, с серебряным чубом; глаза у него пытливые, все чего-то ищущие, к чему-то прислушивающиеся, что-то поглощающие, – глаза человека, сущность которого составляет творческое начало. Николай Николаевич Вильям-Вильмонт, встретившись с ним у нас в Москве, отметил, что у Гайдая талант на лице написан.
Церковный певец с малолетства, певший в Софийском соборе у легендарного, упоминаемого в булгаковской «Белой Гвардии», регента Калишевского и скоро сделавшийся его помощником («Строгий был, – вспоминал о Калишевском Михаил Петрович, – чуть что не так – раз камертоном по лбу! Ну, а ко мне благоволил: когда уезжал на охоту, я его замещал»), Гайдай отличался разносторонностью музыкальных запросов. Киевляне мне еще раньше говорили, что на всех мало-мальски интересных светских концертах, симфонических, фортепьянных, вокальных, всегда можно увидеть характерную фигуру Гайдая. Да он и сам отдал дань светскому вокалу: руководил певческими капеллами и хорами, занимался в Украинской академии наук песенным фольклором, воспитал такую оперную певицу, как его дочь Зоя Гайдай. Из разговоров с Михаилом Петровичем выяснилось, что наряду с дирижерством он увлекается пейзажной живописью, пишет стихи.
И на спевке, на которую он меня пригласил, я удостоверился, что к певческому искусству он подходит не только как музыкант, но и как художник и как поэт.
– Я люблю в пении краски, – говорил он мне. Как настоящий поэт, он мыслил образами. Вот он разучивает на спевке к Успеньеву дню концерт Рахманинова
«В молитвах неусыпающую Богородицу…» и так поясняет его певцам:
– Костер разгорается… Буря… Буря… Весь хор на коленях… Слышите, как плачут альты?.. А тут и русская песня, и колокола…
Все время идет работа над дикцией, над правильностью ударений:
– «В молитвах», а не «в молитва», звук х должен быть слышен! Повторяется «Великое славословие» Мясникова:
– Слова! Слова! Я слов не слышу! Интонировать правильно! Против ударений не петь! Что это за «милость Твою»?
Гайдай, как и Холмогоров, не принимал Шаляпина-церковного певца. От Холмогорова я слышал: «Мефистофель – вот это дело Федора Ивановича. А в нашей области он чужой». Гайдай утверждал, что Шаляпин в церковном пении не мог избавиться от театральности. Но это не мешало Михаилу Петровичу давать высочайшую оценку Шаляпину как певцу светскому:
– Шаляпин – мой бог.
И это не на ветер брошенные слова. Гайдай по-шаляпински ненавидел «звучок». Он добивался и достигал, как он выразился в одном из первых писем ко мне (осень 1960 года) «содержательных звуковых ощущений». Именно в сочетании содержательности и чистоты звука видел он свою наиболее характерную особенность и причину своего успеха как интерпретатора и дирижера.
«Бесстрастного, холодного пения, не проникнутого верой в то, что исполняешь, у меня никогда не было», – писал он мне в 1961 году.
А за год до этого:
«Без правды и красоты пустое бесчувственное словоизвержение будет тягостным и потому лишним. Те различные стили, различные веяния, которые существуют во всех искусствах, я стараюсь, насколько могу и умею, осмыслить и найти в них пищу для познания, но не все, конечно, принимает душа, и я каюсь перед Вами, что до меня (может быть, и напрасно) не доходят футуристические и всякие левые веяния, которые теперь парят в искусствах. Этим, вероятно, я обедняю себя, – ведь знать надо, по возможности, все, – но это зависит от моего старого воспитания, основанного на правдивом, понятном и доходчивом искусстве. В живописи я никак не могу понять всех этих кубистов и других фигляров, уничтожающих настоящее искусство. А разве не то же в поэзии и музыке? Бетховен, Глинка и Чайковский всегда будут мне дороже, чем Маяковский, Прокофьев, Шостакович и Стравинский в их левых сочинениях, где различные диссонирующие умствования заслоняют красоту и чистоту мелодии и гармоник. В русской церковной музыке, к счастью, до сих пор не произошло таких острых левых сдвигов, которые бы пошатнули древние церковные распевы. Новые веяния, которые внесли в церковную музыку Чайковский, Рахманинов, Львовские, Гречанинов, Чесноков и др., обновили церковную музыку, внесли в нее свежую струю. Ведь Глинка, Турчанинов, Львов и др. писали в гомофонном, а не полифоническом стиле, господствующем в творениях всех выдающихся европейских композиторов. Древние распевы только выиграли от прикосновения к ним вышеупомянутых композиторов. Бортнянского, – редактировавший его Чайковский опрометчиво назвал его Сахаром Медовичем,[29]29
М. П. Гайдай ошибся: не Чайковский, а Глинка в письме к Булгакову.
[Закрыть] переложения древних напевов и многочисленные концерты всегда будут жить в церковной музыке. Лирико-драматический стиль его сочинений, проникнутых большим чувством и хорошо звучащих, всегда будет потрясать слушателей».
О Стравинском Гайдай отозвался так:
– Фокусник, отличный музыкальный фокусник, эксцентрик, но и только.
А о Шостаковиче:
– Слушаешь: как будто все ясно, все прозрачно, и вдруг намутит, намутит… Зачем? Для чего?..
Гайдай не переваривал кривлянья в искусстве, его отталкивало от себя все мелкое, пустопорожнее, крикливое, пошлое.
«Музыка, которою нас балуют радио и телевизор, почти всегда ужасна, – фокстроты… не дают покоя…», – жаловался он в июньском письме 1962 года.
Гайдай любил в церковно-композиторском, да и во всяком искусстве простоту, но только простоту художественную, простоту прекрасную.
Как-то, отпев мое любимое «Великое славословие» Сампсоненко, он передал дирижерство своему помощнику Василию Павловичу Беседовскому и, выйдя на лестницу, столкнулся со мной. Мы с ним тогда уже, не будучи официально знакомы, здоровались. Я сказал Михаилу Петровичу, что в каждом созвучии этого славословия мне видится чистая глубина, ласковое прикосновение тихой волны, смывающей с души налипшую на нее грязь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































