Текст книги "Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 3"
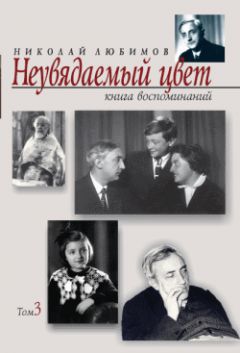
Автор книги: Николай Любимов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
У Юсова – Ильинского многое уже в прошлом. Он уже не пляшет с тою молодцеватостью, с тою лихостью, с какой, должно полагать, плясал во время оно. Юсов – Ильинский как бы намечает все телодвижения пунктиром, он словно показывает: вот как я плясал, когда молод был.
Говорят, что Степан Кузнецов плясал молодо («дай-ка, дескать, тряхну стариной»). Охотно верю, что у него это получалось отлично. Такая трактовка возможна, тем более что победителя не судят. Однако трактовка Ильинского мне представляется более близкой к замыслу Островского. Вспомним, как в третьем действии после пляски Юсов расчувствовался и расфилософствовался: «Я теперь только радуюсь на божий мир! Птичку увижу, и на ту радуюсь, цветок увижу, и на него радуюсь: премудрость во всем вижу».
Такое размягченное любомудрие разводят обыкновенно старики, которые перешли уже некую грань, которых и ноги плоховато слушаются и у которых вообще уже нет былой прыти и удали.
Когда-то Юсов – Ильинский долго и упорно клевал по зернышку, но все это позади. В своей сфере он важная шишка. Вот отчего до Белогубова он снисходит: его благополучие, его величие представляются ему столь прочными, что сидение в трактире в компании мелких чиновников, к которым он относится отечески-покровительственно, не может, по его разумению, бросить на него и самомалейшей тени. Вот отчего он слушает рацеи Жадова чаще всего с тупо-скучающим видом (дескать, «Не любо не слушай!» «Слыхали! – мол. – Хорошо поешь – где-то сядешь!»), с видом человека, всему и всем знающего цену, в том числе Жадову. Сколько величественного, но по существу беззлобного презрения в этом поклоне задом, который отвешивает ему в первом действии Юсов – Ильинский со словами: «Ну что ж делать, ошиблись, извините, пожалуйста, не знали ваших талантов». Злобствовать он считает ниже своего достоинства.
В трактире Юсов выходит из равновесия, но ведь он в подпитии. Да и потом, Жадов разозлил его не столько своими суждениями, сколько тем, что не захотел выпить с ним и с Белогубовым, погнушался ими. Да нет, даже и не этим. Разозлило Юсова то, что Жадов в его присутствии смеет читать газету, а еще больше – сама газета. Юсов в исполнении Ильинского – человек неглупый, человек проницательный. Он верхним чутьем учуял, что Жадов сам по себе ему не опасен, что в конце концов он склонит непокорную голову, – опасны те веяния, о которых разглагольствует Жадов, опасны и необоримы те новые идеи, которыми Жадов «заражен». А идеи и веяния в его, Юсова, затуманенном винными парами мозгу олицетворяет сейчас газета, вернее всего, ни в чем перед вышневскими и юсовыми не повинная. И он с привязчивостью пьяного сначала косится на газету, потом схватывает ее с жадовского столика, комкает, швыряет на пол, топчет ногами, и, так как учинить над ней что-либо непотребное в публичном месте неудобно, то он льет на нее из бутылки пиво – это апофеоз юсовского презрения, на сей раз – желчного, и опять-таки своего рода пунктир («что бы я сделал с ней дома!»).
Юсов – Ильинский тактичен. Он знает, как и с кем себя вести, он знает свое место, не забывается. Сановито проходит мимо лакея Вышневского, небрежно бросает ему: «Доложи-ка, Антоша», но стоит лакею сказать: «Пожалуйте», – и Юсов сам мгновенно превращается в лакея, втягивает голову в плечи, становится как бы ниже ростом и – петушком, петушком – прошмыгивает к своему принципалу и благодетелю. И Аристарху Владимирычу он внимает с благоговением, жадно ловит каждое его слово, когда оно доступно его пониманию, когда оно вызывает в нем непосредственное сочувствие или когда оно учит его уму-разуму, а ведь Юсов из тех, которые полагают, что кашу маслом не испортишь, которые всегда рады поучиться не такому уж простому искусству наживы.
В 1952 году в статье «Драматург – режиссер» Ильинский рассказал о своей работе над ролью:
«Искусство сцены отличается от литературы и кино, живописи и других видов искусства главным образом тем, что в нем никогда не ставится точка. Художник написал картину, сделал последний мазок, и на выставке она уже существует самостоятельно, без него. Так же с кинофильмами: закончена съемка, монтаж – и шествует по экранам уже завершенный фильм, существуя независимо от создавших его актеров, режиссеров.
Другое дело театр. Спектакль, роль никогда не бывает сделана раз навсегда. Каждый раз, когда на сцене идет этот спектакль, актер творит роль заново. В этом есть очень большое преимущество для нас: драматический актер все время, от спектакля к спектаклю имеет возможность работать над более точным и интересным воплощением играемого образа. Это, конечно, ни в коем случае не значит, что в театре можно показывать сырой, неготовый спектакль или недоделанную роль, – я говорю только о возможности и необходимости в готовом спектакле, не отходя от его режиссерского замысла, искать все более правильную и точную его реализацию. Четырнадцать лет играю я Хлестакова и до сих пор не перестаю работать над этим образом».
Вот так и роль Юсова от спектакля к спектаклю выбрасывала у Ильинского все новые и новые побеги, обогащалась ценными подробностями, новыми находками, как всегда у Ильинского, ярко театральными, броскими и характерными.
И вот так – от концерта к концерту – углубляет и освежает Ильинский то, что читает с эстрады.
2 января 1968 года я записывал на радио свое выступление, посвященное ему. Потом записывался Ильинский. В который раз читая рассказ Чехова «Пересолил», он внезапно впал в отчаяние. С виноватым и убитым видом обернулся ко мне и пролепетал:
– Нет, у меня ничего не выйдет! В глазах слезы, как у прилежного мальчика, у которого не выходит задача по алгебре. Затем углубился в себя, беззвучно зашевелил губами, потом заговорил вслух и прочел рассказ с таким аппетитом, будто читал его впервые. И тут же нашел новую интонацию для концовки: «Дорога и Клим ему уже не казались опасными». Он произнес, эту фразу как полувопрос, с облегченным удивлением: мол, чего же было бояться?..
Щедрин в сказке «Коняга» вывел пустоплясов. Метил он в либеральных болтунов с народническим отливом. Какие фальшивые модуляции слышны в голосе Ильинского, каким бенгальским огнем горят у него глаза, когда он изображает пустоплясов, славословящих Конягу:
– Смотрите, как он вытягивается, как он перед ними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! Вот кому надо подражать!
И вдруг – страшный в своей остервенелой злобе взгляд и окрик, от которого кровь леденеет в жилах:
– Н-но, каторжный, н-но! Это окрик управляющих, помещиков, старост, старшин, становых, исправников, губернаторов.
Ильинский великолепен, когда он, читая поэму Ал. Конст. Толстого «Сон Попова», изображает пустобая-министра, грошовый либерализм которого мгновенно линяет, как скоро он усматривает нечто предосудительное в поведении безобиднейшего Тита Евсеевича Попова; Ильинский великолепен и когда он изображает самого Попова с его гаммой чувств и ощущений. Но его шедевр, одна из вершин его актерского и чтецкого искусства – это жандармский полковник.
На сцене Малого театра Ильинский язвяще и жаляще играл Загорецкого. Это был не просто сплетник, хотя бы и злостный, и не только отъявленный мошенник, плут, как рекомендует его Платон Михайлович. Прежде всего это был соглядатай, наушник.
А на эстраде Ильинский показал нам повелителя загорецких.
У этого человека стеклянные глаза, в которых нет ни проблеска человечности, втянутая верхняя губа, глухой замогильный голос, и при таком выражении лица и при таком тембре – инфантильное невыговаривание «р» и «л», и от этой его картавости становится только еще жутче.
Я в те года, когда мы ездим в свет,
Знау вашу мать. Она быуа святая, —
вкрадчивым piano начинает он, зловеще потирая одну руку об другую, но мало-помалу вкрадчивый тон «уазоевого поуковника» делается все грознее и грознее. И наконец, видя, что все мирные средства с «надменным санкюотом» исчерпаны, полковник берет устрашающее forte:
… не то, даю вам суово,
Ч’ез поучаса вас изо всех мы сиу …
Ильинский наделен даром внушать ужас, возбуждать ненависть и отвращение, трогать до слез и вызывать неудержимый смех. Именно ужасом веет от концовки «Как яблочко румян…» Беранже в его чтении, веет дыханием близкой смерти. Прерывистое, захлебывающееся бормотание токаря (рассказ Чехова «Горе»), выражающее его растерянность, его беспомощность перед внезапно свалившимся на него несчастьем, – это не менее удачная находка, чем инфантилизм выговора у полковника из Третьего отделения.
Ну, а теперь послушаем совсем иную скороговорку.
На эстраде бедовый мальчуган. Начинает он рассказывать бойко и уверенно, в глазах у него сверкает задор. Но его рассказ о доме, который построил Джек, обрастает новыми подробностями, темп его убыстряется и увлекает за собой мальчугана. Мальчуган как будто и сам уже не рад, что начал рассказывать, а остановиться нельзя, и он с искаженным лицом добегает до конца строфы, переводит дыхание – и опять строчит как из пулемета:
А это корова безрогая,
Лягнувшая старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится,
В доме, который построил Джек.
Дикция у Ильинского такова, что, несмотря на бешеный темп, для слушателей не пропадает ни один звук.
Оглянется с опаской мальчуган, не слышит ли хозяйка, и – сначала медленным шепотом:
А это старушка, седая и строгая…
И опять понесся, и тут уж только по выразительным движениям губ догадываешься, о чем в этот именно миг они шепчут – стремительно и чуть слышно.
Посетителей литературных концертов Ильинского я уже несколько раз назвал слушателями. Название не точное. Это и слушатели и зрители одновременно. Ильинский и на эстраде остается актером. Чтецов не перевоплощающихся он не любит.
Никакой принципиальной разницы между его выступлениями на сцене и на эстраде нет. Его литературные вечера – это театральные представления, только без декоративного фона и без бутафории. Ильинский выступает без грима, в своем обычном костюме, и подчас в одной и той же вещи ему приходится играть несколько ролей. Все это сильно усложняет его задачу. Но такова гибкость его голоса и мимики, так много-говорящи его жесты, что вспомогательные средства ему не требуются.
В «Сапогах» Игорь Ильинский на глазах у зрителя превращается то в боязливого, мнительного настройщика Муркина, то в заспанного и угрюмого коридорного Семена, то в охрипшего с перепою актера-простака «короля Бобеша», то в играющего голосом, самовлюбленного Нарцисса – «первого любовника» Блистанова, он же – «Синяя Борода», который после того, как Муркин в присутствии простака нечаянно выдал тайну («первый любовник» провел ночь с супругой «простака»), разыгрывает оскорбленную добродетель, петушится и, показывая на Муркина, ни живого, ни мертвого от страху, рычит: «Я из него бифштекс сделаю, уа-а-а!..» Весь он тут, плохой мелодраматический актер с завываниями, с метаниями по сцене, Дон Жуан из уездной глуши и нахальный лгун.
Художественные подробности, художественные мелочи, подсмотренные и подслушанные Ильинским у самой жизни, у живых людей, сразу же создают ему атмосферу зрительского доверия.
Возница из чеховского рассказа «Пересолил» понукает у него лошадь: «Но-а!» В этом «но-а» я слышу знакомые с детства голоса возниц, с которыми мне доводилось совершать многоверстные путешествия на телеге по унылым большакам и тряским проселкам.
Эти его художественные подробности, и бытовые (недаром Ильинский любит таких актеров-«жанристов», как Варламов, Давыдов, Грибунин) и психологические, не пришиты к тому или иному действующему лицу, они – естественное выявление его внутреннего облика, и они дополнительно характеризуют его.
Трусишка-землемер из рассказа Чехова «Пересолил», фанфарон поневоле, из страха, что на него нападут но дороге разбойники, а чего доброго и сам возница, корчит из себя отчаянного храбреца и наигранно-небрежным тоном спрашивает:
Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?
За этим следует притворный зевок в руку – это, мол, он так задал вопрос, между прочим, из любопытства.
Чем ему страшнее, тем больше он хорохорится, а чем больше хорохорится, тем ему страшнее. И чем фанфаронистее его похвальба, тем сильнее он заикается от страха. И из этого диссонанса вырастает дополнительный комический эффект:
– …силы у меня, словно у… у… у… быка…
… у каждого по пи… пи… пистолету…
Читая рассказ Чехова «Оратор», Ильинский, изображая главного героя, произносящего речь на похоронах, делает приличествующую случаю торжественную физиономию и время от времени, как бы под наплывом мыслей, прерывает речь многозначительными паузами. Но в том-то и беда оратора, что он силится хоть что-нибудь из себя выдавить, мыслей у него никаких нет, и его паузы то и дело повисают в воздухе.
Мнимый врач из «Ночи перед судом» Чехова в трактовке Ильинского – квинтэссенция пошлости. Перебирая босыми ногами, он предлагает даме из-за ширмы персидский порошок от клопов с таким видом, точно он поет серенаду и протягивает ей букет цветов.
Читая басню Крылова «Вельможа», Ильинский намеренно русифицирует образ. У этого «сатрапа» русские интонации, русская артикуляция, русский выговор. И нам становится ясно, что Крылов только по цензурным соображениям сделал своего вельможу персом, что это вынужденный маскарад, что на самом деле это какой-нибудь наш столоначальник.
«Слона и Моську» Ильинский заканчивает тем, что поднимает ногу и исчезает словно за подворотней. Если хотите, это озорство, но озорство не ради озорства. Вот чем обыкновенно кончаются проявления удали у четвероногих и двуногих мосек – таков смысл жестикуляционной концовки, придуманной Ильинским.
Читая «Как яблочко румян…», Ильинский после каждой строфы с рефреном смеется в ритме рефрена, и это придает всему исполнению какой-то особенный, французский колорит.
«Речь его течет гладко, ровно, как вода из водосточной трубы…» – характеризует Чехов ораторское искусство Запойкина. Ильинский произносит: «водосточной трубы», чуть дотрагиваясь до согласных. Этот звукообраз создает у слушателей представление о влажной текучести речи «оратора».
Ильинский-чтец исчерпывает до дна заложенные в тексте возможности для дорисовки внутреннего и внешнего облика действующих лиц. С этой целью он часто играет авторскую речь, как бы вкладывает ее в уста героев.
Строки из стихотворения Твардовского «Про Данилу», относящиеся к подгулявшему ради праздника старику, Ильинский поет старчески-пьяноватым голосом:
И никак не мо-о-жет
Дед угомони-и-ться.
Называя возраст Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, Ильинский одновременно показывает, каковы они с виду. Афанасий Иванович – сплошное добродушие; на лице у Пульхерии Ивановны написана забота, наивная ласковость и приветливость.
Когда Ильинский доходит до того места, где говорится, что Афанасий Иванович «любил подшутить» над Пульхерией Ивановной, лицо у него расплывается в улыбке, и он лукаво подмигивает.
Рассказывая о том, как гость Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны «с значительным видом» сообщал, что «француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта», Ильинский, придав своему лицу грозное выражение, залихватски покручивая воображаемый ус и надсадно кашляя, набрасывает портрет этого гостя, воинственный азарт которого не вяжется с его по-стариковски натужным кашлем.
Описывая внешность Муркина, и не просто описывая, но и тут же перевоплощаясь в него, Ильинский слова «с ватой и ушах» произносит жалобным козлетоном этого «болезненного» человека.
Читая о том, как Моська, увидевши Слона, начала метаться, и лаять, и визжать, и рваться, Ильинский произносит эти глаголы, если можно так выразиться, моськиным голосом, – он их отрывисто, тонко, с привзвизгом пролаивает.
В «Золотом петушке» Ильинский рисует нарастающее смятение царя Дадона: сыновья пропали, он идет с войском их разыскивать, но не встречает на своем пути «ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана», затем видит шатер, побитую рать, лежащую в ущелье, потом двух своих мертвых сыновей.
Вдруг шатер
Распахнулся… и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя.
Слова «шамаханская царица» он произносит как бы от лица Дадона, с глубоким вздохом восторга, и восторженный этот вздох стоит обстоятельного описания прелестей ее и красот.
В басне Михалкова «Заяц во хмелю» Ильинский по-львиному рыкливо зевает:
Пра-аснулся ле-е-ев… —
становясь в то же время разительно похожим на льва. Так, ухватившись за два слова авторской ремарки, он мимикой и голосом рисует пробуждение хищника.
Как много может высказать взгляд Ильинского, в этом нас убеждает его Аким. Но такой же безмолвный взгляд Фомы Фомича Опискина в финале «Села Степанчикова» – взгляд, украдкой обращенный на полковника Ростанева после того, как Фому простили и он вынужден принять участие в семейном торжестве, взгляд, в котором и черная зависть и угроза отомстить за временное поражение, – в своем роде стоит взгляда Акима.
В глазах у Мурзавецкого застыло желание выпить. О чем бы он ни говорил, что бы ни делал, тайная дума его – «ночью и днем все об одном».
Об Афанасии Ивановиче Ильинский говорит, что когда-то он был «молодцом», «он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну», и в это время лицо Ильинского принимает молодцеватое выражение, он приосанивается, но эта молодцеватость, эта бравость Афанасия Ивановича видна зрителям как бы сквозь дымку его воспоминаний.
В «Горе» Чехова Ильинский не показывает странных глаз жены токаря, он показывает горестное изумление в глазах самого токаря, внезапно по этим странным глазам догадавшегося, что его старуха смертельно больна.
А вот каков у Ильинского жест: Афанасий Иванович – Ильинский ест воображаемый арбуз. Он с наслаждением кусает его сладкую мякоть, мы видим, как липкий сок течет у него по подбородку и стекает на отворот халата. Афанасий Иванович вытирается рукавом.
Попов – Ильинский, которому приснился страшный сон, – «поздравить он министра в именины в приемный зал вошел без панталон», за что был немедленно переправлен в «дом, своим известный праведным судом», и там со страху оговорил лучших своих друзей, – наконец просыпается. В окно к нему заглядывает солнечный весенний день, а на спинке кресла преблагополучно висят панталоны.
То был лишь сон! О счастие! о радость!
Моя душа как этот день ясна.
Не сделал я Бодай-Корове гадость!
Не выдал я агентам Ильина! —
вне себя от счастья восклицает Попов – Ильинский, делая при этом вид, что натягивает сперва одну штанину, потом другую, натягивает ликующе, потому что ведь в штанах-то все и дело: раз штаны на месте, стало быть, все это ему снилось – и гнев министра, и недвусмысленные угрозы жандармского полковника, и как он себя там гадко повел с перепугу.
Ильинский-сатирик, Ильинский-юморист, Ильинский-психолог, Ильинский-лирик, Ильинский-бытописатель, Ильинский-портретист, Ильинский-пейзажист. К этому еще надо добавить: Ильинский – художник-анималист. И в анималистической живописи Ильинский остается верен себе, и тут его образы резко индивидуализированы. Степенный положительный котище, который усовещивает лодырей (стихотворение Маршака «Лодыри и кот»), совсем не похож на крыловскую кошку-хищницу, которая поймала соловья («Кошка и Соловей»), смотрит на него с вожделением, а когда соловей начинает в когтях у нее трепыхаться, ударяет его лапой с требованием: «Не трепещи!» – да еще предлагает ему спеть. Кошку сменяет надутая, сонная, тупая свинья из басни Крылова «Свинья», свинью – забиячливая, нахальная, уморительная моська, моську – перепуганный и по-детски оправдывающийся зайчишка: «Ну как тут было не напиться?» («Заяц во хмелю»).
В творчестве Ильинского, как во всяком классическом произведении искусства, постоянно находишь что-нибудь новое, прежде не замеченное, как бы часто ты ни видел его в одной и той же роли, как бы часто ты ни посещал его литературные концерты. Глаза у Ильинского зоркие, слух – изощренный, и каждый раз он на что-нибудь да раскроет тебе твои близорукие глаза, каждый раз заставит прислушаться к не долетавшим до тебя голосам жизни.
У меня накопилось довольно много книг с автографами. Одни из самых отрадных для меня надписей – это надписи, сделанные мне Игорем Ильинским на двух изданиях его книги воспоминаний «Сам о себе». Вот одна из его надписей:
«Дорогому другу Николаю Михайловичу Любимову с благодарностью за его внимание и за то, что он укреплял мою веру в себя, которую я порой терял. Игорь Ильинский. 3 марта 74 г.»
… Мог ли я думать, что получу книгу с такой надписью, когда в 33-м году впервые шел в Театр Мейерхольда на спектакль с участием Игоря Ильинского, уверяя себя, что ничего доброго из этого «Назарета» не было и быть не может?..
Лето 38-го, 39-го и 40-го годов я провел в Тарусе, захватывая и раннюю осень; приезжал несколько раз зимой и ранней весной. Часто виделся с Надеждой Александровной Смирновой, особенно осенью, когда, бывало, схлынет волна ее родных и знакомых, когда разлетится стайка порхавшей вокруг нее московской театральной, «гитисовской» молодежи, и в зимнюю пору, когда жизнь в Тарусе булькала под сугробами, когда в городе оставались тарусяне, а так называемые «тарусоиды» в Москве, а кое-кто и в Ленинграде, жили мечтой о весенней встрече с Тарусой.
В ту пору, когда я познакомился с Надеждой Александровной, я, не закрывая глаз на обмеление Художественного театра (такие спектакли, как «Достигаев и другие», «Половчанские сады», «Тартюф», «Трудовой хлеб», несмотря на отдельные актерские удачи, особого восторга во мне не вызывали), в теории был воинствующим «художественником». Да таковым я и остался. Я и теперь отдал бы целые театры за один удар леонидовского грома, за один качаловский клейкий, распускающийся весной листочек, за молитву Луки – Москвина о новопреставленной Анне, за несколько туров вальса, который танцевала Книппер-Чехова в третьем действии «Вишневого сада», за ту сцену из «Дней Турбиных», где гибнет Алексей – Хмелев, и за следующую сцену, где весть об его гибели доходит до Елены – Соколовой, за то, как философствовал за коньячком Федор Павлович – Лужский. Но теперь я на огромном расстоянии смутно различаю красоту искусства Малого театра былых времен, ощущаю, как мне ее недостает, как безгранично много я потерял, оттого что не видел его корифеев. А тогда я вызывающе щеголял афоризмом собственного изделия: «Русский театр открылся в октябре девяносто восьмого года». До этого, мол, были гастрольные выступления гениальных артистов Малого и Александринского театров. Бухнул я это и Надежде Александровне и вот что услышал в ответ:
Ты знаешь, как я люблю Станиславского: Станиславского-актера, Станиславского-режиссера, Станиславского-человека. Мы были с ним очень близки, и с ним, и с Марьей Петровной. Два лета провели вместе за границей, и Станиславский первые мысли о своей системе диктовал Эфросу. И все-таки я вот что тебе скажу: когда в спектакле Малого театра принимали участие Марья Николаевна Ермолова, Ольга Осиповна Садовская, Лешковская, Ленский, Южин, Михаил Провыч Садовский, то никакой Станиславский им был не нужен. Они несколько раз сойдутся, пошепчутся, и у них рождаются такие дивные спектакли, как «Таланты и поклонники», «Волки и овцы». Это уж, милый мой, не гастрольное выступление, как ты выражаешься, Ермоловой в «Орлеанской деве», – это был самый настоящий ансамбль.
22 июля 74-го года я услышал от Игоря Владимировича Ильинского такие слова:
В начале века Станиславский создал великий театр.
Теперь я думаю, что оба правы. Победителей не судят. А кто эти победители – актеры, бывшие одновременно и режиссерами спектаклей (ибо полноценный спектакль – явление коллективного творчества и без режиссера или без режиссеров так же невозможен, как оркестр без дирижера), Станиславский, святое имя которого мне так же дорого, как имена Пушкина и Достоевского, или Немирович-Данченко, которому мы обязаны тем, что он заразил своей любовью к Чехову Станиславского и в содружестве со Станиславским и артистами Художественного театра создал театр Чехова, тем, что он разглядел в Достоевском драматурга и вместе с артистами и сорежиссером Лужским создал один из лучших спектаклей XX века («Карамазовы»), – это для меня, хотя и влюбленного в театр, но самого обыкновенного, рядового зрителя в конечном итоге не столь уж существенно.
Я чувствовал себя вполне удовлетворенным, когда присутствовал при полном слиянии актерского образа с авторским, когда режиссеры освещали мне самую-самую глубь драматического произведения. Расхождения с авторским замыслом я скрепя сердце «прощал» только Мейерхольду. Станиславский как-то обронил золотые слова, смысл которых сводится к следующему: Мейерхольд талантлив даже в своих заблуждениях. Но право на заблуждения надо заслужить. Мейерхольд возмещал заблуждения искрометностью и быстрокрылостью своей фантазии, кипучестью темперамента, широтою взгляда, обнимавшего творчество автора в целом, и его время, своей тонкой и разносторонней культурой, вобравшей в себя и знание истории, и знание литературы, и знание живописи, и знание музыки, своей интеллигентностью в высшем смысле этого слова и тем, что, при всем своем эгоцентризме (временами ох как мешавшем ему!), он больше всего на свете любил искусство, а не себя в нем. Но вот уж «уцененным Мейерхольдам» я их выкрутас и вытребенек не прощал.
Можно подумать, что именно театральных лженоваторов в первую очередь имел в виду Лев Толстой, беседуя с Гольденвейзером: «…когда нет настоящего таланта (курсив здесь и дальше мой. – Н. Л.), и начинают стараться во что бы то ни стало сделать что-то новое, необыкновенное, тогда искусство идет к чертовой матери» (Г о л ь д е н в е й з е р Л. Вблизи Толстого).
И, конечно, в первую очередь театральных лженоваторов имел в виду Шаляпин, когда писал в статье «Прекрасно и величественно»:
«В новом искусстве, пока что, к сожалению, много нарочитости, надуманности.
Искусство настоящее этой нарочитости не допускает и не прощает» (курсив везде Шаляпина. – Н. Л.).
4 ноября 65-го года я побывал в Ереване у художника-поэта Мартироса Сергеевича Сарьяна. Вернувшись в гостиницу, я записал мысли, высказанные им в разговоре со мной.
Вот одна из них:
«Искусство должно идти от души. А когда художник придумывает для того, чтобы удивить, – это уже не искусство».
Одним из моих университетов были встречи с Эдуардом Багрицким, Сергеевым-Ценским, Борисом Пастернаком, Маршаком. Одним из университетов и школой высокой морали был для меня Театр. Преподанное мне я не всегда усваивал как должно, но повинны в том отнюдь не наставники, а время от времени ослабевавшая и подводившая ученика восприимчивость.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































