Текст книги "Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 3"
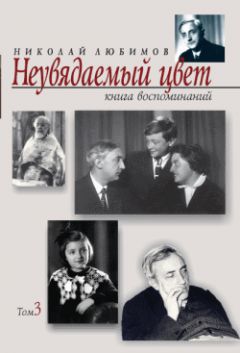
Автор книги: Николай Любимов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Он читал поэму, время от времени перекатывая папиросу из одного угла губ в другой, как бы от лица одного из «двенадцати», с устремленными в дальнюю даль глазами, не делая сильного упора на стихах-лозунгах («Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг», «Вперед, вперед, Рабочий народ!»), промахивая их, как скорый поезд – полустанки, словно давая понять, что лозунги – это временное, преходящее, что дело не в них и даже не в «двенадцати», а в том космически-огромном и преобразующем, что свершается сейчас в России, а благодаря революционной России и на всей земле, более того – в целой вселенной. По Яхонтову, «двенадцать» не вполне сознают, что происходит вокруг них, не ведают, что они творят, – за них, их руками творит История.
И всю поэму Яхонтов читал на фоне слитного гула от крушения старого мира, который слышался самому Блоку, когда он писал свою поэму. Нет, я совсем не так выразился. Не фоном, а первым планом для Яхонтова была музыка революции, ветер на всем белом свете, ветер с красным флагом, разыгравшаяся вьюга, пылящая пурга, и в этой вьюге мелькали «двенадцать» со своей Катькой.
Для Яхонтова Маяковский был прежде всего лирик, автор «Про это», автор «Разговора на одесском рейде», где Яхонтов создавал полную иллюзию переклички разноголосых пароходных гудков, автор «Мелкой философии на глубоких местах», финал которой Яхонтов читал, глядя тоскующими глазами в пространство и медленно проводя рукою в воздухе мягкую линию:
Я родился,
рос,
кормили соскою, —
жил,
работал,
стал староват…
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.
С горькой и страстной иронией читал Яхонтов строки из «Тамары и Демона»:
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступы
с такой бездарностью
я променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь,
и не построчно,
а даром
реветь
стараться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.
Яхонтов не гнушался иллюстративным жестом, если он подкреплял интонацию. И с яростной обидой за поэта Яхонтов трижды делал такое движение, как будто он рвет струны, а голос его передавал глуховатый, носовой звук порванных струн.
Читая строки из стихотворения Маяковского «Красавицы»:
Аж на старом
на морже
только фай
да креп-де-шин,
только облако жоржет, —
Яхонтов пробегал руками вдоль тела, рисуя волнистые складки, какими ниспадали платья на «старых моржах».
Такие выразительные руки, как у Яхонтова, я видел потом только у Вертинского.
С молящей задушевностью, которая у Маяковского, как и у Гейне, появляется всегда неожиданно, в гневном, юмористическом или ироническом контексте (а то как бы, упаси бог, не заподозрили в слезливости!), произносил Яхонтов в «Тамаре и Демоне» эти строки:
Любви я заждался,
мне 30 лет.
Полюбим друг друга.
Попросту.
Крестьянин Есенин и горожанин Маяковский любили животных.
Асеев говорил мне, что Маяковский мог по-детски расплакаться, увидев на улице беспризорную собачонку, и унести ее к себе.
Одна из наибольших удач в исполнительском искусстве Качалова – «Песнь о собаке» Есенина. Одна из наибольших удач в исполнительском искусстве Яхонтова – «Хорошее отношение к лошадям» Маяковского.
Яхонтов с гадливой ненавистью читал эти строки:
… за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
Лошадь, упала!
Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Ненависть сменялась горестным участием:
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шерсти…
И вдруг на лице Яхонтова засвечивалась знакомая нам подбадривающая улыбка:
Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь.
Тут, по словам Есенина, воистину каждый стих лечил душу зверя.
А мажорная концовка стихотворения, которую Яхонтов произносил веско и убежденно, расширяла его рамки, превращала его и в «хорошее отношение к людям»:
… и стоило жить, и работать стоило.
Стихотворение «Еду» Яхонтов читал в радостном темпе перронной суеты отошедшего в манящую даль поезда:
Засвистывай,
трись,
врезайся и режь
сквозь Льежи
и об Брюссели.
И вдруг – мысль о Родине… Лицо у Яхонтова искажено как бы и физической, а не только душевной болью:
Но нож
и Париж,
и Брюссель,
и Льеж
тому,
кто, как я, обрусели.
Тоска по Родине рождает требующую немедленного претворения в жизнь мечту:
Сейчас бы
в сани
с ногами —
в снегу,
как в газетном листе б …
Свисти,
заноси снегами
меня, прихерсонская степь …
Это Яхонтов произносил на фоне бурана, а затем буран, бушевавший где-то далеко-далеко, неприметно сменялся пением:
Вечер,
поле, огоньки,
дальняя дорога,
сердце рвется от тоски,
а в груди
тревога.
Лейтмотив этого стихотворения – любовь к Родине, любовь ничем не заменимая, не восполнимая, не вознаградимая, незаглушимая, неистребимая, любовь, которая умирает вместе с человеком. И когда Яхонтов читал «Еду» так, как только он один и читал лирику Маяковского, да и лирику вообще, я мысленно благодарил его от полноты моей русской души, русской во всех ее уголках, излучинах и тайниках.
Игорь Ильинский
Смехом и слезами помогать добру и правде.
Игорь Ильинский
Я увидел Игоря Ильинского впервые осенью 1933 года в Театре имени Мейерхольда, помещавшемся тогда в начале улицы Горького (где теперь Театр имени Ермоловой), на премьере «Свадьбы Кречинского» в роли Расплюева.
До этого я знал Ильинского только по фотографиям да по отзывам критиков и рецензентов.
В 1926 году при входе в Художественный театр мы с моей матерью купили журнал «Новый зритель». С его обложки на меня, прищурившись, смотрел Аркашка – Ильинский, блаженно и нагловато попыхивавший папиросой.
Я представлял себе Счастливцева иначе. В выражении лица этого Аркашки мне почудилось что-то не просто задорное и озорное, а залихватское, более того: хулиганское. Этому впечатлению, вероятно, способствовало то, что я слышал о мейерхольдовском «Лесе» вообще, а слышал я о нем тогда только дурные отзывы, которые можно свести к одной фразе: Мейерхольд корежит классиков.
Было, однако, во всем облике Аркашки – Ильинского и нечто яркое, пусть и непривычное, пусть несколько раздражающее, пусть и несогласное с моим детским представлением о Счастливцеве, но, во всяком случае, занятное, притягательное, невольно задерживающее на себе внимание.
Так – по мудрой прихоти судьбы – впечатление от первого похода в московский театр, да еще в самый мой заочно любимый, сплелось у меня в памяти с впечатлением от фотографии Ильинского в роли Счастливцева. Этот номер журнала я увез домой как реликвию, долго потом от доски до доски перечитывал и всякий раз напряженно всматривался в Аркашку – Ильинского: что-то меня к нему все же влекло.
Театр имени Мейерхольда я долго обходил стороной.
Но вот осенью 1933 года Театр имени Мейерхольда поставил «Свадьбу Кречинского» с незадолго до того перешедшим к Мейерхольду из Малого театра Юрьевым в заглавной роли. Юрий Михайлович, живший тогда в той же квартире, что и я, пригласил на премьеру гостившую у дочери Ермоловой Татьяну Львовну Щепкину-Куперник, а вместе с ней и меня. Татьяна Львовна была отнюдь не та спутница, которая могла бы настроить меня на мейерхольдовский лад. Она говорила, что идет на спектакль только чтобы не обидеть Юрия Михайловича.
Поначалу спектакль мне не понравился. Недоумение вызвала первая же мизансцена, из коей явствовало, что Атуева посягает на невинность Тишки.
– Начинается! – услышал я негодующий шепот Татьяны Львовны.
В первом действии меня поразил только Юрьев. До этого вечера мне на него не везло. Я видел его в пьесах-сезонках, сгоревших, по народному выражению, так, что даже дым от них не пошел, – во «Вьюге» Шимкевича и в «Смене героев» Ромашова, там он казался мне большим кораблем, севшим на мель, – да в отрывках из «Манфреда» и «Маскарада» в концертном исполнении, где он был, на мой взгляд, слишком холоден, слишком «надмирен». А тут можно было подумать, будто Сухово-Кобылин писал роль Кречинского для Юрьева – она словно была сшита по его мерке. Юрьев оставался в Кречинском по-юрьевски барственным, по-юрьевски живописным, по-юрьевски скульптурным. Он по-юрьевски элегантно носил костюм, держал в руках цилиндр и тросточку, был по-юрьевски изящен в каждом движении, жесте, в походке. Но, в отличие не только от Манфреда, но даже от Арбенина, Кречинский Юрьева был человек с кровью в жилах. То был авантюрист по призванию, расчетливый и обольстительный хищник. Он пускается на авантюры, конечно, в первую очередь, ради наживы, но не только ради нее, а и ради «любви к искусству», ради любви к риску. Он находит «упоение» в том, чтобы стоять «бездны мрачной на краю». Его любимое занятие – обдумывать, соображать, прикидывать в уме, взвешивать pro и contra. Изящество поз, столь характерное для Юрьева как артиста, оправдывалось тем, что Кречинский все время рисуется, даже перед Расплюевым, – это один из его приемов, это его шулерский крап, это его маска, с годами приросшая к лицу.
… Второе действие. Комната в квартире Кречинского. В окно сочится рассвет – белесый, мутный, больной. Справа, на переднем плане, сидят какие-то подозрительные угрюмые личности. Одна из них закутана в плед. Это аферисты, сподвижники Кречинского. Один из них носит характерную фамилию – Крап. В пьесе Сухово-Кобылина их нет. Они созданы фантазией Мейерхольда и введены в спектакль, чтобы показать среду, ближайшее окружение Кречинского, чтобы показать, что у него дело поставлено на широкую ногу, что он главарь целой шайки, а еще, по-видимому, для того, чтобы Федор говорил свой монолог, обращаясь не к публике, а к партнерам. Мейерхольд был врагом, кажется, только этой условности: врагом монолога наедине с самим собой. В начало второго действия «Ревизора» Мейерхольд вводил «персонаж без речей» – девчонку, трактирную судомойку, которой Осип все и рассказывал про своего непутевого барина.
Но вот раздается стук. Федор поднимается по лестнице, отворяет кому-то дверь. Этот «кто-то» входит спиной, спиной, согнутой в три погибели. Котелок на этом существе измят.
Да что это вы? Разве что вышло? – спрашивает Федор.
В ответ пришибленное, потрепанное существо издает звук «хррр». Не прерывая этого гортанного, хоркающего звука, оно неторопливо, уныло спускается по длинной лестнице, и только когда оно добирается до последней ступеньки, непонятный звук внезапно переходит в смачный плевок:
Хрр, тьфу!.. вот что вышло!
Это не было клоунадой только ради клоунады. Это была действительно клоунада, неожиданная и потому смешная, но – характерная для Расплюева. Он шулер и – по совместительству – шут. И до того въелось в него это шутовство (как в Кречинского позерство – ведь они оба актеры: и мастер и подмастерье), что он, только что потерпевший в игорном доме полнейшее фиаско да к тому же еще и жестоко избитый, по привычке мрачно фиглярничает. Этой смелой, однако с образом в противоречие не вступающей, как раз наоборот – образом подсказанной выдумкой Ильинский меня покорил. Я сразу, с первой же сцены поверил ему.
Самый сильный момент во всей роли Расплюева оказался и самым сильным моментом в исполнении Ильинского. Кречинский, обмозговав дельце, приходит в веселое расположение духа на радостях. Он устраивает целое представление. Он издевается над Расплюевым, он пугает его тем, что он, Кречинский, бежит, а сюда нагрянет полиция, и его, раба божия, в тюрьму да с бубновым тузом на спине – по Владимирке. Согласно мизансцене Мейерхольда, Кречинский – Юрьев не только запирает Расплюева – он распинает его у лестницы, прямо против публики, вместе с Федором привязывает его веревкой к перилам, затем уходит и запирает за собой дверь.
Расплюев, распятый, опутанный веревкой, насмерть запуган резвящимся барином. Все лицо Расплюева морщится, он часто-часто мигает глазами и по-старчески жалко и беспомощно хлюпает носом. Этот приживальщик, этот бездомник вдруг затосковал по «гнезду», по «птенцам».
После мейерхольдовской «Свадьбы Кречинского» я видел немало хороших спектаклей и хороших актеров, видел превосходную игру в других ролях самого Ильинского, однако это старческое хлюпанье Расплюева и его монолог о «птенцах» и «гнезде» до сих пор у меня в ушах. До сих пор это остается одним из незабываемо сильных и наиболее трогательных моих театральных впечатлений. С этого дня я, не изменив моим театральным привязанностям, по-прежнему благоговея перед искусством Художественного и Малого театров, стал частым посетителем Театра имени Мейерхольда вплоть до самого его закрытия. С этого же дня я навсегда полюбил Ильинского.
В моем внезапном порыве зрительской любви, как я убедился впоследствии, не было ничего чудесного. Несмотря на отдельные, чуждые мне приемы, которыми пользовался в Расплюеве Ильинский, Я – тогда еще смутно – почувствовал в нем мой любимый тип актера: актера-реалиста, полнокровного, смелого, наблюдательного, изобретательного, вдумчивого, душевно щедрого, человечного. Вот почему приход Ильинского в Малый театр меня нисколько не удивил, напротив – я воспринял это как нечто строго закономерное. Более того: творческий путь Ильинского до Малого театра мне теперь представляется интересной, порой захватывающе интересной, но все же только предысторией.
И в первой сцене с шулерами; и в издевательстве Кречинского над Расплюевым; и в третьем действии, происходившем в нанятой Кречинским кухмистерской, до жути пустой, где все фальшивое, все ненастоящее, все с чужого плеча, где в желтом тумане двигаются призрачные фигуры переодетых музыкантами шулеров и аферистов, которым Расплюев с увлечением рассказывает о «подвиге» Кречинского; и в сцене с Муромским, когда Расплюев – Ильинский, чтобы занять Муромского и в то же время чтобы утолить свою потребность в возвышенном – а такая потребность в нем, как ни странно, живет, недаром знающий его насквозь Кречинский замечает, что у него «какая-то чувствительность», – услаждал его слух, сам себе аккомпанируя на клавесине: «Лет шестнадцати, не боле, Погулять Лиза пошла И, гуляя в чистом поле, Птичек пестреньких нашла»; и в трагедии обманутого доверия, которую переживают Лидочка и ее отец, Сухово-Кобылин дорастал в мейерхольдовском спектакле до Достоевского. Все фигуры, вплоть до ювелира-ростовщика, все мизансцены Мейерхольд заливал тем резким, фантастическим светом, каким озарены люди и вещи в «Идиоте» или в «Игроке». Но самым «достоевским», глубже всего остального западавшим в душу моментом спектакля запечатлелся в моей памяти монолог Расплюева – Ильинского о «гнезде» и о «птенцах», ибо в нем звучала боль за обиженного, беззащитного человека.
Гуманизм – одна из важнейших черт в творческом облике Ильинского и один из главных источников его актерского обаяния.
После Расплюева Ильинский-актер и Ильинский-чтец создал галерею образов бедных людей, чье достоинство было попрано «сильными мира сего», чью жизнь они разбили вдребезги, чей душевный мир они загрязнили и опустошили, чье нравственное существо они искалечили.
Ильинский не причесывает и не приглаживает ни Шмагу, ни Счастливцева, ни тем более Расплюева, но он стремится в каждом из них найти человеческие черты. Он не оправдывает падших – он призывает к ним милость зрителей. И в этом смысле Ильинский – глубинно русский художник, продолжатель традиций Пушкина и Гоголя, Щепкина и Прова Садовского, Достоевского и Льва Толстого.
Взгляните на фотографию Ильинского в роли Расплюева, где он снят с игральной картой в руке. Да, конечно, плут, да, конечно, шут. Но приглядитесь пристальнее. Какое жалкое у этого гаера лицо! Какие страдальческие у этого шулера глаза! Как он нуждался! Как он мыкался! Как он бедствовал! Как много претерпел он на своем веку оскорблений, унижений, глумлений, телесных и душевных увечий! И в слова о «гнезде» и о «птенцах» Ильинский вкладывал всю тоску Расплюева о своем угле, тоску человека, которому за всю его жизнь никто, наверное, не сказал доброго слова и которому, в свою очередь, не о ком позаботиться и некого пригреть.
– Судьба! За что гонишь? – восклицает Расплюев – Ильинский. Эти слова зазвучали у Ильинского в спектакле Малого театра (1971) с неизмеримо большей силой отчаяния и укора.
Расплюев 33-го года был у Ильинского легкомысленнее, добродушнее и безобиднее в своем шаромыжничании и прощелыжничании. Расплюев 71-го не сменит «стезю порока» на «стезю добродетели». Путь к честной жизни ему заказан. Он целует Кречинскому руку не только в надежде на милость – он целует ее из рабьего обожания. Это пес, виляющий хвостом и лижущий руку господину, который только что его побил. Восторг перед полетом мошеннического воображения своего повелителя живет в Расплюеве – Ильинском бок о бок с холуйским презрением к нему, прорывающимся, как только фортуна словно бы изменяет Михаилу Васильевичу.
– А денег-то, брат, нет, – замечает Расплюев – Ильинский про себя, своими воровскими глазками уничтожающе глядя на Кречинского.
Переходы от трусости к нахальству совершаются в душе Расплюева – Ильинского с поразительной быстротой. Кречинский, предвкушая удачу, принимает непринужденную позу на канапе. Расплюев – Ильинский, пользуясь добрым расположением духа, в каком сейчас находится «маг и волшебник», разваливается рядом с ним на другом канапе.
Кречинский посылает Расплюева к Лидочке с букетом и за булавкой. Расплюев – Ильинский твердо уверен, что он в грязь лицом не ударит. И он показывает Кречинскому, как будет он вести себя у Муромских: он важно прохаживается по комнате, вихляя задом, – по его мнению, это и есть самая настоящая походка барина.
Вот он возвращается от Муромских. И куда девался подобострастный и угодливый помощник обер-афериста, для которого он, не жалея своих боков, карты передергивает и у которого он и на побегушках и на посылках! Весь его внешний облик выражает торжество победителя. Он играет полой своего пальтишка, как испанский гранд – плащом.
Нет, такому Расплюеву вручи только бразды хоть какого-нибудь правления, и он – можете быть уверены – себя распокажет! Он выместит на невинных все претерпенные им издевательства. Он будет гнуть в дугу бесправный и подневольный люд, как сгибают сейчас его самого. Дайте срок – и цветочки пока еще невинной расплюевской наглости превратятся в ягодки. Ильинский увидел за Расплюевым то, что он еще не совсем явственно различал, играя в спектакле Мейерхольда: он увидел расплюевщину. От его теперешнего Расплюева тянется нить прямехонько к Расплюеву из «Смерти Тарелкина», получившему местечко в полиции, дающему волю рукам, берущему и с живого и с мертвого, доводящему до томления, до смертного страха попавшихся ему в лапы.
Сухово-Кобылин отвел Расплюеву в «Свадьбе Кречинского» сравнительно небольшое пространство, но зато он наделил его колоритной и многослойной речью, и в этой речи отражаются все черты расплюевского характера, все превратности его судьбы.
Язык Расплюева по широте своего словесного диапазона не имеет себе равных в русской драматургии. Все эти его «посадят на цепуру» и «до фундаменту рехнулся» после первых представлений «Свадьбы Кречинского» стали крылатыми выражениями. Язык Расплюева впитал в себя жаргон завсегдатаев игорных притонов, жаргон матерых шулеров, жаргон городского отребья. В нем нет-нет да и пробьется народная струя. Порой в нем слышатся отголоски церковных песнопений, отзвуки «сердцещипательных» романсов и романов. В него проникают и «красоты» барского слога. И вот этот расплюевский затейливый сплав превыспренней витийственности с озорством просторечия и с жаргоном уголовного сброда так и сверкает, так и переливается у Ильинского!
Расплюев – Ильинский о только что перенесенной им кулачной расправе рассказывает вкусно и до того картинно и живо, что зрителю кажется, словно он был ее очевидцем. Временами, размышляя о своих злоключениях, Расплюев – Ильинский впадает в мрачный пафос. При виде денег, принесенных Кречинским, он сначала отплевывается, как от сатанинского наваждения, а затем одаривает их ласковыми именами. Они у него и «родимые», и «голубчики», и «ласточки», и «малиновки». Всю нежность, какая была отпущена Расплюеву природой, он перенес с живых существ на деньги. И тут речь Расплюева – Ильинского, сладострастно перебирающего кредитки, звучит напевно, как будто он читает им акафист, и на лице его написано своего рода эстетическое наслаждение.
Ничего не упустил Ильинский в Расплюеве: ни смешного, ни трагического, ни жалкого, ни омерзительного, ни самобытного, ни типического, ни его холопских, ни его властолюбивых повадок. Он тонкими приемами дает понять зрителю, во что вымахивали расплюевы, когда нищета сменялась для них пусть даже тусклым «блеском», когда после падения они достигали «величия» квартального надзирателя.
Счастливцева Ильинский играл в трех постановках «Леса». Его «ранний» Аркашка, сыгранный в Театре имени Мейерхольда, – это был мастерский эскиз к Аркашке Островского. Аркашка – озорник, сорванец: вот чем прежде всего привлекал он тогда Ильинского. В спектакле 1974 года, который он же и ставил, Ильинский в главном не изменил трактовке образа, какой он создал в 1939 году на сцене Малого театра, но он пошел еще дальше и в глубь и в ширь внутреннего мира Аркашки. В этом Аркашке осталось и озорство, но теперь оно не заглушает других его черт, гораздо более характерных и существенных.
Перед нами человек, судьба которого находится в вопиющем противоречии с его сценическим псевдонимом. Он не вылезает из беспросветной нужды. Им помыкают все, кому не лень, даже Несчастливцев. Смех Счастливцева – Ильинского – это целая гамма смеха. Это смех то детски беспечный, то вымученный, из желания позабавить других (не зря Несчастливцев называет его «шутом гороховым»), а заодно отвлечь от мрачных дум и себя самого, то смех, больше похожий на плач. Рассказ Счастливцева – Ильинского о том, как его закатывали в ковер, потому что ему нечем было укрыться в мороз, а потом раскатывали, нельзя слушать без щемящей обиды за человека.
Счастливцев – Ильинский говорит о себе: «Я смирный, смирный-с…» – и что-то бесконечно жалкое, роднящее его с униженными и оскорбленными героями Достоевского, слышится сейчас в его тоне. Ильинский имеет право подчеркнуть это родство (у Островского много перекличек с Достоевским, особенно в «Лесе» и в «Бесприданнице»). Но и чувство собственного достоинства все еще живет в этом забитом существе. Несчастливцев предлагает ему сыграть у Гурмыжской роль его лакея. Счастливцев – Ильинский уязвлен этим предложением. «Да ведь я горд, Геннадий Демьяныч… и у меня есть амбиция», – говорит он дрожащим голосом. В конце концов он соглашается, но после внутренней борьбы. И вознаграждает себя тем, что с комической величественностью шествует за Несчастливцевым.
Из мейерхольдовского спектакля Ильинский перенес в новую постановку «Леса» ужение рыбы. Аркашка забрасывает в реку удочку, затем вытаскивает ее из воды и осторожно – как бы не упустить! – снимает с крючка воображаемую рыбу, которая словно трепыхается и бьется у него в руках.
О втором сценическом варианте своего Хлестакова И. В. Ильинский писал в статье «Драматург – режиссер»:
«Отказываясь от излишеств, от засоряющих… деталей, я ни в коем случае не хотел засушить или обеднить образ; все краски, которые, мне казалось, способствуют его раскрытию, я оставляю».
Слова Ильинского о Хлестакове сохраняют свою силу и по отношению к его нынешнему Аркашке. Рыбная ловля символизирует тоску Аркашки по жизни на лоне природы, уживающуюся в нем с бродяжьим духом. Аркашка не прочь сплутовать, и все же душа у Аркашки, по его собственному признанию, возвышенная, тут он не прилгнул. И ужение рыбы – это Аркашкина иллюзия, его самоутешение, хотя и быстролетное. Чайник с рыбой он роняет в воду. В мейерхольдовском спектакле такого печального финала Аркашкиного самообмана не было. Там была лишь забавная мизансцена, дававшая возможность Ильинскому показать зрителям, насколько картинен его жест.
Да, душа у Счастливцева возвышенная, и эту возвышенность Ильинский раскрывает в Аркашке. В каком-то театре Аркашка «стяжал», по выражению Несчастливцева, бутафорские ордена, нужда научила его «плясать, скакать и песенки петь». И, конечно, когда он убеждается, что денежки от Несчастливцева и от него уплыли и мечта о поездке на тройке разлетелась в прах, он мрачнеет. Но не надолго. Он ликует, слушая обличительный монолог Несчастливцева. Жертвенный порыв Несчастливцева передается и ему. На лице у него – отсвет несчастливцевского великодушия. Ничего, что троечка – тю-тю, что опять придется по образу пешего хождения пробираться из Вологды в Керчь. Несчастливцев сделал доброе дело и морально уничтожил «сов и филинов»: скаредов, выжиг, развратников, тиранов, ханжей. Вот сейчас Счастливцев счастлив – счастлив тем, что взяло верх добро, счастлив тем, что унижены унижающие. Уходит он вслед за Несчастливцевым из дома Гурмыжской, полный презрения к хозяйке и ко всем, кто с ней. Только выражает он это свое презрение как умеет – напуская на себя важность и пренебрежительно дрыгая ногой: паясничанье всосалось в его плоть и кровь.
Когда настройщик Муркин из рассказа Чехова «Сапоги», который читает на своих литературных концертах Ильинский, с умоляюще-недоуменной улыбкой, недоуменной оттого, что ему все представляется ясным как дважды два, а его почему-то не хотят понять, пытается втолковать актеру Блистанову свою законную просьбу – вернуть ему сапоги, которые тот взял по ошибке, и приводит, с его точки зрения, самый веский довод: «… я человек болезненный, ревматический… мне доктора приказали ноги в тепле держать» – мы живо представляем себе этого пожилого человека, целый день бегающего по всяким генеральшам шевелицыным, чтобы заработать на кусок хлеба, робкого, запуганного, поневоле перед всеми заискивающего, которому то и дело приходится увертываться от ударов судьбы, над которым безнаказанно может измываться любое, чуть-чуть выше его стоящее лицо. И как бы мы несколько минут спустя ни заливались хохотом над «Синей бородой» и королем Бобешем в изображении Ильинского, при последней фразе: «Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, две недели лежал больной и к словам „Я человек болезненный, ревматический“ стал прибавлять еще: „Я человек раненый…“ – на лицах у слушателей появляется улыбка, но улыбка горькая.
Под любой с виду непривлекательной или же смешной оболочкой кладоискатель Ильинский отыскивает душевные сокровища. Его Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, о которых он с такой любовью рассказывает на своих литературных концертах, вовсе не «небокоптители». Конечно, в наружности старосветских помещиков, в их привычках, в образе жизни много смешного, много нелепого. Но у этих смешных людей редкостный дар – дар любви и заботы: вот что показывает и доказывает всем своим исполнением Игорь Ильинский.
Много спустя после того, как Ильинский начал читать эту повесть Гоголя, Пришвин написал в своей «Фацелии»: «…в смешных старичках с их поющими дверями Гоголю чудилась возможность гармонической и совершенной любви людей на земле».
Мне не известно, бывал ли Пришвин на концертах Ильинского и навеяна ли эта мысль его исполнением «Старосветских помещиков». Вернее всего, что нет. В таком случае, это любопытное совпадение, довольно частый в искусстве случай переклички больших талантов. Слова Пришвина Ильинский мог бы взять эпиграфом к своему чтению, ибо они кратко и точно выражают его понимание повести Гоголя, его отношение к ее героям.
Как колоритна гоголевская бытопись в воспроизведении Ильинского! Как много у него вкусных и сочных подробностей! Как выпуклы характеры! Как слиты в его чтении конкретность и эмоциональность пейзажа («…ряды… фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив…»; «…когда прекрасный дождь роскошно шумит…»)! И вместе с тем как сильно звучит в передаче Ильинского голос самого Гоголя, его моральный пафос, его лиризм! А Гоголь начинает свою повесть с признания, что он очень любит скромную жизнь своих героев. Этот мотив то настойчиво повторяется: «…все это для меня имеет неизъяснимую прелесть… более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков…»; «На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие…»; «Я до сих пор не могу позабыть двух старичков, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются… Грустно! мне заранее грустно!», – то уходит в подпочву, в подтекст, то снова выбивается на поверхность: «Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей…»; «…радушие и готовность… были следствие чистой, ясной простоты их добрых бесхитростных душ»; «Я любил бывать у них…»; «… я всегда бывал рад к ним ехать»; «Добрые старички!»; «Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь»; «…она думала только о бедном своем спутнике…» Нет, ни Гоголь, ни Ильинский не считают Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну «небокоптителями». Напротив, они полагают, что старички по-своему украшали жизнь не только друг другу, но и тем, кто с ними общался, что и в буквальном и в переносном смысле чем они были богаты, тем и рады.
Да, Афанасий Иванович Товстогуб – человек ограниченный. Да, умственный его кругозор не шире его дворика. Настоящие его мечты, а не те, которыми он дразнит жену, не перелетают за забор. Да, Афанасий Иванович и днем и даже ночью размышляет о том, «чего бы такого поесть». Вся его хозяйственная деятельность сводится к тому, что он «засеменит, увидев гусей, и махнет на них платочком: „Пошли, гуси…“ Его остроумие проявляется лишь в том, что он, с добродушным лукавством подмигивая, „подшучивает“ над Пульхерией Ивановной. Но Пульхерия Ивановна умирает, и мы видим потрясенного горем человека. ссссИвановны Афанасий Иванович – Ильинский говорит:
– Вот вы и погребли ее… Пауза. Он силится сдержать слезы. Потом взгляд, обращенный к небу:
– Зачем? По одному этому взгляду, каким Ильинский смотрит ввысь, можно судить о том, как много пережил за эти дни Афанасий Иванович, можно определить меру его страданий. Всю свою жизнь не выходивший из круга детски-наивных религиозных представлений, смешанных с суевериями, он под влиянием горя, внезапно расширившего его горизонт, перевернувшего ему душу, задумывается над смыслом человеческого существования.
«Какого горя не уносит время?» – спрашивает вместе с Гоголем Ильинский. А вот горя Афанасия Ивановича оно не унесло.
Проходит пять лет – мы снова видим Афанасия Ивановича, уже одряхлевшего, опустившегося, живущего полудремотной жизнью. Но едва у этого старика, «которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов», возникает привычная и характерная для него ассоциация: подали любимое блюдо Пульхерии Ивановны, и он сейчас же вспоминает о ней. Какую жаркую печаль читаем мы тогда в тускнеющих глазах Афанасия Ивановича – Ильинского!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































