Текст книги "Любовные драмы русских писателей"
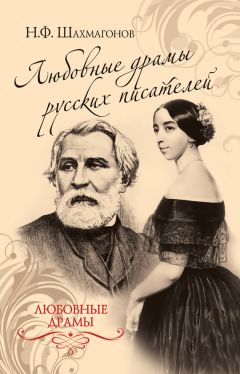
Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Отец мой, как я уже сказала, относился с большим недоверием ко всему, что исходило из литературного мира. Хотя он и разрешил сестре познакомиться с Достоевским, но лишь скрепя сердце и не без тайного страха.
– Помни, Лиза, что на тебе будет лежать большая ответственность, – напутствовал он мать, отпуская нас из деревни. – Достоевский – человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только – что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным.
Ввиду этого отец строго приказал матери, чтобы она непременно присутствовала при знакомстве Анюты с Федором Михайловичем и ни на минуту не оставляла их вдвоем. Я тоже выпросила позволение остаться во время его визита. Две старые тетушки-немки поминутно выдумывали какой-нибудь предлог появиться в комнате, с любопытством поглядывая на писателя, как на какого-то редкого зверя, и, наконец, кончили тем, что уселись тут же на диване, да так и просидели до конца его визита.
Анюта злилась, что ее первое свидание с Достоевским, о котором она так много наперед мечтала, происходит при таких нелепых условиях; приняв свою злую мину, она упорно молчала. Федору Михайловичу было и неловко, и не по себе в этой натянутой обстановке; он и конфузился среди всех этих старых барынь, и злился. Он казался в этот день старым и больным, как всегда, впрочем, когда бывал не в духе. Он все время нервно пощипывал свою жидкую русую бородку и кусал усы, причем все лицо его передергивалось».
Анна Васильевна очень переживала, что знакомство было настолько скомкано, что Достоевскому встреча явно оказалась не по душе. После ухода писателя, она повторяла, рыдая: «Всегда-то, всегда-то все испортят!»
И все же вторая встреча состоялась…
Из воспоминаний Софьи Васильевны Ковалевской: «Однако, дней пять спустя, Достоевский опять пришел к нам и на этот раз попал как нельзя более удачно: ни матери, ни тетушек дома не было, мы были одни с сестрой, и лед как-то сразу растаял. Федор Михайлович взял Анюту за руку, они сели рядом на диван и тотчас заговорили как два старые, давнишние приятеля. Разговор уже не тянулся, как в прошлый раз, с усилием переползая с одной никому не интересной темы на другую. Теперь и Анюта, и Достоевский как бы торопились высказаться, перебивая друг друга, шутили и смеялись.
Я сидела тут же, не вмешиваясь в разговор, не спуская глаз с Федора Михайловича и жадно впивая в себя все, что он говорил. Он казался мне теперь совсем другим человеком, совсем молодым и таким простым, милым и умным. “Неужели ему уже 43 года! – думала я. – Неужели он в три с половиной раза старше меня и больше чем в два раза старше сестры! Да притом еще великий писатель: с ним можно быть совсем как с товарищем!” И я тут же почувствовала, что он стал мне удивительно мил и близок».
Взаимная симпатия была сразу заметна, и недаром, как сообщает Софья Ковалевская, «часа три прошли незаметно».
И далее: «Вдруг в передней раздался звонок: это вернулась мама из Гостиного Двора. Не зная, что у нас сидит Достоевский, она вошла в комнату еще в шляпе, вся нагруженная покупками, извиняясь, что опоздала немножко к обеду.
Увидя Федора Михайловича так запросто, одного с нами, она ужасно удивилась и сначала даже испугалась. “Что бы сказал на это Василий Васильевич!” – было ее первою мыслью. Но мы бросились ей на шею, и, видя нас такими довольными и сияющими, она тоже растаяла и кончила тем, что пригласила Федора Михайловича запросто отобедать с нами.
С этого дня он стал совершенно своим человеком у нас в доме и, ввиду того, что наше пребывание в Петербурге должно было продолжаться недолго, стал бывать у нас очень часто, раза три, четыре в неделю.
Особенно хорошо бывало, когда он приходил вечером и, кроме него, у нас чужих не было. Тогда он оживлялся и становился необыкновенно мил и увлекателен. Общих разговоров Федор Михайлович терпеть не мог; он говорил только монологами и то лишь под условием, чтобы все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряженным вниманием. Зато, если это условие было выполнено, он мог говорить так хорошо, картинно и рельефно, как никто другой, кого я ни слышала.
Иногда он рассказывал нам содержание задуманных им романов, иногда – сцены и эпизоды из собственной жизни. Живо помню я, например, как он описывал нам те минуты, которые ему, приговоренному к расстрелянию, пришлось простоять, уже с завязанными глазами, перед взводом солдат, ожидая роковой команды: “Стреляй!” – когда вдруг, наместо того, забил барабан, и пришла весть о помиловании.
Помнится мне еще один рассказ. Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок…
Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.
Говорили они о том, что обоим всего было дороже, – о литературе, об искусстве и философии; коснулись, наконец, религии.
Товарищ был атеист, Достоевский – верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.
– Есть Бог, есть! – закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.
– И я почувствовал, – рассказывал Федор Михайлович, – что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! – закричал я, – и больше ничего не помню. – Вы все, здоровые люди и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик! Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!»
Отношения Федора Михайловича и Анны развивались сложно. Несомненно, Анна ценила и уважала Достоевского. Но как? Только ли как писателя? Или были какие-то ростки чувств к нему? Вот младшая ее сестренка Софья, которая была в описываемый период еще совсем юной, открыто признается, что была влюблена… А Достоевский, иногда очень сердясь на Анну за что-то, совершенно невольно, просто не задумываясь, противопоставлял сестер, отдавая предпочтение младшей.
Софья Ковалевская отметила в воспоминаниях: «В начале их знакомства сестра моя готова была отказаться от всякого удовольствия, от всякого приглашения в те дни, когда ждала к нам Достоевского, и, если он был в комнате, ни на кого другого не обращала внимания. Теперь же все это изменилось. Если он приходил в такое время, когда у нас сидели гости, она преспокойно продолжала занимать гостей. Случалось, ее куда-нибудь приглашали в такой вечер, когда было условлено, что он придет к ней; тогда она писала ему и извинялась».
А все началось с одного большого прощального вечера, который решили провести незадолго до отъезда в деревню. Гости были самые разнообразные, причем многие довольно высоких рангов, и Софья Ковалевская откровенно написала, как легко «…представить себе, что сталось с бедным Достоевским, когда он попал в такое общество! И видом своим, и фигурой он резко отличался от всех других. В припадке самопожертвования он счел нужным облачиться во фрак, и фрак этот, сидевший на нем и дурно и неловко, внутренне бесил его в течение всего вечера. Он начал злиться уже с самой той минуты, как переступил порог гостиной. Как все нервные люди, он испытывал досадливую конфузливость, когда попадал в незнакомое общество, и чем глупее, несимпатичнее ему, ничтожнее это общество, тем острее конфузливость.
Мать моя торопилась представить его гостям; но он, вместо привета, бормотал что-то невнятное, похожее на воркотню, и поворачивался к ним спиной. Что всего хуже, он тотчас изъявил притязание завладеть всецело Анютой. Он увел ее в угол гостиной, обнаруживая решительное намерение не выпускать ее оттуда. Это, разумеется, шло в разрез со всеми приличиями света; к тому и обращение его с ней было далеко не светское: он брал ее за руку; говоря с ней, наклонялся к самому ее уху. Анюте самой становилось неловко, а мать из себя выходила. Сначала она пробовала “деликатно” дать понять Достоевскому, что его поведение нехорошо. Проходя мимо, якобы не нарочно, она окликнула сестру и хотела послать ее за каким-то поручением. Анюта уже было поднялась, но Федор Михайлович прехладнокровно удержал ее:
– Нет, постойте, Анна Васильевна, я еще не досказал вам.
Тут уж мать окончательно потеряла терпение и вспылила.
– Извините, Федор Михайлович, но ей, как хозяйке дома, надо занимать и других гостей, – сказала она очень резко и увела сестру».
В тот день вряд ли кто-то мог серьезно думать о том, что Достоевский, который настолько старше Анны, может иметь на нее какие-то виды. Софья Ковалевская сообщает, что женихом считали совсем другого, дальнего родственника – «это был молодой немец, офицер какого-то из гвардейских полков». Ее характеристика такова: «Он считался очень блестящим молодым человеком; был и красив, и умен, и образован, и принят в лучшем обществе… И карьеру он делал тоже как следует…»
Невероятной была проницательность Достоевского. Никто ему не говорил о претенденте на руку и сердце Анны, да и вообще об этом боялись обмолвиться слишком явно и мать и ее сестры, в доме которых и был тот прощальный вечер. Но, как сообщает нам Софья Ковалевская: «Среди гостей был один, который с первой минуты сделался ему (Достоевскому. – Н.Ш.) особенно ненавистен… Стоило Достоевскому взглянуть на эту красивую, рослую, самодовольную фигуру, чтобы сразу возненавидеть ее».
А между тем гвардейский офицер словно специально дразнил писателя, несколько минут назад владевшего его кузиной, но теперь, волею матери, оказавшейся в его распоряжении. В «Воспоминаниях…» Софьи рассказано об этом с проницательными подробностями: «Молодой кирасир, живописно расположившись в кресале, выказывал во всей их красе модно сшитые панталоны, плотно обтягивающие его длинные стройные ноги. Потряхивая эполетами и слегка наклонясь над моей сестрой, он рассказывал ей что-то забавное. Анюта, еще сконфуженная недавним эпизодом с Достоевским, слушала его со своей, несколько стереотипною, салонною улыбкой, “улыбкой кроткого ангела”, как язвительно называла ее англичанка-гувернантка.
Взглянул Федор Михайлович на эту группу, и в голове его сложился целый роман: Анюта ненавидит и презирает этого “немчика”, этого “самодовольного нахала”, а родители хотят выдать ее замуж за него и всячески сводят их. Весь вечер, разумеется, только за этим и устроен.
Выдумав этот роман, Достоевский тотчас в него уверовал и вознегодовал ужасно…»
Читатель уже догадался, что Федор Михайлович был уже увлечен Анной, и увлечен достаточно сильно. Софья Ковалевская сообщает далее, что уже в последующие свои визиты он был в дурном настроении. Явно сердился, причем не мог скрыть этого.
«Анюта делала вид, что не замечает его дурного расположения духа, брала работу и начинала шить. Достоевского это еще пуще сердило; он садился в угол и угрюмо молчал. Сестра моя тоже молчала.
– Да бросьте же шить! – скажет, наконец, не выдержав характера, Федор Михайлович и возьмет у нее из рук шитье.
Сестра моя покорно скрестит руки на груди, но продолжает молчать».
От младшей сестры не укрылось, что Анна после того прощального вечера изменила свое отношение к Достоевскому, даже дразнила его, вызывая в нем нервозность и раздражительность:
«– Где вы вчера были? – спрашивает Федор Михайлович сердито.
– На балу, – равнодушно отвечает моя сестра.
– И танцевали?
– Разумеется.
– С троюродным братцем?
– И с ним, и с другими.
– И вас это забавляет? – продолжает свой допрос Достоевский.
Анюта пожимает плечами:
– За неимением лучшего и это забавляет, – отвечает она и снова берется за свое шитье.
Достоевский глядит на нее несколько минут молча.
– Пустая вы, вздорная девчонка, вот что! – решает он, наконец.
В таком духе часто велись теперь их разговоры.
Постоянный и очень жгучий предмет споров между ними был нигилизм. Прения по этому вопросу продолжались иногда далеко за полночь, и чем дольше оба говорили, тем больше горячились и в пылу спора высказывали взгляды гораздо более крайние, чем каких действительно придерживались.
– Вся теперешняя молодежь тупа и недоразвита! – кричал иногда Достоевский. – Для них всех смазные сапоги дороже Пушкина!
– Пушкин действительно устарел для нашего времени, – спокойно замечала сестра, зная, что ничем его нельзя так разбесить, как неуважительным отношением к Пушкину.
Достоевский, вне себя от гнева, брал иногда шляпу и уходил, торжественно объявляя, что с нигилисткой спорить бесполезно и что ноги его больше у нас не будет. Но завтра он, разумеется, приходил опять, как ни в чем не бывало».
Все было налицо – и раздражение против того, кто мог являться потенциальным женихом, и проявление ревности. Но даже дерзости не приводили к разрыву отношений. Словно незримая нить связывала Федора Михайловича с Анной, вселяя в него надежды. Каковы же были чувства у Анны? Сестра считала, что она охладела к писателю, но тогда почему терпела дерзости и сносила иногда слишком резкие укоры?
Софья Ковалевская отметила перемены: «По мере того как отношения между Достоевским и моей сестрой, по-видимому, портились, моя дружба с ним все возрастала. Я восхищалась им с каждым днем все более и более и совершенно подчинилась его влиянию. Он, разумеется, замечал мое беспредельное поклонение себе, и оно ему было приятно. Постоянно ставил он меня в пример сестре.
Случалось Достоевскому высказать какую-нибудь глубокую мысль или гениальный парадокс, идущий в разрез с рутинной моралью, – сестре вдруг вздумается притвориться непонимающею; у меня глаза горят от восторга – она же нарочно, чтобы позлить его, ответит пошлой, избитой истиной.
– У вас дрянная, ничтожная душонка! – горячился тогда Федор Михайлович, – то ли дело ваша сестра! Она еще ребенок, а как понимает меня! Потому что у нее душа чуткая!
Я вся краснела от удовольствия, и если бы надо было, дала бы себя разрезать на части, чтобы доказать ему, как я его понимаю. В глубине души я была очень довольна, что Достоевский не выказывает теперь к сестре такого восхищения, как в начале их знакомства. Мне самой было очень стыдно этого чувства. Я упрекала себя в нем, как в некотором роде измене против сестры, и, вступая в бессознательную сделку с собственной совестью, старалась особенной ласковостью, услужливостью искупить этот мой тайный грех перед нею. Но угрызения совести все же не мешали мне чувствовать невольное ликованье каждый раз, когда Анюта и Достоевский ссорились.
Федор Михайлович называл меня своим другом, и я пренаивно верила, что стою ближе к нему, чем старшая сестра, и лучше его понимаю. Даже наружность мою он восхвалял в ущерб Анютиной.
– Вы воображаете себе, что очень хороши, – говорил он сестре. – А ведь сестрица-то ваша будет со временем куда лучше вас! У нее и лицо выразительнее, и глаза цыганские! А вы смазливенькая немочка, вот вы кто!
Анюта презрительно ухмылялась; я же с восторгом впивала в себя эти неслыханные дотоле похвалы моей красоте.
– А ведь, может быть, это и правда, – говорила я себе с замиранием сердца, и меня даже пресерьезно начинала беспокоить мысль, как бы не обиделась сестра тем предпочтением, которое оказывает мне Достоевский…»
Анна Васильевна, несмотря на ссоры, которые, впрочем, ограничивались литературой и философией, очень ценила и уважала Достоевского. Возможно, ей очень льстило, что такой человек с интересом беседует с ней, провинциалкой. Они расходились во взглядах на многие вопросы современности. Опять получилось так, что Достоевский, переболевший революцией, разговаривал с убежденной революционеркой.
Но что же чувства? Как развивались они у Достоевского? Как могла в глубине души реагировать на его внимание Анна?
А между тем развязка приближалась. Достоевскому нравилось, как Софья играла на фортепьяно, даже привела в восторг одна пьеса. И вот однажды, незадолго до отъезда, когда Достоевский пришел в гости, она решила сыграть эту пьесу, перед этим значительно улучшив исполнительское свое мастерство.
Софья рассказывает: «Я начала играть. Трудность пьесы, необходимость следить за каждой нотой, страх сфальшивить скоро так поглотили все мое внимание, что я совершенно отвлеклась от окружающего и ничего не замечала, что делается вокруг меня. Но вот я кончила с самодовольным сознанием, что играла хорошо. В руках ощущалась приятная усталость. Еще совсем под возбуждением музыки и того приятного волнения, которое всегда охватывает после всякой хорошо исполненной работы, я ждала заслуженной похвалы. Но вокруг меня была тишина. Я оглянулась: в комнате никого не было.
Сердце у меня упало. Ничего еще не подозревая определенного, но смутно предчувствуя что-то недоброе, я пошла в соседнюю комнату. И там пусто! Наконец, приподняв портьеру, завешивавшую дверь в маленькую угловую гостиную, я увидела там Федора Михайловича и Анюту.
Но, боже мой, что я увидела!
Они сидели рядом на маленьком диване. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром; тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица; но лицо Достоевского я видела ясно: оно было бледно и взволнованно. Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и так любила.
– Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом…
У меня в глазах помутилось. Чувство горького одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня, и кровь сначала как будто вся хлынула к сердцу, а потом горячей струей бросилась в голову.
Я опустила портьеру и побежала вон из комнаты. Я слышала, как застучал опрокинутый мною нечаянно стул.
– Это ты, Соня? – окликнул меня встревоженный голос сестры. Но я не отвечала и не останавливалась, пока не добежала до нашей спальни, на другом краю квартиры, в конце длинного коридора. Добежав, я тотчас же принялась раздеваться торопливо, не зажигая свечи, срывая с себя платье, и полуодетая бросилась в постель и зарылась с головой под одеяло. У меня в эту минуту был один страх: сестра придет за мной и позовет назад в гостиную. Я не могла их теперь видеть.
Еще не испытанное чувство горечи, обиды, стыда переполняло мою душу, главное – стыда и обиды. До сей минуты я даже в сокровеннейших моих помышлениях не отдавала себе отчета в своих чувствах к Достоевскому и не говорила сама себе, что влюблена в него.
Хотя мне и было всего 13 лет, я уже довольно много читала и слышала о любви, но мне как-то казалось, что влюбляются в книжках, а не в действительной жизни. Относительно Достоевского мне представлялось, что всегда, всю жизнь будет так, как шло эти месяцы. “И вдруг, разом, все, все кончено!” – твердила я с отчаянием, и только теперь, когда уже все казалось мне невозвратно потерянным, ясно сознавала, как я была счастлива все эти дни, вчера, сегодня, несколько минут тому назад, а теперь, боже мой, теперь!
Что такое кончилось, что изменилось, я и теперь не говорила себе прямо; я только чувствовала, что все для меня отцвело, жить больше не стоит!
“И зачем они меня дурачили, зачем скрытничали, зачем притворялись?” – упрекала я их с несправедливым озлоблением.
“Ну и пусть он ее любит, пусть на ней женится, мне какое дело!” – говорила я себе несколько секунд спустя, но слезы все продолжали течь, и в сердце ощущалась та же нестерпимая, новая для меня боль…
“Что-то они теперь делают? Как им, должно быть, хорошо!” – подумалось мне, и при этой мысли явилось бешеное желание побежать к ним и наговорить дерзостей. Я вскочила с постели, дрожащими от волнения руками стала шарить спичек, чтобы зажечь свечу и начать одеваться. Но спичек не оказалось. Так как вещи свои я все разбросала по комнате, то одеться в темноте я не могла, а позвать горничную было стыдно; поэтому я опять бросилась на кровать и опять принялась рыдать с чувством беспомощного, безнадежного одиночества…»
Но что же было в тот вечер между Федором Михайловичем и Анной. Об этом Софья сразу так и не узнала. Она считала, что у них все хорошо и ждала очередного визита писателя, теперь уже, по ее мнению, жениха старшей своей сестры. Она полагала, что Достоевский сделал предложение…
Софья долго дулась на Анну, но наконец мир между сестрами водворился. Анна все поняла: «– Вот глупая! Ведь вздумала же влюбиться, и в кого? – в человека, который в три с половиной раза ее старше!»
Вновь обратимся к воспоминаниям Софьи Ковалевской: «– Так неужели же ты не любишь его? – спросила я шепотом, почти задыхаясь от волнения.
Анюта задумалась.
– Вот видишь ли, – начала она, видимо, подыскивая слова и затрудняясь: – я, разумеется, очень люблю его и ужасно, ужасно уважаю! Он такой добрый, умный, гениальный! – она совсем оживилась, а у меня опять защемило сердце. – Но как бы тебе это объяснить! я люблю его не так, как он… ну, словом, я не так люблю его, чтобы пойти за него замуж! – решила она вдруг.
Боже! как просветлело у меня на душе; я бросилась к сестре и стала целовать ей руки и шею. Анюта говорила еще долго.
– Вот видишь ли, я и сама иногда удивляюсь, что не могу его полюбить! Он такой хороший! Вначале я думала, что, может быть, полюблю. Но ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить! К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя; при нем я никогда не бываю сама собою.
Все это Анюта говорила, якобы обращаясь ко мне, но, в сущности, чтобы разъяснить себе самой. Я делала вид, что понимаю и сочувствую, но в душе думала: “Господи! Какое должно быть счастье быть постоянно при нем и совсем ему подчиняться! Как может сестра отталкивать от себя такое счастье!” Как бы то ни было, в эту ночь я уснула уже далеко не такая несчастная, как вчера».
А потом был отъезд и спокойное, ровное прощание Федора Михайловича с Анной.
Софья Ковалевская не преминула заметить: «Со мной его прощанье было очень нежное. Он даже поцеловал меня при расставании, но, верно, был очень далек от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил».
И вот итог отношений с Анной Васильевной: «Месяцев шесть спустя сестра получила от Федора Михайловича письмо, в котором он извещал ее, что встретился с удивительной девушкой, которую полюбил и которая согласилась пойти за него замуж. Девушка эта была Анна Григорьевна, его вторая жена. “Ведь если бы за полгода тому назад мне кто-нибудь это предсказал, клянусь честью, не поверил бы!” – наивно замечал Достоевский в конце своего письма».
«Достоевский был влюбчив…»
Софья Васильевна Ковалевская упоминает в воспоминаниях о письме, в котором говорится о женитьбе Достоевского, но до той женитьбы были и еще попытки построить семью.
Племянница Федора Михайловича М.А. Иванова вспоминала: «Достоевский легко увлекался людьми, был влюбчив. Ему нравилась подруга Софьи Александровны Ивановой, Мария Сергеевна Иванчина-Писарева, живая, бойкая девушка. Однажды, будучи в Москве у Ивановых под Пасху, Достоевский не пошел со всеми к заутрене, а остался дома. Дома же у Ивановых оставалась Мария Сергеевна. Когда Софья Александровна вернулась из церкви, подруга ей, смеясь, рассказала, что Достоевский ей сделал предложение. Ей, двадцатилетней девушке, было смешно слышать признания такого пожилого человека, каким был в ее глазах Достоевский. Она отказала ему и ответила шутливо стихами Пушкина:
Окаменелое годами,
Пылает сердце старика.
«Полтава».
Достоевский назвал свою несостоявшуюся невесту «удивительной шутихой». Рассказ о ней мы находим в воспоминаниях супруги писателя Анны Григорьевны Достоевской (в девичестве Сниткиной). Там описан даже день встречи у писателя Иванова – 31 марта 1867 года – с Иванчиной-Писаревой: «Остроумием особенно отличалась Мария Сергеевна Иванчина-Писарева, подруга старших дочерей Веры Михайловны. То была девушка лет двадцати двух, некрасивая, но веселая, бойкая, находчивая, всегда готовая поднять человека на смех. [Семья Ивановых описана Федором Михайловичем в романе “Вечный муж”, под именем семейства Захлебининых. М.С. Иванчина очень рельефно выведена в виде бойкой подружки Марьи Никитишны.]
Ей поручена была молодежью задача вывести меня из себя и поставить в смешное положение в глазах моего мужа. Начали разыгрывать фанты. Каждый из играющих должен был составить (на словах, конечно) букет на разные случаи жизни: старику – в день восьмидесятилетия, барышне – на первый бал и др. Мне выпало составить букет полевых цветов. Никогда не живя в деревне, я знала только садовые цветы и назвала лишь мак, васильки, одуванчики и еще что-то, так что букет мой был единогласно и справедливо осужден. Мне предложили составить другой, но, предвидя неудачу, я отказалась.
– Нет, уж увольте! – смеялась я. – Я сама вижу, что у меня нет никакого вкуса.
– Мы в этом не сомневаемся, – ответила Мария Сергеевна, – вы так недавно блистательно это доказали!
И при этом она выразительно взглянула в сторону сидевшего рядом со мною и прислушивавшегося к нашим petits-jeux Федора Михайловича. Сказала она эти слова так ядовито и вместе с тем остроумно, что все расхохотались, не исключая меня и Федора Михайловича. Общий смех сломал лед недружелюбия, и вечер закончился приятнее, чем начался».
И еще одна попытка создать семью была сделана Достоевским до знакомства со своей судьбой – с Анной Сниткиной.
Летом 1866 года Достоевский был приглашен на дачу Ивановых в Люблино. Там была Елена Павловна Иванова. Она была всего на два года моложе писателя и, кстати, на те же два года пережила его. (Родилась в 1823-м, умерла в 1883 году.) Елена Павловна была женой К.П. Иванова, брата Александра Павловича Иванова, мужа сестры писателя Веры Михайловны Достоевской (Ивановой). Он был действительным статским советником, врачом Константиновского межевого института и преподавателем физики и естественной истории в различных учебных заведениях Москвы. Он-то и пригласил Достоевского на дачу в Люблино. Впоследствии члены семьи Иванова стали прототипами героев повести «Вечный муж». Мы узнаем их в семействе Захлебининых.
Тогда же, летом 1866 года, Достоевский сделал осторожное предложение, причем в иносказательной форме. Об этом он впоследствии рассказал А.Г. Сниткиной, которая уже была его невестой. Упоминая о встрече с семьей своей сестры, Федор Михайлович написал: «Елена Павловна была у них. Очень похудела и даже подурнела. Очень грустна; встретила меня довольно слегка. <…> Спросил ее [племянницу С.А. Иванову]: что Елена Павловна в мое отсутствие вспоминала обо мне? Она отвечала: о, как же, беспрерывно! Но не думаю, чтоб это могло назваться собственно любовью…»
Приводя в своих воспоминаниях это письмо, Анна Григорьевна сообщила следующее: «Вера Михайловна (сестра писателя. – Н.Ш.), желая счастья Федору Михайловичу, мечтала о том, чтобы он женился на Елене Павловне, когда скончается ее муж, многие годы больной и смерти которого ждали со дня на день. <…> Живя летом 1866 г. в Люблине вблизи Москвы, вблизи дачи Ивановых и встречаясь иногда с Еленой Павловной, Федор Михайлович спросил ее однажды, “пошла ли бы она за него замуж, если б была свободна?”. Она не ответила ничего определенного, и Федор Михайлович не считал себя с нею связанным никаким обещанием. Тем не менее Федора Михайловича очень тяготила мысль, что он, может быть, внушил ей надежды, которым не суждено осуществиться. Муж Елены Павловны умер в 1869 г. Сама она до конца своей жизни сохраняла как с Федором Михайловичем, так и со мною, моими детьми самые дружественные отношения».
Ну а что касается «шутихи», как окрестил ее сам Федор Михайлович, то она, хоть и не пошла за него замуж, относилась к нему с великим уважением и почтением, в чем призналась в письме к Анне Григорьевне после смерти писателя: «…Я имела удовольствие встречать вас в Москве, в семействе Ивановых, а незабвенного Федора Михайловича боготворила (о нем можно выразиться) с пятнадцатилетнего возраста. Я лихорадочно ожидала появления его “Дневника”, но, увы! все кончено! А ведь он бы нам пояснил еще многое! Я так счастлива, что знала лично Федора Михайловича! Сколько у меня отрадных воспоминаний сохранилось об этом дивном человеке и гениальном писателе!..»
Но вернемся в то время, когда Федор Михайлович Достоевский, несмотря на неудачи в делах амурных, несмотря на несколько прямых или косвенных отказов на его предложения, все еще надеялся создать счастливую семью.
Он уже не говорил о какой-то горячей любви, он признавался: «Возьму добрую, чтоб меня жалела и любила».
«…если бы… были такие жены, как у Достоевского»
Анна Сниткина стала второй женой Федора Михайловича. История удивительная, трогательная история… Читаешь и невольно начинаешь с теплотой, по-доброму завидовать Достоевскому. Счастье – обрести вот такого человека, а он обрел в Анне Григорьевне Сниткиной соратника, друга, жену.
Представьте себе совсем еще молодую особу, которой шел двадцать первый год. Она уже окончила Мариинскую женскую гимназию, затем поучилась на Педагогических курсах, позже поступила на физико-математический факультет университета. Все было не то. Физика и математика не привлекали. В ту пору как раз открылись курсы стенографии, и Анна пошла на них, причем вскоре стала лучшей ученицей. А Федор Михайлович был уже известным писателем, очень читаемым и почитаемым. Кстати, отец Анны обожал романы Достоевского.
В доме Сниткиных к писателю относились с благоговением. Анна с детских лет зачитывалась его книгами. «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Записки из Мертвого дома» и особенно «Неточка Незванова» заставляли трепетать юное сердце Анны. Известно, что особенно близка была ей Неточка Незванова, поскольку Неточка ведь и есть Анюта, Нюточка – Анна. И вдруг – наверное, это ей показалось даже нереальным – руководитель курсов предложил ей поработать с Достоевским, который завершал очередной свой роман, будучи связан весьма строгим договором с издателем. Писатель решил ускорить работу с помощью стенографии. Неудивительно, ведь, порой, у него просто рука не успевает за мыслью. Диктовать, естественно, легче, чем писать самому. А к пишущим машинкам только привыкали. К примеру, когда у Марка Твена спросили, пишет ли он свои книги от руки или печатает на машинке, он ответил, что на машинке печатает только не слишком серьезные вещи, а художественные произведения пишет только от руки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































