Текст книги "Любовные драмы русских писателей"
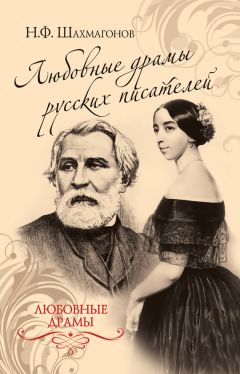
Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«Не буду искать, но не буду и упускать».
«“Женский вопрос” Льва Толстого»
О «божественном чувстве любви…»
Лев Николаевич Толстой однажды заметил: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского». И в то же время о семейной жизни он отзывался весьма и весьма нелестно, а о женщинах говорил: «Все было бы хорошо, кабы только они (женщины) были на своем месте, т.е. смиренны» или: «Женский вопрос!.. Только не в том, чтобы женщины стали руководить жизнью, а в том, чтобы они перестали губить ее».
Писатель советовал: «Смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них. В самом деле, от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всем и множество дурных пороков, как не от женщин?»
С ранних лет Лев Николаевич Толстой вел дневники. Это помогло впоследствии его биографам восстановить многие моменты его жизни, его творчества и конечно же его любовных увлечений.
Обычно при изучении биографий писателей, да и не только писателей, но вообще людей творческих, опускаются факты о их любовных увлечениях и особенно любовных приключениях. Порою даже о семейной жизни не говорится или говорится очень мало. Почему? Наверное, потому, что, если коснуться семьи, трудно потом скрыть различные коллизии жизненные, связанные с неурядицами в семье, и отдохновения от них вне семьи.
Редко в официальных биографиях, особенно преподаваемых в школе, рассказывается даже о первых увлечениях того или иного писателя или поэта, словно накладывается табу на само понятие – любовь. То же самое можно сказать и о биографии Льва Толстого. А ведь на творчество каждого литератора, будь то поэт или прозаик, оказывают огромное влияние именно его любовные увлечения.
Сколько поэтических шедевров Лермонтова, Пушкина, Тютчева, Вяземского стало романсами. Но по официальным биографиям, с которыми мы знакомы со школьной скамьи, может создаться впечатление, что писаны они в никуда и ни к кому. Просто так… Разве что широко известно, что «Я помню чудное мгновенье» Александр Сергеевич Пушкин посвятил Анне Керн. А вот романс кому посвящен? Ведь стихотворение становится романсом лишь после прикосновения к нему композитора. Анне Керн – ответил читатель. Керн, но не Анне! Оказывается, наш знаменитый композитор Михаил Глинка был страстно влюблен в дочь Анны Петровны Керн Екатерину. И романс родился не тот час после того, как блестящее стихотворение вышло из-под пера Пушкина, а несколько позже и в результате любви композитора к Екатерине Керн.
Есть конкретные адресаты и у великолепных стихотворений Михаила Юрьевича Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю», Федора Ивановича Тютчева «Я встретил Вас», Алексея Константиновича Толстого «Средь шумного бала, случайно».
А что же у прозаиков? Кто вдохновил Льва Николаевича Толстого на создание многих женских образов в своих романах? Кто стал прототипом Наташи Ростовой, Анны Карениной, Екатерины Масловой? Не загоралось ли сердце писателя влюбленностью или большой любовью, прежде чем вылился этот пожар на страницы книг? И к кому испытал первую свою любовь будущий писатель?
Первая запись в дневнике, касающаяся темы любви, такова: «Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал, только когда мне было 13 или 14 лет, но мне не хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет – время самое безалаберное для мальчика (отрочество), – не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенною силою».
8 июня 1851 года 23-летний Толстой написал в своем дневнике: «Я видал прежде Зинаиду институточкой, она мне нравилась; но я мало знал ее (фу! какая грубая вещь слово! – как площадно, глупо выходят переданные чувства). Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было приятно, отчего я был так счастлив? Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это-то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время. Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждения жизни. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла. Все порывы души чисты, возвышенны в своем начале. Действительность уничтожает невинность и прелесть всех порывов. Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу. Но, может быть, ты сомневаешься, что я тебя люблю, Зинаида, прости меня, ежели это так, я виновен, одним словом мог бы я тебя уверить.
Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жальче, увижу ее в чепце веселенькой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным глазом. Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не довольно убежден, что она может составить мое счастие; но все-таки я влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, что этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное».
Восторженная запись! И этот же восторг писателя мы наблюдаем в созданном им образе Наташи Ростовой в романе «Война и мир», Катюши Масловой в романе «Воскресенье», Вареньки в рассказе «После бала».
Так кто же она, возлюбленная 22-летнего Льва Толстого, вдохновившая его на создание жизнерадостных, жизнелюбивых образов героинь его произведений?
Вспомним, в рассказе «После бала» герой рассказа говорит: «Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь… Это была… Варенька. Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа». Это портрет Зиночки Молоствовой.
В Казани у тетки Лев Николаевич завершил домашнее образование и поступил в Казанский университет. Здесь он возмужал и пережил первую любовь к Зинаиде Молоствовой. Она была племянницей попечителя Казанского учебного округа.
Встретились они в 1845 году. Толстому исполнилось 17 лет. А его возлюбленная Зинаида, которая была всего на месяц его моложе, после смерти отца приехала из поместья Три Озера в Казань, в Родионовский институт благородных девиц. Там-то она и подружилась с родной сестрой Льва Николаевича Марией Николаевной, которая вспоминала впоследствии, что девушку «в доме Толстых… очень любили и отличали от других, потому что при богатом внутреннем содержании Зинаида Модестовна была жива, остроумна, с большим юмором».
Биографы Толстого отмечали: «Она была не из самых красивых, но отличалась миловидностью и грацией. Она была умна и остроумна. Ее наблюдения над людьми всегда были проникнуты юмором, и в то же время она была добра, деликатна по природе и всегда мечтательно настроена».
Трудно сказать, чем бы закончился этот роман, если бы не отъезд Льва Толстого из Казани. В тот год его братья Сергей и Дмитрий окончили Казанский университет. Пришлось и Льву покинуть город вместе с ними.
Но судьба подарила еще одну встречу с Зиночкой в 1851 году. Лев Николаевич решил ехать вместе с братом Николаем на Кавказ. По дороге – хотя, конечно, это не точно сказано, ибо было все-таки не по пути – заехали в Казань. Толстой впоследствии вспоминал, что провел там «очень приятную неделю».
Встретившись с Зинаидой в доме у Е.Д. Загоскиной, он затем виделся с нею каждый день. Марии Николаевне он написал об этом: «Госпожа Загоскина устраивала каждый день катания в лодке. То в Зилантьево, то в Швейцарию и т.д., где я имел часто случай встречать Зинаиду… так опьянен Зинаидой».
Толстой даже начал писать стихи… И в Симбирске, и в Сызрани.
А 8 июня 1851 года он сделал запись в дневнике, которая приведена в начале очерка и начинается словами: «Я видал прежде Зинаиду институточкой, она мне нравилась».
И далее сделана приписка: «…Теперь Бог знает, что меня ждет. Предаюсь в волю его. Я сам не знаю, что нужно для моего счастия и что такое счастие. Помнишь Архиерейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сказал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое… не свое, а наше счастие. Лучшим воспоминанием в жизни останется навсегда это милое время».
Советский писатель В. Шкловский в своей книге о Льве Толстом отметил: «Толстой любит в это время Молоствову: стремится к ней, мечтает о ней, но не может даже написать письма, потому что не знает отчества».
Быть может, потому он и нередко обращался к стихам – там отчество не обязательно.
Биограф Льва Толстого Н. Гусев писал, что память о встречах и своей любви к Зинаиде Молоствовой Толстой «хранил в первые месяцы своей кавказской жизни».
И он писал ей стихи, которые, впрочем, не считал удачными, а потому отзывался о своем поэтическом творчестве с некоторой иронией. В дневнике 30 декабря 1852 года сделана такая запись: «Вечером написал стишков 30 порядочно». Вот стихи, по мнению биографов, посвященные Молоствовой…
Давно позабыл я о счастье —
Мечте позабытой души —
Но смолкли ничтожные страсти
И голос проснулся любви…
На небе рассыпаны звезды;
Все тихо и темно, все спит.
Огни все потухли: уж поздно,
Одна моя свечка горит.
Сижу у окна я и в мысли
Картины былого слежу,
Но счастья во всей моей жизни
Минуту одну нахожу:
Минуту любви, упованья,
Минуту без мысли дурной,
Минуту без тени желанья,
Минуту любви неземной…
И тщетно о том сожаленье
Проснется в душе иногда
И скажет: зачем то мгновенье
Не мог ты продлить навсегда?
В черновике остались и такие строки:
Дитя так невольно сказало
Всю душу во взгляде одном,
Что слов бы никак недостало
Сказать то, что сказано в нем.
Впрочем, когда в 1852 году стало известно о замужестве Зинаиды, Толстой отметил в дневнике: «Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня».
Но Зинаиде и не оставалось ничего делать – в то время засиживаться в незамужних девушкам было опасно. О чувствах же Льва Николаевича она знала только со слов своей подруги Марии Николаевны Толстой. Сам же он так и не решился на признание.
Исследователи полагают, что свои чувства Лев Толстой выразил в незавершенном рассказе «Святочная ночь», наброски которого в различных вариациях сохранились. Вот размышления Сережи Ивина, главного героя рассказа: «Скажите вы, люди благоразумные и с характером, которые, раз избрав дорогу в жизни, ни разу не сбивались с нее, не позволяя себе никакого увлечения, скажите, неужели можно строго судить молодого, влюбленного мальчика за то, что он под влиянием любви способен поддаваться обаянию дружбы и тщеславия? Вы, может быть, не поймете меня, когда я скажу, что был влюблен, как только может быть влюблен 18-летний мальчик, и несмотря на это, намек Н.Н., что он не должен слишком выказывать своей любви Графине, а дожидаться того, чтобы вышло наоборот, и несколько слов, обращенные к нему Н.Н., к которому он чувствовал какое-то особенное расположение, в первый раз в единственном числе второго лица, совершенно вскружили ему голову; и он остался ужинать в первой комнате…»
И далее – описание состояния влюбленного юноши. Не есть ли это отражение состояния самого автора?
«Теперь ему никого не нужно. Ласковая улыбка и взгляд Графини придали ему более сознания своего достоинства, чем Гр[афский] титул, богатство, красота, кандидатство, ум и всегдашняя лесть и похвалы, в одно мгновение из ребенка сделали мужчину. Он вдруг почувствовал в себе все благородные качества мужчины: храбрость, решимость, твердость, все то, недостаток чего он ясно сознавал в себе до сих пор. Внимательный наблюдатель заметил бы даже перемену в его наружности за этот вечер. Походка стала увереннее и свободнее; грудь выпрямилась, голова держалась выше; в лице исчезла детская округлость и неотчетливость черт, мускулы лба и щек выказывались определеннее, и улыбка была смелее и тверже».
Николай Михайлович Мендельсон, русский, советский фольклорист, историк литературы, в комментариях к рассказу «Святочная ночь» отметил:
«Рассказ писался Толстым на Кавказе в 1853 г. К работе над ним относятся следующие записи дневника этого года.
12 января: “Задумал очерк: “Бал и бардель”.
17 апреля: “Встал рано, хотел писать, но поленился, да и начатый рассказ не увлекает меня. В нем нет лица благородного, которое бы я любил; однако мыслей больше”.
На следующий день: “Писал не дурно. План рассказа только теперь начинает обозначаться с ясностью. Кажется, что рас[сказ] может быть хорош, ежели сумею искусно обойти грубую сторону его”».
В суммарной записи 21—25 апреля: «…окончил начерно С[вяточную] Н[очь], примусь за корректуру», а немного далее, в тот же день: «Мои теперешние желания: получить солдат[ский] крест, чин на месте, и чтобы оба рассказа мои удались».
В связи с предыдущими и последующими записями можно полагать, что Толстой разумеет здесь «Отрочество» и «Святочную ночь». По всей вероятности, о последнем рассказе говорит запись дневника под 7 мая: «Нынче писал довольно много, изменил, сократил кое-что и придал окончательную форму рассказу». Наконец, к 15 мая относится последняя запись: «Р[ассказ] Свят[очная] Н[очь] совершенно обдумал. Хочу приняться…»
Нельзя не отметить в рассказе наличия несомненного автобиографического элемента. Так, например, характеристика московского общества и положения в нем молодого человека, вроде Сережи Ивина, героя «Святочной ночи», находит себе параллель в тех «Записках», которые Толстой начал было писать в дневнике в июне 1850 г., вспоминая в них зиму 1847—1848 гг…»
«Графиня Шофинг соединяла в себе все условия, чтобы внушить любовь, в особенности такому молодому мальчику, как Сережа. Она была необыкновенно хороша как женщина и ребенок: прелестные плечи, стройный гибкий стан, исполненные свободной грации движения и совершенно детское личико, дышащее кротостью и веселием. Кроме того, она имела прелесть женщины, стоящей в главе высшего света; a ничто не придает женщине более прелести, как репутация прелестной женщины. – Графиня Шофинг имела еще очарование, общее очень немногим, это очарование простоты – не простоты, противоположной аффектации, но той милой наивной простоты, которая так редко встречается, что составляет самую привлекательную оригинальность в светской женщине. Всякий вопрос она делала просто и также отвечала на все вопросы; в ее словах никогда не заметно было и тени скрытой мысли; она говорила все, что приходило в ее хорошенькую умную головку, и все выходило чрезвычайно мило. Она была одна из тех редких женщин, которых все любят, даже те, которые должны бы были завидовать».
Работая над рассказом, Толстой, судя по черновикам, стремился показать «сладостное трепетное счастье», о не произнесенном из робости «слове любви и участья», он искал, не находил и снова искал слова, которые, по его же мнению, «так ничтожны в сравненье с Божественным чувством любви».
Толствовед Нина Ильдаровна Бурнашева в комментариях писала: «Что такое счастье, что значит быть счастливым, Толстой еще определить не может. Он пытается решить вопросы о сущности человеческой личности, о связи ее с природой и обществом, о законах развития человека и его назначении. Смысл жизни человека Толстой видит в добродетели, то есть в стремлении к добру. Его нравственная философия строится на том, что добро – естественное свойство человека, а зло – “привитое”; потому само понятие “счастье” для Толстого неразрывно связано с добродетелью. Мысли о счастье и добродетели появляются в первых литературных и философских набросках будущего писателя. “Люди хотят быть счастливы; вот общая причина всех деяний, – к такому выводу приходит Толстой, анализируя дела и поступки людей. – Единственный способ, чтобы быть счастливым, есть добродетель”».
Толстой написал однажды: «Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все. Я стар – пора развития или прошла, или проходит; а все меня мучат жажды… не славы – славы я не хочу и презираю ее; а принимать большое влияние в счастии и пользе людей».
Нина Бурнашева считает, что то же возвышенное, светлое чувство и ощущение счастья переживает Сережа Ивин, герой незавершенного рассказа «Святочная ночь» (январь—май 1853 года), задуманного Толстым две недели спустя. И «простодушно-любопытный взгляд» графини Шефинг, который так поразил Сережу и «доставил столько наслаждения», и «совершенно детское личико, дышащее кротостью и веселием», и «очарование простоты», «милой наивной простоты», и не раз явившееся сравнение с ребенком – все роднит «Святочную ночь» со строками стихотворения, навеянного еще не остывшими воспоминаниями Толстого о «божественном чувстве любви» к Зинаиде Молоствовой.
Толстой пытался писать письма стихами, пока не осознал: «Нет, только один Сызран действовал на меня стихотворно. Сколько ни старался, не мог здесь склеить и двух стихов. Впрочем, и требовать нельзя. Я имею привычку начинать с рифмы к собственному имени. Прошу найти рифму “Старый Юрт”, Старогладковка, и т.д… Зачем вам было нарушать мое спокойствие, зачем писали вы мне не про дядюшку, не про галстук, а про “некоторых”? А впрочем, нет, ваше письмо и именно то место, где вы мне говорите о некоторых, доставило мне большое удовольствие. Вы шутите, а я, читая ваше письмо, бледнел и краснел, мне хотелось и смеяться, и плакать. Как я ясно представил себе всю милую сторону Казани; хотя маленькая сторона, но очень миленькая».
Сколько поэзии в словах о любви, какие искренние и высокие чувства! Но они соседствовали с другими чувствами – чувствами, по мнению самого Толстого, порочными, но таковыми, от которых он не мог избавиться. В Казани вспыхнула чистая любовь, но в Казани же братья однажды привели его в заведение, где он впервые испытал физическую близость. Он написал об этом с откровением: «Когда братья затащили меня в публичный дом, я и совершил половой акт в первый раз в своей жизни, я сел потом у кровати этой женщины и заплакал».
И чувство к обладанию женщиной – просто, без любви, а ради удовлетворения потребностей – всегда ужасало Льва Толстого, и он старался бороться с ним. Вероятно, первое посещение публичного дома настолько отразилось в сознании, что он уже гораздо позднее написал: «Мужчина может пережить землетрясение, эпидемию, ужасную болезнь, любое проявление душевных мук; самой же страшной трагедией, которая может с ним произойти, остается и всегда будет оставаться трагедия спальни».
То, что происходит в спальне наедине с женщиной – с женой ли, возлюбленной ли или просто женщиной для соответствующих утех, всегда коробило писателя, хотя и не останавливало от новых опытов в этом направлении.
Но мечты были именно о спальне с женой, мечты о семье, о детях, словом, о семейной жизни. Об это он писал в январе 1852 года из Моздока своей троюродной тетке Татьяне Александровне Ергольской: «Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в Ясном – дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей; вы все еще живете в Ясном. Вы немного постарели, но все еще свежая и здоровая. Жизнь идет по-прежнему; я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе; после обеда, вечером я читаю вслух то, что вам не скучно слушать; потом начинается беседа. Я рассказываю вам о своей жизни на Кавказе, вы – ваши воспоминания о прошлом, о моем отце и матери; вы рассказываете страшные истории, которые мы, бывало, слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами. Мы вспоминаем о тех, кто нам были дороги и которых уже нет; вы плачете, и я тоже, но мирными слезами… Я женат – моя жена кроткая, добрая, любящая, и она вас любит так же, как и я. Наши дети вас зовут “бабушкой”; вы живете в большом доме, наверху, в той комнате, где когда-то жила бабушка; все в доме по-прежнему, в том порядке, который был при жизни папы, и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли; вы берете роль бабушки, но вы еще добрее ее, я – роль папы, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить; моя жена – мама».
В рассказе «Утро помещика» Толстой показывает воплощение таких мечтаний, вложенных в уста героя князя Нехлюдова: «Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть, с старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение – добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает… Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы».
Павел Бесинский в книге «Лев Толстой. Бегство из рая», приводя этот отрывок, отмечает: «Впоследствии С.А. (Софья Андреевна. – Н.Ш.) многое из этой картины воплотила в жизнь. В молодости носила простые короткие платья, лечила деревенских женщин. Она была прекрасной матерью и хозяйкой. В мечтах Нехлюдова из “Утра помещика” легко обнаружить и эротический подтекст. Жена должна быть ангелом, но со “стройной ножкой”, “хорошенькой головкой”, “румяными губами”. С.А. не была красавицей, но ее привлекательность в молодости и моложавость в пожилые годы отмечали все».
«Этот офицеришка всех нас заклюет…»
Летом 1854 года Лев Николаевич дал согласие стать опекуном детей умершего дворянина Владимира Арсеньева, соседа по Ясной Поляне. Восемнадцатилетняя дочь Арсеньева Валерия приглянулась ему.
Но потом была военная служба, о которой рассказал в книге «Лев Толстой и его жена. История одной любви» Тихон Иванович Полнер, историк и журналист: «В январе 1854 года Лев Николаевич Толстой сдал офицерский экзамен и уехал в отпуск на родину, где и получил официальное уведомление о производстве в офицеры. Начиналась война с Турцией. Толстому захотелось видеть ее вблизи; пользуясь родственными связями, он добился назначения в Дунайскую армию и принял участие в осаде турецкой крепости Силистрии. Когда в войну вступили Англия и Франция, Толстой стал усиленно проситься в Севастополь, и главным образом “из патриотизма”, как он писал брату Сергею. В Севастополе Лев Николаевич оставался почти год (ноябрь 1854 – ноябрь 1855) – то в окрестностях города, то в самых опасных его местах. Два раза он по собственному желанию волонтером участвовал в вылазках. В общем Толстой был хорошим офицером. Среди различных видов “славы”, которой он настойчиво добивался в то время, была и “слава служебная, основанная на пользе отечества”… Живя иной раз в ужасных условиях в строю, замерзая в холодных землянках, он писал военные проекты о штуцерных батальонах и о переформировании батарей. Всегда и везде заботился он о солдатах. В дневниках упрекал он себя в высокомерии, раздражительности, неуживчивости, а товарищи его, офицеры сохранили до конца жизни радостные воспоминания о совместной с ним боевой жизни. Среди почти общего грабежа казенных денег он “проповедовал офицерам возвращать в казну даже те остатки фуражных денег, когда офицерская лошадь не съест положенного ей по штату”.
Еще до прибытия в Севастополь, находясь в Румынии, Толстой делает запись в дневнике, датированную 7 июля 1854 года: «Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие года своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек, а оттуда, придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26 лет, прапорщиком, почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без уменья жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но – с огромным самолюбием!»
После окончания военной кампании, Лев Николаевич Толстой вернулся к мирной жизни, от которой уже до некоторой степени отвык. Та война была на окраинах – о ней говорили в столичных салонах, переживали, всяк по-своему, но она не ощущалась вдали от театров военных действий. Мы видели таковые примеры и в ходе Афганской войны, и во время первой и второй чеченских кампаний. Где-то лилась кровь, а в Москве царили другие порядки. Так и в ту пору – в Санкт-Петербурге, в Москве, в других городах ничего особенно внешне не менялось, а между тем ведь в Севастополе не умолкая гремела канонада, лилась кровь, свершались величайшие подвиги. Но немало выпало их вершителям и страданий от ран. Великий Пирогов Николай Иванович не отходил от операционного стола, а в столицах знать не вылезала из балов и прочих празднеств. Но вот завершилась Крымская кампания…
«В ноябре 1855 года, – говорится в книге “Толстой и его жена. История одной любви”, – в Петербурге появился молодой офицер, обращавший на себя общее внимание. Он прибыл военным курьером прямо из Севастополя и привез донесение о последней бомбардировке крепости. Молодой человек пользовался необыкновенным успехом в самых разнообразных слоях образованного общества. “Сильные мира сего, – писал он о себе впоследствии, – все искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе…” Этот успех вызван был не военными подвигами: офицер состоял в очень маленьких чинах и, несмотря на свою храбрость, не имел случая совершить никаких особенных военных подвигов. Но в течение последних трех лет имя его не сходило со страниц лучших журналов того времени. Двадцати четырех лет от роду, служа в глуши Кавказа артиллерийским юнкером, он написал рассказ “Детство”, начатый им еще в Москве. Рассказ этот, подписанный никому неведомыми инициалами, появился в сентябре 1852 года в распространенном журнале поэта Некрасова “Современнике”. Пластичность образов, простота, теплота, искренность и необычайное ясновидение душевной жизни обворожили читателей. В 1853—1855 годах тот же автор напечатал рассказы: “Набег”, “Отрочество”, “Записки маркера”, “Рубка леса”, “Севастополь в декабре”, “Севастополь в мае”. Последние два произвели особенно сильное впечатление. На Севастополе сосредоточено было в то время всеобщее внимание. И над севастопольскими очерками, описывавшими русского солдата с небывалой в литературе простотою и правдою, плакала вся интеллигентная Россия – от царской семьи до рядовых обывателей. Публика уже знала имя новой восходящей звезды русской литературы. И слава графа Льва Толстого складывалась и росла с невероятною быстротою. Только что вступив на поприще литературного творчества, он уже не имел соперников.
Известный романист и драматург Писемский, читая рассказы Толстого, мрачно говорил: “Этот офицеришка всех нас заклюет, хоть бросай перо…” Сухой и сдержанный редактор “Современника” (поэт Некрасов) писал Толстому в сентябре 1855 года: “Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо сочувствовать, как тот, к которому пишу”.
Тургенев с восторгом читал своим друзьям рассказы незнакомого автора… Именно к Тургеневу прямо с дороги приехал Толстой и остановился у него на квартире. Оба искренно хотели сблизиться. Но – “стихии их были слишком различны”».
О политических взглядах Толстого, участника Севастопольской обороны, свидетельствует такой факт, отмеченный одним из современников:
«Граф Толстой вошел в гостиную во время чтения. Тихо став за кресло чтеца и дождавшись конца чтения, сперва мягко и сдержанно, а потом горячо и смело напал на Герцена и на общее тогда увлечение его сочинениями».
Причем говорил он столь убедительно и с такой уверенностью, что, как отметил современник, во всяком случае, в этом доме интерес к запрещенной литературе потеряли.
В Петербурге Толстой встретил любовь своей юности. Это была сестра его друга Александра Алексеевна, в девичестве Дьякова, а теперь – мужняя жена Оболенская. К тому времени она была уже три года замужем. Но, видно, сохранила чувства ко Льву Николаевичу, да и его чувства вспыхнули с новой силой. В дневнике он отметил, что «не ожидал ее видеть, поэтому чувство, которое она возбудила во мне, было ужасно сильно…».
Эти строки из дневника датированы 22 мая 1856 года. И далее там же говорится: «Вернулся к Д[ьяковым], там танцевали немного, и выехал оттуда с А. Сухотиным, страстно влюбленным человеком. Да и теперь мне ужасно больно вспоминать о том счастье, которое могло быть мое и которое досталось отличному человеку Андрею Оболенскому. Сухотину рассказал свое чувство, он понял его, тем более, что его, кажется, разделяет».
А 25 мая 1856 года такая запись: «У А. [Александры] больна дочь. Она сказала А. Сухотину при мне, что, когда она была невестой, не было влюбленных. Мужа ее тут не было. Неужели она хотела сказать мне, что она не была влюблена в него. Потом, прощаясь со мной, она дала мне вдруг руку, и у нее были слезы на глазах от того, что она только что плакала о болезни пиндигашки; но мне было ужасно хорошо. Потом она нечаянно проводила меня до дверей. Положительно, со времен Сонечки у меня не было такого чистого, сильного и хорошего чувства. Я говорю, “хорошего”, потому что, несмотря на то, что оно безнадежно, мне отрадно расшевеливать его. Писать ужасно хочется “Юность”, кажется, от того, что с этим чувством она пережита».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































