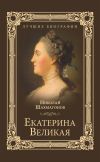Текст книги "Светлейший Князь Потёмкин и Екатерина Великая в любви, супружестве, государственной деятельности"

Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Горькое материнство
Екатерина Алексеевна рассказала в записках: «Однажды, когда я вошла в покои Его Императорского Высочества, я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановкой казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородок.
Я спросила, что это значило; он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и заслуживает строжайшей казни по военным законам, что она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, и съела двух часовых на карауле, сделанных из крахмала, на одном из бастионов, и что он велел судить преступника по законам военного времени; что его легавая собака поймала крысу, и что тотчас же она была повешена, как я её вижу, и что она останется там, выставленная на показ публике, в течение трёх дней, для назидания. Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось, в виду той важности, какую он этому придавал; я удалилась и прикрылась моим женским незнанием военных законов, однако он не переставал дуться на меня за мой хохот…».
Печальный юмор этой части записок перекликается с возгласом, быть может, даже притупленным временем воплем отчаяния: «есть ли б я в участь получила с молода мужа, которого бы любить могла…». Все горькие впечатления молодости будущей Императрицы отразились в этой короткой фразе, попросту незамеченной хулителями и клеветниками всех мастей, недалеко ушедшими по своим умственным способностям от вешателя крыс.
Шёл 1745 год… Петру было 26 лет… И в этом возрасте он с полной серьёзностью рассуждал о преступлении крысы и военно-полевом суде над ней.
Нет, «не от распутства, к коему склонности» не имела, родила Екатерина своего первенца, которого нарекли Павлом, от Сергея Салтыкова.
Ещё во время беременности Екатерина начала понимать, что рано или поздно с Сергеем Салтыковым, которого она полюбила, придётся расстаться. В её Записках проскальзывают признания, что каждая разлука с ним приносила ей боль. Когда двор переезжал из Москвы в Петербург, Екатерина «умирала от страху, как бы Сергея Салтыкова… не оставили в Москве…». Но его записали в свиту малого двора. Тем не менее, она призналась: «…у меня постоянно навёртывались слёзы на глаза, и тысячу опасений приходили мне в голову; одним словом, я не могла избавиться от мысли, что всё клонится к удалению Сергея Салтыкова…».
До родов этого не сделали только из опасений за судьбу ожидаемого важнейшего мероприятия – щадили чувства будущей матери. И вот около полудня 20 октября (1 октября) родился Павел. «Как только его спеленали, – писала Екатерина, – Императрица ввела своего духовника, который дал ребёнку имя Павла, после чего Императрица велела акушерке взять ребёнка и следовать за ней».
Здесь явно проявилось желание Елизаветы Петровны взять под своё крыло и свою опеку того, кого она определила в свои преемники. Императрица была хорошо осведомлена о выходках Великого Князя, который в те дни пил беспробудно, и лишь однажды заглянул к супруге, справился о здоровье и тут же удалился, заявив, что «не имеет времени оставаться».
Уж кто-кто, а он то отлично понимал, что не имеет ни малейшего отношения к новорождённому.
Нелёгкими для Екатерины были дни после родов, Вот лишь несколько выдержек из Записок: «Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил, а Императрица занималась ребёнком…». «Со следующего дня (после родов) я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль… и при том я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания; я никого не видела, и никто не справлялся о моём здоровье…».
А далее в «Записках» говорится о том, что пришлось испытать молодой маме, которой ребёнка показывать нужным не считали: «Я то и дело плакала и стонала в своей постели», – признается она. Даже на крестины маленького Павла её не пригласили: «На шестой день были крестины моего сына; он уже чуть не умер от молочницы. Я могла узнавать о нём только украдкой, потому что спрашивать об его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нём Императрица, и это могло быть принято дурно. Она и без того взяла его в свою комнату и, как только он кричал, она сама к нему подбегала и заботами его буквально душила…».
Вскоре после крестин Екатерине сообщили, что Сергей Салтыков был назначен отвезти известие о рождении Павла в Швецию. Этого и следовало ожидать. Держать при дворе такого свидетеля рождения наследника было бы опрометчиво, тем более он вёл себя не очень скромно. Вот когда Екатерина поняла, что по настоящему привязалась к нему, а, быть может, даже полюбила. Недаром, признаваясь в «Чистосердечной исповеди» о своих отношениях с Понятовским, она откровенно написала, что это произошло «после года и великой скорби». А тогда, после отъезда Сергея Салтыкова, «зарылась больше, чем когда-либо в свою постель, где я только и делала, что горевала».
«Когда прошло 40 дней со времени моих родов, – вспоминала далее Екатерина Вторая, – … сына моего принесли в мою комнату: это было в первый раз, что я его увидела после рождения. Я нашла его очень красивым, и его вид развеселил меня немного; но в ту же самую минуту, как молитвы были кончены, Императрица велела его унести и ушла…».
Интересны наблюдения иностранцев и оценки, сделанные ими, по поводу происходящего при Российском Императорском Дворе. Прусский посланник доносил Фридриху II: «Надобно полагать, что Великий Князь (Пётр Фёдорович. – Н. Ш.) никогда не будет царствовать в России; не говоря уже о его слабом здоровье, которое угрожает ему рановременною смертью… надобно признаться, что поведение его вовсе не способно привлечь сердца народа. Непонятно, как принц его лет может вести себя до такой степени ребячески. Некоторые думают, что он притворяется, но в таком случае он был бы мудрее Брута. К несчастью, он действует безо всякого притворства. Великая Княгиня ведёт себя совершенно иначе».
Безусловно, Елизавета Петровна нисколько не обольщалась насчёт наследника, она была в весьма щекотливом положении. Ведь после неё престол мог занять именно Великий Князь Пётр Фёдорович. Великая Княгиня, даже при том условии, что она была гораздо достойнее, при живом супруге никаких прав не имела. Осталось уповать на Павла. Но объявить его наследником при живых родителях можно было лишь по достижении совершеннолетия. И Елизавета Петровна готовила его к этому, стараясь всячески ограничивать его контакты с родителями, тем более, Великий Князь даже и не стремился по понятным причинам видеть его.
О Екатерине же складывалось мнение совершенно противоположное, нежели о Петре. Английский посланник Ульямс писал в 1755 году: “Как только она приехала сюда, то начала стараться всеми силами приобрести любовь русских. Она очень прилежно училась их языку и теперь говорит на нём в совершенстве (как говорят мне сами русские). Она достигла своей цели, и пользуется здесь большой любовью и уважением. Её наружность и обращение очень привлекательны. Она обладает большими познаниями о Русском государстве, которое составляет предмет её самого ревностного изучения. Канцлер говорит мне, что ни у кого нет столько твёрдости и решительности».
Именно в те годы своей молодости будущая Императрица написала весьма значительные строки: «Желаю и хочу только блага стране, в которую привёл меня Господь. Слава её делает меня славною. Вот моё правило, и я буду счастлива, если мои мысли могут в том содействовать».
Заметки, сделанные Екатериной, когда она была ещё Великой Княгиней, говорят о том, что она задумывалась о своём предстоящем царствовании.
• «Я хочу, чтобы страна и поданные были богаты: вот начало, от которого я отправляюсь.
• Я хочу, чтобы повиновались законам; но не рабов; я хочу общей цели – делать счастливыми, но вовсе не своенравия, не чудачества, и не тирании.
• Противно христианской религии и справедливости делать рабов из людей, которые все получают свободу при рождении”. (Здесь ощущается явный намёк на освобождение крестьян, закрепощённых Петром I).
• Власть без доверия народа ничего не значит.
• Приобретите доверенность общества, основывая весь образ ваших действий на правде и общественном благе».
Не давали покоя и мысли о воспитании сына, которого она именует по европейски принцем:
• «По моему мнению, есть два правила при воспитании принца: это, сделать его благодетельным и заставить его любить истину. Таким образом, он сделается любезным пред Богом и у людей.
• Пусть связывают мне руки, когда хотят помешать злу; но оставляйте меня свободною делать добро”.
Что же касается личной жизни, то она оставалась по-прежнему безрадостной. В «Чистосердечной исповеди» читаем: «По прошествии года и великой скорби приехал нонешний король польский…».
«Исповедь» датирована 1774 годом. Написана она, по мнению исследователей, 21 февраля. Королём в то время (как выразилась она «нонешним») был Станислав Август Понятовский.
«Сей был любезен и любим от 1755 до 1761 г.», – признаётся Императрица Екатерина Потёмкину, которому, как мы уже говорили, и адресована исповедь. Здесь важно отметить, что, касаясь столь деликатных моментов биографии Императрицы, исследователь, историк, биограф не должен забывать, что героиня его исследований не только Императрица, но ещё и женщина. Именно по этой немаловажной причине необходимо соблюдать корректность и позволять себе размышления только над тем, в чём она сама признаётся, а не смаковать выдуманное клеветниками и злопыхателями. И не след домысливать и додумывать что означает «любезен и любим», а лучше послушать саму героиню.
В «Записках» Екатерина Алексеевна упоминает о нескольких встречах с Понятовским, который в 1756 году состоял в свите английского посланника, затем сообщает, что в 1757 году он снова прибыл в Петербург уже в качестве посланника польского короля. В словах Екатерины не содержится даже намёка на какие-либо особые отношения с Понятовским, хотя имя Станислава Августа упоминается достаточно часто. Там же опровергаются предположения некоторых исследователей эпохи и биографов, что Понятовский был удалён из Петербурга за связь с Великой Княгиней. Истинная причина, по словам самой Екатерины, в политических интригах Понятовского.
9 декабря 1758 года Екатерина родила дочь. Вот как рассказала об этом в своих записках она сама: «… Я разрешилась 9 декабря между 10 и 11 часами вечера дочерью, которой я просила Императрицу разрешить дать её имя; но она решила, что она будет носить имя старшей сестры Её Императорского Величества, герцогини Голштинской, Анны Петровны, матери Великого Князя».
В «Записках…» упомянуто о реакции на это со стороны Петра Федоровича: «Его Императорское Высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других: «Бог знает, откуда моя жена берёт свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребёнок и должен ли я его принять на свой счёт». Лев Нарышкин прибежал ко мне и передал мне эти слова прямо в пылу. Я, понятно, испугалась таких речей и сказала ему: «Вы все ветреники; потребуйте от него клятвы, что он не спал со своею женою, и скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову, как великому инквизитору Империи». Лев Нарышкин пошёл действительно к Его Императорскому Высочеству и потребовал от него этой клятвы, на что получил в ответ: «Убирайтесь к чёрту и не говорите мне больше об этом».
Некоторые историки пытались на свой лад трактовать сказанное и даже делали вывод, что родившаяся девочка была дочерью Понятовского. Но Екатерина Алексеевна не дала и намёка на то в данном случае, в отличии оттого, что говорила она весьма прозрачно относительно рождения Павла. А, следовательно, и историк не вправе делать свои умозаключения. Единственно, что подчеркнула Великая Княгиня, так это явно безнравственное заявление Великого Князя. Так и читается в его адрес сквозь строки: «Коли не можешь быть мужчиной, так молчи».
Вольтер в своё время сказал, что тайна кабинета, стола и постели Императора (добавим – членов императорской фамилии) не может быть разоблачаема иностранцем (добавим, что и никем другим тоже). Поэтому оставим гадания по поводу тех случаев, когда сама Екатерина Алексеевна не считала нужным открывать тайну.
После рождения Анны Екатерина оказалась в том же положении, что и после рождения Павла. Ей выдали в награду шестьдесят тысяч рублей и опять забыли о ней: «… я была в моей постели одна-одинёшенька, и не было ни единой души со мной…».
Посещала же Великую Княгиню по её словам «обычная маленькая компания, которую составляли как прежде, Нарышкина, Сенявина, Измайлова и граф Понятовский…».
В «Чистосердечной исповеди» Екатерина признаётся, что поначалу она «отнюдь не приметила» Понятовского, «но добрые люди заставили пустыми подозрениями догадаться, что он на свете, что глаза его были отменной красоты, и что он их обращал, хотя так близорук, что далее носа не видит, чаще на одну сторону, нежели на другие».
Видный исследователь екатерининской эпохи Вячеслав Сергеевич Лопатин указывает, что «прекрасно образованный и воспитанный Понятовский был близок Екатерине по своему интеллекту. Он разделял её интересы и вкусы. Обожая великую княгиню, граф Станислав Август с уважением относился к её высокому положению. Единственный из возлюбленных Екатерины Понятовский запечатлел её портрет: «Ей было 25 лет. Она только что оправилась от первых родов, когда красота, данная её натурой, расцвела пышным светом. У неё были чёрные волосы, изумительная фигура и цвет кожи, большие выразительные голубые глаза, длинные, тёмные ресницы, чётко очерченный нос, чувственный рот, прекрасные руки и плечи. Стройная, скорее высокая, чем низкая, она двигалась быстро, но с большим достоинством. У неё был приятный голос и весёлый заразительный смех. Она легко переходила от простых тем к самым сложным».
Комментируя этот отзыв, В. С. Лопатин пишет: «Возможно, Понятовский преувеличивал красоту Екатерины как женщины, но современники единодушно отмечали её обаяние».
В борьбе за власть
Между тем, положение Великой Княгини при Дворе становилось всё опаснее. Она понимала это и отразила в записках ту обстановку: «Я увидела, что остаются на выбор три, равно опасные и трудные пути: 1-е, разделить судьбу Великого Князя, какая она ни будет; 2-е, находиться в постоянной зависимости от него и ждать, что ему угодно будет сделать со мною; 3-е, действовать так, чтобы не быть в зависимости ни от какого события. Сказать яснее, я должна была либо погибнуть с ним или от него, либо спасти самоё себя, моих детей и, может быть, всё государство от тех гибельных опасностей, в которые, несомненно, ввергли бы их и меня нравственные и физические качества этого государя».
Вот как описывает обстановку последних лет царствования Императрицы Елизаветы Петровны автор «Истории Екатерины II» А. Брикнер: «Мало по малу, вопрос о том, что будет с Россией после кончины Императрицы (Елизаветы Петровны), становился жгучим, животрепещущим. При слабом здоровье Елизаветы, при постоянно возобновляющихся и опасных припадках, нельзя было не заняться этим вопросом… Пётр сближался преимущественно с лакеями, егерями и псарями. Екатерина… служила предметом внимания наиболее выдающихся сановников, которые, в виду предстоящей перемены на престоле, искали расположения Екатерины… С особенно напряжённым вниманием английский дипломат Ульямс наблюдал во время начала Семилетней войны за настроением умов при русском дворе. Он сообщал в донесениях своему правительству, что Великая Княгиня весьма деятельна, что её очень любят, но что некоторые люди её боятся; что лица, приближённые к Императрице, стараются сблизиться с нею. То были Разумовские и Шуваловы… Предложение (от Шуваловых. – Ред.) было сделано сперва через князя Трубецкого, потом через племянника его, Ивана Ивановича Бецкого. Екатерина отвечала, что согласна сблизиться с Шуваловыми, если они будут вполне содействовать её видам… Шуваловы были важны Екатерине вследствие близких отношений к Императрице Елизавете…».
А. Г. Брикнер, подробно охарактеризовав деяния Екатерины, сделал вывод: «Из всех этих данных видно, каким образом Екатерина была занята мыслью о будущем своём царствовании. Нет сомнения, что тогда уже она мечтала о возможности устранения Петра».
В 1757 году один из дипломатов писал: “Один Бог ведает, кто будет наследником в случае смерти Императрицы, что может случиться внезапно, и даже не считается отдалённым, судя по состоянию здоровья Её Величества… Никто ничего не ожидает от Великого Князя… каждый верит, что есть непременное духовное завещание, сделанное в пользу юного Великого Князя (Павла. – Н. Ш.), за исключением его отца; думают, что граф Шувалов будет назначен правителем».
Нет сомнений в том, что Екатерина выслушивала делаемые ей предложения и даже шла на сближение с теми или иными сановниками, но никогда не замышляя каких-либо действий против Императрицы Елизаветы Петровны. Она, безусловно, знала, что Пётр ищет любой предлог избавиться от неё и в лучшем случае добиться отправки в Германию, в худшем – в Сибирь. Елизавета Петровна, судя по документам эпохи, понимала это, ибо не воспользовалась целом рядом видимых причин, чтобы расправиться с Екатериной, а, напротив, в конфликтах между Петром и Екатериной принимала сторону Великой Княгини. У неё было даже опасения, что Пётр может организовать покушение с целью захвата власти. Те, кто разделял подобные опасения, понимали, что затем последует ссылка или заточение Екатерины и Павла, а Пётр же женится на своей фаворитке Воронцовой. Обстановка при дворе накалялась. Активизировали свою деятельность и иностранные дипломаты. Англичане боялись усиления при дворе сановников, более расположенных к Франции и наоборот.
В то же время французов беспокоила приверженность Великого Князя Петра Фёдоровича прусскому королю. Россия уже достигла к тому времени такого могущества, не учитывать коего в европейской политике было невозможно. И чем более было признаков того, что дни Елизаветы Петровны сочтены, тем решительнее действовали группировки.
Казалось бы, достаточно прочное положение Екатерины, опирающейся на Разумовских, Шуваловых и Бестужева, сильно пошатнулось после падения последнего. Екатерина считала главным виновником падения Бестужева вице-канцлера Воронцова, который расчищал таким образом дорогу Великому Князю и своей дочери – фаворитке Петра Фёдоровича – и ослаблял позиции Великой Княгини. Во всяком случае, арест Бестужева был вызван какой-то коварной клеветой, участником которой, скорее всего, стал Великий Князь.
Об аресте Бестужева Екатерине первым сообщил Понятовский. Екатерина встревожилась не на шутку. У Бестужева находился документ, который мог дорого ей стоить. Документом тем был манифест, подготовленный для обнародования в случае внезапной кончины Императрицы и предоставлявший Екатерине значительную роль в руководстве страной.
Вот что говорится об этом документе в «Записках…»: «Болезненное состояние Императрицы и её частые конвульсии заставляли всех думать о будущем. Граф Бестужев и по месту своему и по своим способностям, конечно, не менее других должен был заботиться о том, что предстояло. Он знал, что Великому Князю с давних пор внушено к нему отвращение. Ему хорошо была известна умственная слабость этого государя, рождённого наследником стольких престолов. Очень естественно было, что этот государственный человек, как всякий другой, желал удержаться на своём месте. Он знал, что я уже много лет перестала внимать внушениям, которые отделяли меня от него. Кроме того, в личном отношении, он, может быть, считал меня единственным существом, на котором, в случае смерти Императрицы, могла быть основана надежда общества. Вследствие таких и подобных размышлений, он составил план, чтобы, как скоро Императрица скончается, Великий Князь по праву был объявлен Императором, но чтобы в тоже время мне было предоставлено публичное участие в управлении; все лица должны были оставаться на своих местах; Бестужев получал звание вице-президента в трёх государственных коллегиях: иностранной, военной и адмиралтейской. Таким образом, желания его были чрезмерны».
Екатерина, поблагодарив Бестужева, приславшего ей манифест «за добрые намерения», однако, возражала ему, ссылаясь на неисполнимость прожектов. Бестужев продолжал работать над документом, переделывая его много раз. Екатерина не перечила Бестужеву, как она говорила, «упрямому старику, которого трудно было разубедить, когда он что-нибудь забирал себе в голову». Но считала вредным в трагический для государства момент (смерть Государыни) разжигать конфликт между собой и Петром Фёдоровичем. Таким образом, этот документ был, вполне возможно, не только безобидным, но и неисполнимым, к тому же и не разделяемым самой Великой Княгиней, но именно существование его ставило её в весьма опасное положение – почти на край гибели…
А вскоре стало известно и то, что открыта переписка Бестужева с Понятовским. «Тем не менее, – писала Екатерина, – я была убеждена, что относительно правительства я не заслуживала ни малейшего упрека».
И действительно, ничего антигосударственного не было ни в манифесте, ни в переписке Понятовского. Что же касается личных взаимоотношений Екатерины и Понятовского, то Елизавета Петровна давно была в курсе их, но не препятствовала, ибо понимала, кто есть Пётр Фёдорович. Но!.. Она ведь сама призвала его в Россию, сама сделала наследником престола, и теперь деваться было некуда. Приходилось терпеть и надеяться, на то, что ещё удастся устроить всё в пользу смышленого, одарённого, физически крепкого Великого Князя Павла.
Конечно, если бы Елизавета Петровна узнала о манифесте, заранее подготовленном на случай своей смерти, вряд ли бы пришла в восторг, чтобы там не содержалось. Разве ж могли быть приятны размышления придворных и близких, ожидающих смерти Государыни, самой Государыне?
И потому у Екатерины отлегло от сердца, когда ей сообщили верные люди, что Бестужев успел сжечь манифест. Но были найдены её письма к осуждённому Апраксину, которые, правда, призывали его к храбрым и решительным действиям и потому не составляли криминала. Открыты были и тесные отношения с Бестужевым.
А. Г. Брикнер отметил: «Падение Бестужева не могло не уничтожить, хотя бы временно, многих надежд Екатерины. Канцлер был её сильным союзником и другом; через него она принимала участие в управлении голштинскими делами, через него она могла надеяться достигнуть участия в управлении России после кончины Елизаветы».
Великий Князь, сподвижники которого заявляли меж собой о Екатерине: «Надо раздавить змею», падению Бестужева радовался особенно.
В те дни Екатерина писала Понятовскому: «Хотя я в крайней горести ныне, но ещё надежду имею, что несказанные Божие чудеса и в сём случае помогут надеющимся на него».
Екатерина Алексеевна понимала, что разговор с Императрицей Елизаветой Петровной не может быть лёгким, ведь, несмотря на то, что в целом царствование этой Государыни отличалось некоторыми мягкостью и кротостью, по сравнению с правлениями предшествующими, в нём ещё сохранялось слишком «много грубого, отдававшего Петровской эпохой». Елизавета Петровна унаследовала отцовскую вспыльчивость. Биографы отмечают, что она нередко «собственноручно колотила придворных по щекам и обладала доведённой до виртуозности способностью браниться, бранилась с чувством и продолжительно, припоминая все ранее нанесённые ей обиды, делая колкие намёки и изливая целые потоки не нежных, не идущих к делу и наивных слов». Впрочем, как отметил М. Богословский в книге «Три века», «такие вспышки гнева не влекли за собой серьёзных последствий для тех, кто им подвергался, и проходили также быстро, как появлялись, уступая место искренним порывам доброты, сентиментальному настроению, грусти и слезам».
В то же время, было известно и о том, что Императрица вполне могла пойти и на крайнюю суровость, даже жестокость к подданным, если считала это необходимым для дела государственной важности, или, по крайней мере, так ей казалось. Безусловно, Екатерина Алексеевна знала о так называемом «дамском заговоре», окончившемся плачевно для заговорщиков. Правда, Екатерина Алексеевна против Императрицы ничего не замышляла, но ведь заинтересованным лицам доказать злой умысел в её действиях с помощью пыток выбранных для того придворных особого труда не составляло. Тем более, разговоры о том, что Великая Княгиня вполне может украсить престол, постоянно шли по городу.
Заговоры же против Елизаветы Петровны в первые годы царствования имели место. М. Богословский отметил, что правительница Анна Леопольдовна «благодаря своей мягкости… приобрела симпатии в гвардии и в высшем обществе и оставила по себе сожаление». Уже в 1742 году был раскрыт и разгромлен заговор, в котором участвовали офицеры Преображенского и Измайловского полков. А спустя год сложился новый заговор, возглавляемый тремя великосветскими дамами. М. Богословский, касаясь его, заметил, что XVIII век не случайно назвали веком господства дам: «Дамы царят в салонах, занимают престолы или управляют теми, кто занимает престолы. Дамы ведут войну против прусского короля (имеются в виду Елизавета Петровна и Мария Терезия. – Н. Ш.). Нет ничего удивительного, что дамы оказались и во главе заговора. Это были: Н. Ф. Лопухина, А. Г. Бестужева, свояченица канцлера, жена его брата Михаила, и Софья Лилиенфельд, жена камергера. Разными нитями, и, конечно, в значительной мере романического свойства, они были связаны с брауншвейгской фамилией или с лицами, пострадавшими при её падении. Около руководительниц группировался кружок гвардейских офицеров, а вдохновителем этого великосветского общества был австрийский посол граф Бота… Предприятие не пошло, однако, далее простой болтовни: в кружке выражали недовольство поведением Императрицы, осуждали её поездки в придворные резиденции для устройства попоек, сомневались в её правах на престол, как дочери Петра, рождённой за три года до брака; офицеры смеялись над «бабьим» правлением. Дамский заговор вызвал против себя также женский образ действий. Всё это Лопухинское дело было до крайности преувеличено и раздуто и чуть не повело к разрыву австрийского союза. Мария – Терезия вынуждена была отозвать посла и даже подвергнуть его на некоторое время аресту для успокоения разгневанной союзницы. Руководительницы жестоко поплатились. Лопухина была знаменитой красавицей – единственной соперницей Елизаветы, – вот в чём состояло её главное преступление, которого та не могла ей простить… Лопухина и Бестужева были биты кнутом на площади и с вырезанием языков отправлены в Сибирь. Даже члены Тайной канцелярии просили Императрицу пощадить третью участницу, Софью Лилиенфельд, находившуюся в состоянии беременности, и избавить её от тягостных очных ставок. На докладе канцелярии Елизавета написала резолюцию, столько же ужасную по содержанию, сколько и по орфографии: «Надлежит их в крепость всех взять и очьною ставкою про из водить, несмотря на её болезнь, понеже коли они государево здоровье пренебрегали, то плутоф и наипаче желеть не для чего, луче чтоб и век их не слыхать, нежели ещё от них плодоф ждать».
Этот заговор сослужил недобрую службу и брауншвейгскому семейству, которое Императрица отпустила за границу. Но после раскрытия заговора она стала опасаться, что кто-то попытается использовать имя младенца Иоанна Антоновича для новых смут, и приказала вернуть семейство. Родителей несостоявшегося Императора сослали в Холмогоры, а его самого заточили в Шлиссельбургскую крепость.
Чего же могла ожидать Екатерина Алексеевна в том случае, если клевета на неё достигла бы цели, и Императрица Елизавета Петровна сочла её опасной соперницей? Нужно было как-то убедить Государыню в том, что она не ищет трона, что, если это нужно для общего дела, готова покинуть Россию. Вот как вспоминала она об этом в «Записках…»: «Решение моё было принято, и я смотрела на мою высылку или не высылку очень философски; я нашлась бы в любом положении, в которое Проведению угодно было бы меня поставить, и тогда не была бы лишена помощи, которую дают ум и талант каждому по мере его природных способностей; я чувствовала в себе мужество подниматься и спускаться, но так, чтобы моё сердце и душа при этом не превозносились и не возгордились, или, в обратном направлении, не испытали ни падения, ни унижения. Я знала, что я человек и тем самым существо ограниченное и неспособное к совершенству; мои намерения всегда были чисты и честны; если я с самого начала поняла, что любить мужа, который не был достоин любви и вовсе не старался её заслужить, вещь трудная, если не невозможная, то, по крайней мере, я оказала ему и его интересам самую искреннюю привязанность, которую друг и даже слуга может оказать своему другу или господину; мои советы всегда были самыми лучшими, какие я могла придумать для его блага; если он им не следовал, не я была в том виновата, а его собственный рассудок, который не был ни здрав, ни трезв».