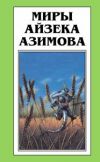Текст книги "Кром желтый. Шутовской хоровод (сборник)"

Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 24
Был полдень. Спустившись из своей комнаты, где безуспешно пытался написать нечто ни о чем, Дэнис нашел гостиную пустой. Он уже собрался было выйти в сад, когда взгляд его упал на знакомый, но таинственный предмет – большой красный блокнот, в котором, как он неоднократно видел, Дженни беззвучно и сосредоточенно что-то черкала. Она забыла его на кресле у окна. Соблазн был велик. Он взял блокнот в руки и стянул резинку, которая предусмотрительно скрепляла обложку.
«Личное. Не открывать!» – было написано на ней заглавными буквами. Он вскинул брови. Что-то в этом роде ребятишки в подготовительной школе писали на лицевой странице своей латинской грамматики. «Черный ворон, серый квак, кто книгу возьмет, тот вор и дурак!» Забавно, совсем по-детски, подумал Дэнис, мысленно улыбнувшись, и открыл блокнот. То, что он увидел, заставило его содрогнуться, как от удара.
Самым суровым критиком Дэниса был он сам, по крайней мере, он всегда так думал. Ему нравилось представлять себя безжалостным вивисектором, препарирующим трепетную ткань собственной души; он был для себя подопытной собакой. Никто не знал его слабостей и чудачеств лучше его самого. Более того, у него было смутное ощущение, будто никто, кроме него, о них вообще не догадывался. Почему-то он и представить себе не мог, что другие люди могут видеть его со стороны так же, как он видит их, и что они судачат о нем между собой так же нелицеприятно и – если откровенно – порой злобно, как он привык судачить о них. Сам он отдавал себе отчет в своих недостатках, но это было исключительно его собственной привилегией. Для всего остального мира он, разумеется, являл собой образ алмаза безупречной чистоты. Это было почти аксиомой.
В тот миг, когда он открыл красный блокнот, алмаз треснул и необратимо разлетелся вдребезги. Дэнис больше не был своим самым суровым критиком. И это открытие оказалось болезненным.
Перед ним лежал плод незаметных трудов Дженни. Карикатура на него, якобы читающего (книга в его руках перевернута вверх ногами), на фоне танцующей пары, в которой легко узнавались Анна и Гомбо. Внизу подпись: «Видит око, да зуб неймет». Ошеломленный и шокированный, Дэнис разглядывал рисунок. Тот был превосходен. Некий безмолвный и безвестный Рувейр[67]67
Имеется в виду Андрэ Рувейр (1879–1962) – французский художник, писатель и журналист, друг Аполлинера и Пикассо, автор знаменитого альбома карикатур на женскую половину человечества.
[Закрыть] угадывался в каждой безжалостно четкой линии. Выражение лица, в котором смешались притворное равнодушие и сознание собственного превосходства, слегка поколебленное завистью; поза глубокомыслия и ученого достоинства, смехотворная при перевернутой вверх ногами книге, – все это было ужасно. Но еще ужаснее казалось сходство: его физические особенности были тонко подмечены и чуть преувеличены с непоколебимой уверенностью.
Дэнис стал листать блокнот дальше. В нем обнаружились и другие карикатуры: на Присциллу и мистера Барбекью-Смита, на Генри Уимбуша, на Анну и Гомбо, на мистера Скоугана, которого Дженни изобразила в более чем зловещем, по сути дела дьявольском, свете, на Мэри и Айвора. На эти рисунки Дэнис едва взглянул. Его обуревали страх и в то же время непреодолимое желание узнать о себе худшее. Все, что не касалось его самого, он пролистывал, не задерживаясь. Ему было посвящено семь полных страниц.
«Личное. Не открывать!» Он не внял предписанию и получил по заслугам. Задумчиво закрыв блокнот, Дэнис снова перетянул его резинкой и положил на место. Опечаленный и умудренный, вышел на террасу. Значит, вот как, размышлял он, вот как проводила Дженни свободное время в своей уединенной башне из слоновой кости. А он-то считал ее простодушным, доверчивым созданием! Похоже, простаком оказался он сам. Дэнис не испытывал негодования по отношению к Дженни. Нет, источником его страданий была не сама Дженни, а то, что открыл ему ее красный блокнот, и то, что стояло за ее рисунками, их символика. Они представили ему обширный, обладающий собственным сознанием мир вне его самого. Они символизировали нечто, во что он в своем сосредоточенном одиночестве не был склонен верить. Он мог стоять посреди площади Пикадилли, наблюдать за шаркающей мимо толпой и тем не менее воображать себя единственным в полной мере обладающим самосознанием, интеллектом и индивидуальностью существом среди этих тысяч. Почему-то ему казалось невероятным, что другие люди могут быть по-своему такими же сложными и цельными, как он. Да, это было невероятно, и тем не менее время от времени он делал весьма болезненные открытия, касающиеся внешнего мира, его способности к осознанию и осмыслению. Красный блокнот стал одним из таких открытий – следом, оставленным на песке, который исключал любые сомнения в реальном существовании внешнего мира.
Некоторое время Дэнис раздумывал над неприятной истиной, сидя на парапете террасы, потом, продолжая пережевывать эту мысль, задумчиво направился к бассейну. Павлин в сопровождении самки разгуливал по нижней лужайке, волоча за собой свое потрепанное убранство. Мерзкие птицы! Шеи, у основания толстые и мясистые, словно специально приспособленные для обжорства, по-дурацки нелепо сужаются к безмозглым головам, глаза плоские, клювы острые. Правы баснописцы, размышлял Дэнис, используя птиц для иллюстрации особенностей человеческой морали. Животные похожи на людей в их карикатурной подлинности. (Ох уж этот красный блокнот!) Он швырнул прутик в медленно вышагивавших птиц. Те метнулись за ним, полагая, что это нечто съедобное.
Дэнис пошел дальше. Глубокая тень гигантского каштана, словно огромный осьминог раскинувшего свои ветви-щупальца, поглотила его.
Он попытался вспомнить, чье это стихотворение, но не смог.
Кузнец в работе допоздна,
И круглых бицепсов блестит
Резина налитая.
Не то что у него; нужно заставить себя более регулярно делать упражнения Мюллера[69]69
Комплекс физических упражнений Мюллера «5 минут в день» был создан и приобрел популярность в начале ХХ века и вобрал в себя достижения Востока и Запада в области естественного оздоровления тела и духа.
[Закрыть].
Дэнис снова вышел на солнце. Бронзовое зеркало бассейна простиралось перед ним, отражая синеву неба и разные оттенки летней зелени. Глядя на него, он вспомнил обнаженные руки Анны, ее гладкий и блестящий, облегающий, словно кожа тюленя, купальный костюм, мелькание коленей и ступней в воде.
Ох уж эти обрывки чужих мыслей и изречений! Настанет ли день, когда он сможет назвать свой ум истинно своим? Есть ли у него в голове что-нибудь подлинно свое или только то, что вложено в нее образованием?
Он медленно пошел вдоль кромки воды. В нише, окаймленной тисами, прислонившись спиной к пьедесталу безобидно-шутливой копии Венеры Медичи, выполненной неким безымянным каменотесом сейченто, сидела Мэри, погруженная в раздумья.
– Привет! – произнес он, поскольку проходил слишком близко и вынужден был что-то сказать.
Мэри подняла голову и меланхолично-равнодушно ответила:
– Привет!
Атмосфера в этом алькове, окруженном темными тисами, показалась Дэнису приятно элегической. Он присел рядом с Мэри под сенью целомудренной богини. Последовало долгое молчание.
В то утро за завтраком Мэри нашла у себя на тарелке почтовую открытку с изображением Большого парка в Гобли. Величественная громада георгианского здания с фасадом на шестнадцать окон; цветники перед домом, просторные идеально подстриженные лужайки, уходящие за края открытки. Еще лет десять в нынешних стесненных обстоятельствах – и Гобли со всеми своими пэрами превратится в покинутую умирающую усадьбу. А через пятьдесят лет никто в округе и не вспомнит об этом старинном архитектурном памятнике. Он исчезнет так же, как исчез стоявший до него на этом месте монастырь. Впрочем, в тот момент голова Мэри была занята совсем другими размышлениями.
На обратной стороне открытки, под адресом, решительным крупным почерком Айвора было написано единственное четверостишие:
Привет, невеста ночи, прощай, невеста утра!
Как перья серафимов, слетая с вышины,
В моем мерцают сердце, нежнее перламутра,
Воспоминанья счастья, и солнца, и луны.
И далее – еще три строки: «Не окажете ли Вы мне любезность попросить кого-нибудь из прислуги переправить мне упаковку безопасных лезвий, которую я забыл в ящике тумбочки у себя в спальне? Благодарю заранее. Айвор».
Сидя под Венерой в ее извечно целомудренной позе, Мэри размышляла о жизни и любви. Отказ от подавления инстинктов вместо ожидаемого душевного покоя принес ей лишь тревогу и новое, неведомое прежде страдание. Айвор, Айвор… Теперь она не могла жить без него. При этом, как следовало из четверостишия на открытке, сам Айвор прекрасно без нее обходился. Он в Гобли, с Зенобией. Мэри знала Зенобию. Ей припомнился заключительный куплет песенки, которую пел Айвор той ночью в саду.
Отдаст бедняжка все на свете –
Овец, и кошек, и собак
За поцелуи, что Лизетте
Негодник дарит просто так.
При этом воспоминании глаза Мэри заволокли слезы; никогда в жизни она еще не была так несчастна.
Первым нарушил молчание Дэнис.
– Индивид, – начал он тихим печально-философским тоном, – не является самодостаточным универсумом. Время от времени он вступает в контакт с другими индивидами и вынужден принимать во внимание существование рядом с собой иных универсумов.
Это в высшей степени абстрактное обобщение должно было послужить вступлением к доверительному признанию личного свойства, своего рода гамбитом ради того, чтобы подвести разговор к карикатурам Дженни.
– Это правда, – сказала Мэри и, в свою очередь прибегая к обобщению, добавила: – Когда один индивид вступает в интимные отношения с другим, она – или он, разумеется, в зависимости от обстоятельств – почти неизбежно либо сам испытывает страдание, либо становится источником страдания для другого.
– Человек склонен, – заговорил Дэнис, – настолько погружаться в созерцание собственной индивидуальности, что забывает простой факт: объектом созерцания он является не только для себя, но и для других.
Мэри не слушала его, продолжая развивать собственную мысль.
– Эта проблема особенно остро проявляется в сексуальных отношениях. В естественном стремлении к интимному контакту человек неминуемо либо навлекает на себя, либо причиняет другому страдание. С другой стороны, если избегать подобных контактов, рискуешь испытать не менее глубокое страдание из-за подавления своих природных инстинктов. Дилемма, как видите.
– Размышляя о собственном опыте, – Дэнис делал более решительный шаг в интересующем его направлении, – я поражаюсь тому, насколько мало я осведомлен об образе мыслей других людей в целом и – особенно – об их отношении ко мне. Наше сознание – книга за семью печатями, лишь изредка открывающая свои страницы внешнему миру. – Он сделал жест, невольно напомнивший о резинке, стянутой им с обложки блокнота.
– Ужасная проблема, – задумчиво произнесла Мэри. – Нужно пережить это на собственном опыте, чтобы понять, насколько она ужасна.
– Совершенно верно, – кивнул Дэнис. – Без личного опыта тут не обойтись. – Он наклонился к ней поближе и чуть понизил голос. – Например, как раз сегодня утром… – начал он, но его откровения были прерваны. От дома приплыл мощный звук гонга, смягченный расстоянием до приятного гула. Настало время ланча. Мэри автоматически встала, и Дэнис, несколько уязвленный тем, что она так откровенно продемонстрировала нетерпеливое желание поскорее сесть за стол – в отличие от весьма слабого интереса к его душевным переживаниям, – последовал за ней. По дороге до дома они не произнесли ни слова.
Глава 25
– Надеюсь, вы помните, – сказал во время обеда Генри Уимбуш, – что в следующий понедельник у нас праздник на берегу, и мы надеемся, что все вы поработаете на ярмарке.
– Господи! – воскликнула Анна. – Ярмарка! Я совершенно о ней забыла. Какой кошмар! Дядя Генри, а нельзя ли ее отменить?
Мистер Уимбуш вздохнул и покачал головой.
– Увы, боюсь, что нет. Я бы сам с удовольствием уже давно отменил ее, но таково непреложное требование благотворительности.
– Не благотворительность нам нужна, – вызывающе пробормотала Анна, – а справедливость.
– Кроме того, – продолжал мистер Уимбуш, – ярмарка стала традицией. Мы устраиваем ее, должно быть, уже… дайте-ка подумать – двадцать два года. В начале это было весьма скромное мероприятие. А теперь… – Он развел руками и замолчал.
То, что мистер Уимбуш продолжал проводить ярмарку, свидетельствовало о его высоком чувстве общественного долга. Начинавшаяся как что-то вроде обыкновенного церковного базара, ежегодная ярмарка в Кроме переросла в шумное гулянье с каруселями, метанием кокосовых орехов и балаганными представлениями – то есть в настоящее празднество, устраиваемое на широкую ногу, эдакую ярмарку святого Варфоломея[71]71
Старинный рыночный праздник, посвященный святому Варфоломею. По традиции ярмарка святого Варфоломея проводится в Лондоне на рынке Смитфилд. В викторианскую эпоху из-за разгульного характера развлечений праздник был запрещен.
[Закрыть] местного значения. Крестьяне окрестных деревень и даже горожане из центра графства в этот день толпами стекались в парк, чтобы развлечься. От этого местная больница получала недурной доход, и только это удерживало мистера Уимбуша, для которого ярмарка регулярно становилась источником никогда не убывающих мучений, от того, чтобы положить конец ежегодным нашествиям, осквернявшим его парк и сад.
– Я уже отдал все необходимые распоряжения, – признал Генри Уимбуш. – Несколько самых больших павильонов будут установлены завтра. Качели и карусель привезут в воскресенье.
– Значит, спасенья нет, – заключила Анна, обращаясь к сотрапезникам. – Всем придется исполнять какие-то обязанности. В порядке особой любезности вам предоставляется право самим выбрать вид своего рабства. Я, как обычно, буду трудиться в чайном павильоне; тетушка Присцилла…
– Дорогая моя, – перебила ее миссис Уимбуш, – у меня есть более важные заботы, чем ярмарка. Но можешь не сомневаться, что в понедельник я сделаю все от меня зависящее, чтобы воодушевить деревенскую публику.
– Превосходно, – сказала Анна. – Тетушка Присцилла будет воодушевлять деревенскую публику. А что будете делать вы, Мэри?
– Я ничего не буду делать, только стоять и наблюдать за тем, как едят другие.
– Тогда, может быть, присмотрите за детскими спортивными соревнованиями?
– Ладно, – согласилась Мэри. – Присмотрю за детскими соревнованиями.
– А мистер Скоуган?
Мистер Скоуган, немного поразмыслив, решился:
– Позвольте мне заняться предсказаниями. Мне кажется, что у меня это неплохо выйдет.
– Но не можете же вы исполнять роль предсказателя в этом костюме!
– Вы полагаете? – Мистер Скоуган оглядел себя.
– Вам придется надеть маскарадный наряд. Вы все еще настаиваете?
– Я готов вытерпеть любые унижения.
– Отлично! – сказала Анна и повернулась к Гомбо: – А вы будете рисовать блиц-портреты. «Ваш портрет за пять минут! Всего за один шиллинг!»
– Жаль, что я не Айвор, – со смешком ответил Гомбо, – а то мог бы накидывать шестипенсовик за изображение ауры натурщика.
Мэри вспыхнула.
– Не стоит относиться с подобным легкомыслием к серьезным вещам, – сердито сказала она. – Впрочем, независимо от ваших личных взглядов, исследование сверхъестественного восприятия безусловно остается серьезной наукой.
– Ну, а чем займется Дэнис?
Дэнис сделал умоляющий жест.
– О, у меня нет никаких талантов, – проговорил он. – Я буду просто одним из тех, кто слоняется туда-сюда со значком в петлице, подсказывает дорогу к чайному павильону и просит не топтать траву.
– Нет-нет, – возразила Анна. – Так не пойдет. Вы должны делать что-нибудь более существенное.
– Но что? Все полезные обязанности уже распределены, а что я умею, кроме как лепетать слова?
– Значит, будете «лепетать», – заключила Анна. – Вы должны написать поэму в ознаменование – «Ода празднику на берегу». Мы распечатаем ее на станке дядюшки Генри и будем продавать по два пенса за штуку.
– По шесть, – запротестовал Дэнис. – Она будет стоить шести пенсов.
Анна покачала головой и твердо повторила:
– По два. Больше двух пенсов никто не заплатит.
– А теперь Дженни, – сказал мистер Уимбуш и, повысив голос, обратился непосредственно к девушке: – Дженни, а что будете делать вы?
Дэнис хотел было предложить, чтобы она рисовала карикатуры – по шесть пенсов за каждый свой художественный смертный приговор, но решил, что благоразумнее притвориться, будто он ничего не знает о ее таланте. В памяти снова всплыл красный блокнот. «Неужели я действительно выгляжу так, как она меня изобразила?» – подумал он.
– Что буду делать я? – эхом отозвалась на вопрос мистера Уимбуша Дженни и повторила: – Что буду делать я? – Она на минуту нахмурилась, размышляя, потом ее лицо озарилось улыбкой. – В детстве, – произнесла она, – я училась играть на барабанах.
– На барабанах?
Дженни кивнула и в доказательство своего утверждения взмахнула над тарелкой вилкой и ножом, словно барабанными палочками.
– Если потребуется сыграть на барабане… – начала она, но Анна перебила ее:
– Ну конечно потребуется. Назначаем вас барабанщицей. Вот вся компания и при деле, – добавила она.
– При замечательном деле, – подхватил Гомбо. – С нетерпением жду праздника на берегу. Он должен получиться веселым.
– Разумеется, должен. – Мистер Скоуган подчеркнул последнее слово. – Но можете быть уверены, что не получится. Никакой праздник, никакие каникулы никогда не приносят ничего, кроме разочарования.
– Ну, полно вам, – возразил Гомбо. – Мои нынешние каникулы в Кроме отнюдь не разочаровывают.
– Серьезно? – Анна взглянула на него с выражением безмятежной невинности на лице.
– Серьезно, – подтвердил Гомбо.
– Рада слышать.
– Таков естественный порядок вещей, – заговорил между тем мистер Скоуган. – Праздник, которого ждешь, не может не принести разочарования. Задумайтесь на мгновение. Что такое праздник? В идеале, если иметь в виду Платонов «философский праздник», это, конечно, полная и абсолютная перемена. Вы согласны с моим определением? – Мистер Скоуган обвел взглядом всех присутствующих; его остренький носик подергивался каждый раз при прохождении очередного «деления компаса». Поскольку признаков несогласия замечено не было, он продолжил: – Итак, полная и абсолютная перемена. Но не является ли полная и абсолютная перемена тем, чего нам никогда не дано достичь – никогда, таков естественный порядок вещей. – Мистер Скоуган еще раз пробежался взглядом по лицам присутствующих. – Безусловно, является. Мы как таковые, как особи homo sapiens, как члены общества никоим образом не можем претерпеть абсолютную перемену. Мы связаны по рукам и ногам суровыми ограничениями: человеческими возможностями, понятиями, которые, пользуясь нашей пагубной внушаемостью, навязывает нам общество, а также собственной индивидуальностью. Таким образом, о совершенном празднике для нас не может быть и речи. Есть среди нас такие, кто мужественно борется за свой праздник, но никто никогда не преуспеет в этом, никому не дано, если мне позволено будет выразиться метафорически, выбраться дальше Саутенда.
– Вы нагоняете тоску, – заметила Анна.
– И не скрываю этого, – заявил мистер Скоуган и, растопырив пальцы на правой руке, вновь принялся рассуждать: – Возьмем, к примеру, меня. Какой у меня может быть праздник? Наделяя меня страстями и способностями, природа безбожно поскупилась. Диапазон потенциальных возможностей человека всегда прискорбно ограничен; в моем случае он ограничен вдвойне. Из десяти октав, составляющих звучание человеческого инструмента, я владею от силы двумя. При определенном уровне интеллекта я лишен эстетического чутья; обладая математическими способностями, я прискорбно обделен религиозными чувствами; склонный от природы к сладострастию, я не имею амбиций и необходимого чувства ненасытности. Образование еще больше сузило мои возможности. Выросший в обществе, я насквозь пропитан его законами; я не то что боюсь позволить себе отдохнуть от них, для меня была бы мучительной даже попытка сделать это. Словом, меня ограничивают совесть и страх тюрьмы. Да, я убедился в этом на опыте. Как часто я пытался устроить себе праздник, отрешиться от себя самого, от собственной скучной натуры, от своего невыносимого интеллектуального окружения! – Мистер Скоуган вздохнул. – Но всегда тщетно, – и повторил: – Всегда тщетно. В юности я неустанно стремился – да еще как! – обрести религиозное и эстетическое чувства. Это, говорил я себе, два потрясающе важных и волнующих ощущения, с ними жизнь станет богаче, теплее, ярче и интереснее. Я пытался. Читал труды мистиков. Мне они показались не чем иным, как пустой трескотней, – каковой они и должны представляться любому, кто не испытывает тех эмоций, которыми воодушевлялся автор в процессе их написания. Потому что значение имеет именно чувство. Книга – лишь попытка выразить на письме чувство, которое в принципе невыразимо в терминах интеллекта и логики. Необъяснимое сложное чувство, которое испытываешь, когда что-то сжимается у тебя в животе, мистик претворяет в понятия космологии. Для иных мистиков космология символизирует богатство чувств. Для неверующих она ничего не символизирует и кажется просто чем-то гротескным. Печальный факт! Но я отклонился от темы, – одернул себя мистер Скоуган. – Довольно о религиозном чувстве. Что же касается чувства эстетического, то культивировать его в себе оказалось еще труднее. Я познакомился со всеми положенными произведениями искусства во всех концах Европы. Были времена, когда, осмелюсь предположить, я знал о Таддео из Поджибонси и загадочном друге Таддео больше, чем даже Генри. Счастлив заметить, что сегодня я забыл почти все, что узнал тогда, приложив столько трудолюбия, однако – не сочтите за тщеславие – могу утверждать, что знания мои были выдающимися. Я, разумеется, не претендую на то, чтобы разбираться хоть сколько-нибудь серьезно в африканской скульптуре или итальянской скульптуре конца семнадцатого века, однако обо всем, что считалось модным в искусстве до тысяча девятисотого года, я осведомлен – вернее, был осведомлен – исчерпывающе. Да, я настаиваю – исчерпывающе. Но сделало ли это меня более восприимчивым к искусству в целом? Нет. Стоя перед полотном, о котором мог рассказать всю его подлинную и легендарную историю – дату создания, характер художника, под влиянием каких течений и обстоятельств оно получилось именно таким, какое оно есть, – я не испытывал и толики того необъяснимого волнения, которое – знаю это от тех, кто его испытывает, – и является истинным эстетическим чувством. Я не испытывал ничего, кроме определенного интереса к сюжету картины, или чаще – если сюжет был тривиальным и религиозным – вообще ничего, кроме величайшей душевной скуки. Тем не менее мне понадобилось десять лет хождения по галереям, чтобы наконец честно признаться себе, что они мне попросту неинтересны. С тех пор я оставил все попытки создать себе праздник. Я продолжаю холить свою старую черствую обыденную сущность с покорностью банковского клерка, исполняющего служебные обязанности каждый день с десяти до шести. Праздник! Мне жаль вас, Гомбо, если вы все еще ждете праздника.
Гомбо пожал плечами.
– Возможно, мои запросы не так высоки, как ваши, – сказал он. – Но для меня война стала такой переменой, такой передышкой от всех общепринятых условностей и норм, от повседневных забот и дозволенных эмоций, что мне большего и не требуется.
– Да, – задумчиво согласился мистер Скоуган. – Да, война, безусловно, была своего рода отпуском, переменой, шагом за пределы Саутенда – это был уже Уэстон-сьюпер-Мэр, почти Илфракомб.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?