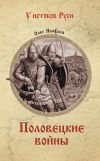Текст книги "Любовь на службе царской. От Суворова до Колчака"

Автор книги: Олег Смыслов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Кто знает, о чем думал великий человек тогда? Но факт остается фактом: таких женщин, как его мать Ольга Николаевна Скобелева, ему встретить так и не довелось. Возможно, в этом и заключалась трагедия его личной жизни…
Ольга Николаевна была женщиной большого петербургского света, но обладая редким умом и честолюбием, она не только довольствовалась этой ролью. Мать «белого генерала» принимала самое живое участие во многих предприятиях своего сына.
«Ольга Николаевна была очень интересной женщиной, с характером властным и настойчивым. Она очень любила своего единственного сына, посещала его даже в походной обстановке и своей широкой благотворительной деятельностью поддерживала его политику в славянском вопросе», – так ее оценит барон Н. Н. Кнорринг.
Когда умер отец Михаила Дмитриевича, его мать всю себя посвятила помощи больным и раненым и на Балканах возглавила отдел общества Красного Креста. Она много сделала для организации снабжения госпиталей Болгарии и Восточной Румелии, основала в Филиппополе приют для сирот, а также организовала еще в нескольких городах приюты и школы.
В июне 1880 года ее жестоко убил капитан Узатис. О том, как это произошло, пишет Валерий Ярхо:
«генеральша Скобелева выехала из Филиппополя около девяти вечера, направляясь в Чирпан, где намеревалась посетить госпиталь и передать врачам деньги, собранные благотворителями. На ночь глядя решили ехать из-за несносной дневной жары – дожидались, когда станет прохладнее. В наемном экипаже отправились, помимо кучера-болгарина, сама генеральша, ее горничная Катя и он, Иванов, ехавший на козлах вместе с кучером. Покинув город, фаэтон генеральши покатил вдоль речки Марицы, однако путешественники не миновали и версты, как услыхали, что кто-то по-русски крикнул вознице: “Стой!” – и тот придержал коней…
Человека, окликнувшего возницу, первой узнала горничная Катя: “Капитан Узатис! Как это мило – вы все-таки решили нас проводить?!”… Ни слова не отвечая, капитан приблизился к экипажу. В руках у него была обнаженная черкесская шашка. Иванов, привстав на козлах, увидел, что сзади к фаэтону подкрались еще двое, – и в этот момент они как раз сдернули с козел кучера. Тот инстинктивно вцепился в Иванова и потащил его за собой, чем спас ему жизнь. Узатис, легко шагнув на ступеньку экипажа, рубанул унтера шашкой, целя в голову, но Иванов уже повалился с козел вместе с кучером, а потому удар пришелся по левой руке, отвалив кусок живой плоти по самый локоть. Упавшего на дорогу Иванова пырнули еще кинжалом, и, лежа на земле, он не видел, что творилось в экипаже. Услыхал только исполненный ужаса крик Кати: “Узатис, что вы делаете?!” – потом снова свист шашки, хруст костей, хрипы и стоны жертв. Напуганные лошади дернули с места, но запутались в брошенной упряжке и вожжах, перевернули экипаж, и из фаэтона на дорогу вывалились два трупа: горничной с разрубленной головой и Скобелевой, из рассеченного горла которой хлестал фонтан крови».
Как выяснилось позже, капитан Алексей Узатис убил мать «белого генерала» из-за денег. Все скопленное он вложил в постройку мельницы, но деньги быстро закончились. А для завершения дела ему было необходимо несколько тысяч рублей.
«Когда в Филиппополь приехала Скобелева, по слухам, привезшая свыше ста тысяч рублей, появилась надежда перехватить денег у нее. Узатис обратился к Ольге Николаевне с просьбой и даже возил ее на мельницу, показывал хозяйство, объясняя, сколько и для чего ему нужно. Но светская дама, мало понимавшая в этих делах, отнеслась к его рассказу легкомысленно, посоветовав бросить эту затею и поступить к ней на службу управляющим румелийских имений, которые она рассчитывала основать на приобретаемых землях. Несмотря на весьма заманчивые условия службы, Узатис воспринял ее слова как отказ и решил взять деньги силой, как привык в партизанской войне».
Убеждая своих сообщников, Узатис уверял: «Если убить ее, на меня никто не подумает! Она любит меня как сына. Никто не заподозрит!»
Смерть матери чрезвычайно потрясла Скобелева, который любил ее весьма горячо. Михаил Дмитриевич плакал, как младенец, и не выходил весь день из своей палатки. Ему трудно было понять, как близкий к нему человек мог пойти на такое преступление. Скобелев всегда лично представлял храброго офицера к боевым наградам, а потом долго не мог поверить в то, что георгиевский кавалер запросто стал преступником.
Он собирался жить недолго
В 1882 году генералу от инфантерии Скобелеву было всего-то 39 лет. Его ординарец Петр Дукмасов в своих мемуарах замечает:
«Я внимательно между тем всматривался в лицо дорогого человека. Он заметно изменился за тот короткий срок, в который я его не видел: побледнел, пожелтел, как-то осунулся, выражение глаз стало более серьезно, сосредоточенно. Он как будто делал усилие, чтобы улыбаться, смеяться, тогда как прежде это веселье было совершенно естественно и вполне соответствовало сего сангвинической натуре. Несомненно, что неожиданная смерть матери, хлопоты и труды в тяжелой степной экспедиции и разные мелкие треволнения и неприятности сильно отразились даже на этой крепкой натуре».
В. И. Немирович-Данченко вспоминал о том, как все изумлялись, когда Скобелев спит? «В семь часов он уже был в седле, а в девять вечера садился за работу и, просыпаясь в два-три часа ночи, мы еще видели его за ней».
Врач О. Ф. Гейфельдер в своих записках не однажды упомянул о Скобелеве, как о тяжелом пациенте для своих врачей и что он нередко болел во время кампании:
«Но, с другой стороны, и его смелость и неосторожность не мало тревожили его друзей, и в особенности беспокоили тех, которые считали себя более или менее ответственными за его здоровье и благополучие. Он не знал никакой осторожности, не избегал никакой опасности, напротив того, он искал ее будто нарочно не только перед неприятелем, но и в будничной жизни.
В осенние периоды отдыха в Красноводске Михаил Дмитриевич, как уже сказано, бросил верховую езду и всякое движение, сидел, читал, писал и диктовал. Несколько раз я убеждал его делать какое-либо движение и заручился наконец его обещанием предпринимать после обеда гигиенические прогулки верхом; но каждый раз, когда наступало время исполнить это обещание, то генерал раздумывал и оставался дома».
Известный русский художник-баталист В. Верещагин также оставил свои наблюдения о полководце:
«Всегда толковый, разумный, увлекательный на поле битвы, Скобелев в частной жизни был хотя и симпатичен, но нервен, капризен. При разговоре он редко сидел… Когда же сидел, то непременно вертел что-нибудь в руках».
И еще одно наблюдение:
«Чертовски храбрый на поле битвы, Скобелев был порядочный трус перед высокопоставленными лицами – он как будто съеживался в их присутствии, принимал жалостливый вид. Всегда заново одетый и надушенный перед солдатами под пулями, в главной квартире он ходил каким-то отчаянным: шинель на боку, фуражка на затылке – точно он боялся, чтоб не засмеяли, не поставили ему в вину щегольство одеждою, как ставили в вину храбрость».
Хороший приятель Михаила Дмитриевича, князь Д. Д. Оболенский в июне 1882 года увидел генерала в том момент, когда он одевался после принятия ванной. Его просто поразила дряблость 39-летнего тела… Выходит «белый генерал» был болен и это замечали все те, кто находился с ним в последнее время рядом. Объяснение этому есть весьма простое: человек не берег себя и банально, как бы это ни звучало грубо, износился. Ранения, контузии, походы, бои, сражения, без отпусков и человеческого отдыха. А еще накопленное годами напряжение и дикая усталость, переживания, нервы и т. д. и т. п.
А переживал он за все и за всех. Служивший у Скобелева начальником штаба М. Л. Духонин впоследствии вспоминал, как однажды, явившись к Михаилу Дмитриевичу для доклада, застал его в крайне тяжелом расположении духа:
«Умирать пора, – рассуждал Скобелев. – Один человек не может сделать более того, что ему под силу… Я дошел до убеждения, что все на свете ложь, ложь и ложь. Все это – слава, и весь этот блеск – ложь. Разве в этом истинное счастье? Сколько убитых, раненых, страдальцев, разоренных.
– Будем ли мы с вами, отвечать Богу за массу людей, которых мы погубили в боях? За что же мы, наконец, живем и наслаждаемся славой, добытой кровью братьев, сложивших свои головы?
– Они думают, что нет ничего лучше, как вести за собой войска под огонь, на смерть. Нет, если бы они увидели меня в бессонные ночи. Если б могли заглянуть, что творится у меня в душе. Иной раз самому смерти хочется, – так жутко, страшно, так больно за эти осмысленные жертвы».
В январе 1882 года, находясь в своем имении, Скобелев как-то позвал ординарца:
«– Пойдемте, Петр Архипович, – обратился ко мне Скобелев, – я вам покажу место, которое я приготовил себе для вечного упокоения…
Ничего не подозревая, я последовал за генералом. Мы вошли в летнее отделение церкви и подошли к левому клиросу. Недалеко от стены в полу устроена была каменная плита.
– Поднимите-ка ее! – обратился генерал к двум сторожам, указывая на плиту.
Последние с трудом приподняли тяжелый камень…
– Вот и моя могила! – произнес печально Скобелев, заглядывая в темный, холодный склеп. – Скоро придется мне здесь покоиться!
– Ну, положим, далеко еще не скоро! – отвечал я, немало удивленный этими мрачными мыслями генерала, которые, впрочем, он высказывал уже не раз по приезде в Спасское.
– Нет, дорогой Петр Архипович, – ответил генерал, все продолжая упорно смотреть внутрь этого страшного, мрачного жилища, – я чувствую, что это скоро будет; скоро мне придется лежать в этой могиле… Какой-то внутренний голос подсказывает мне это!»
Весной все того же года, прощаясь с доктором Щербаковым, Скобелев снова заговорил о приближении своей смерти:
«– Мне кажется, я буду жить очень недолго и умру в этом же году!»
Художник Верещагим, прекрасно знавший генерала, между прочим, отмечал его какую-то особенную склонность к мистике:
«Суеверие этого милого, симпатичного человека было очень велико. Он верил в счастливые и несчастливые дни, счастливые встречи и предзнаменования. Он ни за что не стал бы сидеть за столом в числе 13 человек, не допустил бы трех свечей на стол…»
Незадолго до смерти подкосила «белого генерала» еще одна беда. Неожиданно для родных Михаил Дмитриевич стал продавать ценные бумаги, золото, недвижимость. Сумма, которую он получил и передал И. И. Маслову, приближалась к миллиону. Баснословные по тем временам деньги.
Как рассказывал князь Д. Д. Оболенский, Скобелев собирался ехать в Болгарию, куда и планировал взять с собой миллион. Он знал, что турки нарушили границы, происходили отдельные стычки, и даже подготовил план обороны этой страны. Михаил Дмитриевич шутил: «за который бы англичане сотни тысяч заплатили». Впервые в своей жизни «белый генерал» никому не давал взаймы. Предпоследнее свидание Оболенского со Скобелевым, состоялось около 23–25 июня в Москве в «Славянском базаре»:
«М.Д. был сильно не в духе: не отвечал даже на вопросы, а если и отвечал, то как-то нехотя, отрывисто, словно через силу. Видно было, что думал он совсем о другом.
– Ну что же будем завтракать?
Он отказался, но прошел за мной в отдельный кабинет, даже выпил бокал шампанского. Потом начал взволнованно ходить взад-вперед. Когда же метрдотель «Славянского базара» Делопре предложил ему какую-то необыкновенную яичницу, он рассердился и сказал, чтобы тот не приставал к нему со своими глупостями.
– Да что с вами наконец? – спросил я. – Сердитесь по каким-то пустякам… Вам, должно быть, нездоровится?
Скобелев ответил не сразу. Потом сказал, продолжая мерить шагами небольшой кабинет, словно лев в клетке:
– Все мои деньги пропали… Весь миллион.
– Как так? – ужаснулся я.
– Да я и сам ничего понять не могу… Представьте себе: Иван Ильич реализовал по моему приказанию все бумаги, продал золото, хлеб и… сошел с ума! Я не знаю теперь, где деньги. Сам он не вменяем, ничего не понимает. Впал в полное сумасшествие. Я не знаю, что теперь делать…
Я был так поражен его словами, что не знал, что же посоветовать. Наконец сказал:
– Так ведь миллион – это такая сумма, что ее нельзя похитить незаметно. Дайте знать по всем банкам, наведите справки.
– Да я все это и делаю. Но ни в одном банке не оказалось моих денег…
В этот день Михаил Дмитриевич много пил, все больше портер пополам с шампанским. Видно, хотел залить свое горе…
На следующий день я опять сидел в ресторане вместе со Скобелевым и его родственником, моим большим приятелем, графом А. П. Барановым. Граф как мог старался отвлечь М.Д. от мрачных мыслей, но напрасно. Видя, что он много пьет, я пытался остановить. М.Д. огрызнулся:
– Оставь, что тебе за дело. Мне жить осталось, я это знаю, каких-нибудь два-три года. Я и хочу прожить их всласть, как мне хочется».
«Могила генерала»
Известный русский журналист и писатель Владимир Алексеевич Гиляровский о смерти Скобелева узнал на охоте. В Москву он приехал вечером и сразу же занялся журналистским расследованием. Свои выводы он поместит в книге «Мои скитания»:
«Говорили много и, конечно, шепотом, что он отравлен немцами, что будто в ресторане – не помню в каком – ему послала отравленный бокал с шампанским какая-то компания иностранцев, предложившая тост за его здоровье… Наконец, уж совсем шепотом, с оглядкой, мне передавал один либерал, что его отравило правительство, которое боялось, что во время коронации, которая будет через год, вместо Александра III обязательно объявят царем и коронуют Михаила II, Скобелева, что пропаганда ведется тайно и что войска, боготворящие Скобелева, совершат этот переворот в самый день коронации, что все уже готово. Этот вариант я слыхал и потом.
А на самом деле вышло гораздо проще.
Умер он не в своем отделении гостиницы Дюссо, где останавливался, приезжая в Москву, как писали все газеты, а в номерах “Англия”. На углу Петровки и Столешникова переулка существовала гостиница “Англия” с номерами на улицу и во двор. Двое ворот вели во двор, одни из Столешникова переулка, а другие с Петровки, рядом с извозчичьим трактиром. Во дворе были флигеля с номерами. Один из них, двухэтажный, сплошь был населен содержанками и девицами легкого поведения, шикарно одевавшимися. Это были главным образом иностранки и немки из Риги…
Большой номер, шикарно обставленный в нижнем этаже этого флигеля, занимала блондинка Ванда, огромная, прекрасно сложенная немка, которую знала вся кутящая Москва.
И там на дворе от очевидцев я знал, что рано утром 25 июня к дворнику прибежала испуганная Ванда и сказала, что у нее в номере скоропостижно умер офицер. Одним из первых вбежал в номер парикмахер И. А. Андреев, здание двери квартиры которого как раз против дверей флигеля. На стуле, перед столом, уставленным винами и фруктами, полулежал без признаков жизни Скобелев. Его сразу узнал Андреев. Ванда молчала, сперва не хотела его называть.
В это время явился пристав Замойский, сразу всех выгнал и приказал жильцам:
– Сидеть в своем номере и носа в коридор не показывать!
Полиция разогнала народ со двора, явилась карета с завешенными стеклами, и в один момент тело Скобелева было увезено к Дюссо, а в 12 часов дня в комнатах, украшенных цветами и пальмами, высшие московские власти уже присутствовали на панихиде».
В полдень 24 июня генерал Скобелев задумчиво сидел за столиком в «Эрмитаже». Затем он навестил известного славянофила И. С. Аксакова, которому принес целую связку бумаг, сказав при этом: «В последнее время я стал подозрительным». Расстались они в 11 часов вечера. «Белый генерал» тогда произнес страшные слова: «Я всюду вижу грозу».
Затем он отправился в ресторацию «Англия», где все дальнейшее мероприятие организовал его адъютант. За два часа он приехал предупредить Михаила Дмитриевича: «Все готово».
Но вернемся к запискам Гиляровского:
«…28 июня мы небольшой компанией ужинали у Лентовского в его большом садовом кабинете…
Ужин великолепный, сам Буданов по обыкновению хлопотал, вина прекрасные. Молча пили и закусывали, перебрасываясь словами, а потом, конечно, разговор пошел о Скобелеве. Сплетни так и сплетались. Молчали только двое – я и Лентовский.
По-видимому, эти разговоры ему надоели. Он звякнул кулачищами по столу и рявкнул:
– Довольно сплетен. Все это вранье. Никто Скобелева не отравлял. Был пьян и кончил разрывом сердца. Просто перегнал. Это может быть и со мной, и с вами. Об отраве речи нет, сердце настолько изношено, что удивительно, как он еще жил.
И скомандовал:
– Встать! Почтим память покойного стаканом шампанского. Он любил выпить!
Встали и почтили.
– Еще 24-го Михаил Дмитриевич был у меня в «Эрмитаже» в своем белом кителе. С ним были его адъютант и эта Ванда. На рассвете они вдвоем уехали к ней… Не будет она травить человека в своей квартире. Вот и все… Разговоры прекратить!
Все замолчали – лишь пьяный Любский что-то бормотал во сне на турецком диване. Лентовский закончил:
– А эту стерву Ванду приказал не пускать в сад…»
К слову сказать, отец Михаила Дмитриевича скоропостижно скончался в 1879 году в возрасте 59 лет от органического порока сердца.
О том, что происходило в дни похорон Скобелева, весьма красочно написал великий русский писатель А. И. Куприн:
«Как вся Москва провожала его тело! Вся Москва! Этого невозможно описать. Вся Москва с утра на ногах. В домах остались лишь трехлетние дети и ненужные старики. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали: офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва!»
Впоследствии подозрение о причастности Ванды к смерти Скобелева полиция отвергла, но за ней прочно укрепилось прозвище «могила Скобелева».
Почтовый роман лейтенанта Шмидта
Адмиральский племянник и сынок
5(17) февраля 1867 года в Одессе, в семье потомственного дворянина и морского офицера Петра Петровича Шмидта, родился долгожданный ребенок – сын. До этого у него было пятеро детей – и все девочки. Причем к моменту рождения Петра, а именно так нарекли наследника, трое сестер скончались в младенческом возрасте.
Отец семейства Петр Петрович Шмидт (1828) свою службу царю и Отечеству начал на Черноморском флоте в чине гардемарина в 1842 году. Мичман (1846), а затем лейтенант (1852) Шмидт до самой осады Севастополя большую часть жизни провел в море на кораблях, корветах, фрегатах, бригах и транспортах. С осени 1854 г. состоял в гарнизоне Малахова кургана. В марте 1855-го был ранен и контужен. Ровно через два года был уволен для службы на коммерческих судах, на которых плавал до осени 1874-го. Затем был зачислен на действительную службу, с назначением во 2-й флотский экипаж. Весной 1876 года Шмидта назначили начальником города и порта Бердянска, а в 1885 году произвели в контр-адмиралы и с почетом уволили в отставку.
Мать – Екатерина Яковлевна Шмидт (в девичестве баронесса фон Вагнер, по линии матери – из князей Сквирских) родилась в 1835 г. В девятнадцатилетнем возрасте приехав в осажденный Севастополь, дочь боевого генерала и участника Отечественной войны 1812 года, стала сестрой милосердия. На Малаховом кургане она спасла от гибели после тяжелого ранения своего будущего мужа. И в 1859 году стала ему верной женой.
Родной дядя маленького Петра был и того всех знаменитее. Владимир Петрович Шмидт (1827) начал свою службу на Черноморском флоте в 1841 году. С 1845-го уже в чине мичмана плавал в Балтийском море. Во время Крымской войны лейтенант Шмидт на парусном фрегате «Флора» участвовал в сражении с 3 турецкими пароходами. Позже командуя кораблем «Ростислав», бомбардировал с рейда осадные работы союзников. В дальнейшем: командир морского батальона, помощник командира бастиона, командир бастиона, командир батареи, командир редута. Был дважды контужен и дважды ранен. В 1862-м капитан-лейтенант Шмидт – командир Императорской яхты «Тигр», в 1872-м капитан 1-го ранга и флигель-адъютант Шмидт – капитан фрегата «Севастополь». В русско-турецкую войну командовал отрядом морских команд. В 1877 г. за отличие при переправе через Дунай был произведен в контр адмиралы. В 1880-м – младший флагман Балтийского флота. Пользовался огромным расположением и уважением самого императора.
Неудивительно, что в такой семье у Петра не было никакого другого выбора, как только переступить порог Петербургского морского училища. Произошло это событие в 1880 году, когда мальчику еще не было и 13 лет…
Однако сделаем небольшое отступление.
Петя был весьма болезненным и ранимым мальчиком. В декабре 1877 года умирает его мать, которую всю ее недолгую жизнь тянуло к «революционно-просветительской работе», что несомненно передалось и сыну.
Сестра Петра, Анна Петровна Избаш (Шмидт) вспоминала, «как Петя рыдал все три дня ее похорон, рыдал безутешно, не успокаиваясь ни на одну минуту. После смерти матери любовь и ласку ее старалась заменить нам сестра Мария. Эта 16-летняя девочка создала особенную, исполненную грусти и доброты обстановку нашего сиротства. Эта обстановка не могла не отразиться на впечатлительном мальчике».
И если эта семейная трагедия для Пети Шмидта стала первым ударом, то второй случился в январе 1880-го, когда мальчик внезапно лишился тихого семейного уюта и женской ласки, оказавшись один на один с суровой действительностью флотской службы в подготовительном классе морского училища.
К слову сказать, в Морское училище (раньше корпус) принимали, прежде всего, детей флотских офицеров и дворян, а потому оно было одним из самых аристократических учебных заведений. В 1872 году был открыт подготовительный класс, что позволило снизить возраст поступающих до 12 лет. На морском курсе изучали Закон Божий, русский и английский языки, сферическую тригонометрию, астрономию, фортификацию, морскую съемку, морскую артиллерию, военно-морскую историю, тактику, законоведение и морскую практику. Прием в училище осуществлялся по конкурсному экзамену, но при прочих равных условиях предпочтение отдавалось по степени близости к флоту. Например, из поступивших в 1864–1880 гг. было 676 детей личных и потомственных дворян, 325 обер-офицерских детей, 26 детей священников и 38 – потомственных почетных граждан. Прием колебался от 36 до 89 человек, а выпуск – от 38 до 78. Конкурс составлял тогда 1: 2 или 1: 3.
Как отмечает В. Ярхо, «Молодой человек отличался большими способностями в учебе, отлично пел, музицировал и рисовал. Но наряду с этими прекрасными качествами все отмечали его повышенную нервозность и возбудимость. Корпусное и училищное начальство на странности кадета, а потом гардемарина Шмидта, закрывало глаза, полагая, что со временем все образуется само собой: суровая практика корабельной службы вытравливала из флотских “фендриков” и более опасные наклонности».
Другой автор, В. Шигин, лишь уточняет в своем очерке: «Надо ли говорит, что карьера Петру Шмидту-младшему была уже обеспечена. Естественно, он легко поступает в Морской корпус. Что касается учебы Шмидта в морском корпусе, то в фондах Центрального военно-морского музея имеются воспоминания его однокашников-офицеров, написанные в 20-е годы. Что пишут о Шмидте его былые сотоварищи? А пишут они вещи весьма нелицеприятные. Во-первых, то, что у Шмидта почти не было друзей. Во-вторых, что он подозревался в воровстве мелких денег из висящих в гардеробе шинелей, что, в-третьих, у него периодически происходили психические приступы и он не был отчислен из корпуса исключительно благодаря связям отца и дяди и что, наконец, сокурсники уже тогда Шмидта именовали “психом”».
Все эти проблемы мальчика усугубились с женитьбой отца в 1882 году. Вот как об этом рассказывала его сестра А. Л. Избаш (Шмидт): «Отец был женат второй раз и около него создавалась новая, враждебная брату семья. Я не могла не замечать в брате сложной душевной работы, которая в нем происходит». А в следующем году в новой «враждебной» семье родились два близнеца – Леонид Шмидт и Владимир Шмидт. Пройдет время, и Петя не сможет найти свое место в новой и чуждой ему семье. Он уйдет из дома к рабочим, и весь свой отпуск проведет на заводе Дэвида Гриевза в г. Бердянске в обществе простых литейщиков. Эдакое народничество, характерное русское явление, о котором в своем известном труде «Истоки и смысл русского коммунизма» Н. А. Бердяев писал:
«Народничество есть прежде всего вера в русский народ, под народом же нужно понимать трудящийся простой народ, главным образом крестьянство. Народ не есть нация. Русские народники всех оттенков верили, что в народе хранится тайна истинной жизни, скрытая от господствующих культурных классов. В основе народничества лежало чувство оторванности интеллигенции от народа. Интеллигенты-народники не чувствовали себя органической частью народа, народ находился вне их. Интеллигенция не функция народной жизни, она оторвана от народной жизни и чувствует свою вину перед народом. Чувство вины перед народом играло огромную роль в психологии народничества. Интеллигенция всегда в долгу перед народом и она должна уплатить свой долг…
На вершинах своего творческого пути русский гений остро чувствовал свое одиночество, оторванность от почвы, свою вину и бросался вниз, хотел приникнуть к земле и к народу».
Кто знает, может быть, Петя Шмидт считал себя гением? По крайней мере в одном из его писем, адресованных А. Тилло, можно прочесть такие слова:
«…Я кляну своих товарищей, порою просто ненавижу их. Я кляну судьбу, что она бросила меня в среду, где я не могу устроить свою жизнь, как хочу, грубею. Наконец, я боюсь за самого себя. Мне кажется, что такое общество слишком быстро ведет меня по пути разочарования. На других, может быть, это не действовало бы так сильно, но я до болезни впечатлителен…»
Рядом за одной партой с Петей все годы обучения просидел сын генерал-майора Миша Ставраки. Их училищное знакомство, а потом и дружба оказались в некотором роде судьбоносными.
«В Морском училище, – пишет И. Стрельникова, – царили жестокие нравы, бывало, что старшие курсанты затачивали на точильном камне ногти младшим, что, между прочим, очень больно, а то заставляли на ночь чесать себе пятки. К Пете Шмидту все это не относилось. Все знали, что в увольнительную он ходит на Английскую набережную, в дом дяди-адмирала. И даже его лучшего друга – Михаила Ставраки – трогать опасались. Кстати, в те времена считалось, что именно Ставраки – оригинал и отчаянная башка, а не Шмидт. Миша сигал с Николаевского моста (того самого, что позже назовут именем Шмидта) в Неву, вплавь добирался до училища и весело отправлялся на гауптвахту…
Первым к Домникии Гавриловне начал похаживать Миша Ставраки – возмужавший, рослый, курчавый, с толстыми губами, толстым задом, очень шумный и самоуверенный. Петя – тонкий, нервный, с лучистыми глазами и грустной улыбкой – тоже как-то навестил Домникию Гавриловну».
Домникия Гавриловна Павлова вместо паспорта имела «желтый билет», потому как зарабатывала «на хлеб» проституцией. Домникия – «мадемуазель легкого поведения» с Выборгской стороны, ровесница Пети. Она происходила из народной глубинки и, соответственно, была малограмотной. Общение с ней будущий морской офицер Шмидт также считал «хождением в народ», что было тогда модным среди русского либерального студенчества. Спасти «падшую» Петя посчитал одной из своих главных задач. А пока наступило время долгожданного выпуска.
Не без пафоса картину прощания двух друзей-однокашников воссоздал в своей повести Константин Паустовский:
«Когда Ставраки и Шмидт прощались после окончания корпуса, Шмидт сказал Ставраки:
– У тебя, Миша, нет в душе никакого стержня.
– Нет, есть! – сердито ответил Ставраки. – Что у тебя за манера – залезать в чужую душу!
– Если и есть стержень, – добавил Шмидт и внимательно посмотрел на Ставраки, – то не железный, а резиновый. Смотри не сковырнись в какую-нибудь гадость. Пока не поздно.
– Мое дело! – ответил вызывающе Ставраки. – Во всяком случае, я не женюсь на проститутке, чтобы спасти ее и лить вместе с ней слезы над ее печальным прошлым, как собираешься сделать ты!
– Довольно! – гневно сказал Шмидт. – У каждого своя дорога. Я могу только молить бога, чтобы наши дороги больше никогда не встречались.
Так они расстались, чтобы встретиться на острове Березани в день расстрела».
Петр Петрович Шмидт-младший окончил Морское училище (29 сентября 1886 г.) 53-м по списку и приказом по Морскому ведомству за № 307 был произведен по экзамену в мичманы. Назначение он получил на Балтийский флот, где был зачислен в 8-й флотский экипаж.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!