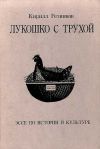Текст книги "16 эссе об истории искусства"
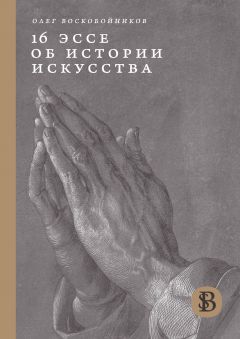
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Неслучайно французские знатоки в свое время стали называть контрапост словом hanchement, описывавшим изящную чисто женскую походку. И это касается не только греческих «Афродит», но и танцующих небожительниц, украшающих индийские храмы I тысячелетия и времен династии Чандела (Кхаджурахо), и апсар Ангкор-Вата. Пракситель, впервые отливший в бронзе обнаженную женскую фигуру, ужаснулся бы, увидев их чувственное, открыто эротическое неистовство, для грека – попросту варварство. Греческие богини стыдливо прикрывали наготу и уж точно не пускались в пляс, позволявшийся лишь менадам во время дионисийских мистерий. Но эллинизм послужил в передаче этого наследства необходимым связующим звеном: в противовес жестам «стыдливости» в пластике возникли жесты, открывающие то, что нужно скрывать, anasyrma (греч. приблизительно «задранная одежда»). Эротическая амбивалентность в особенности проявилась в образе Гермафродита, бесполого и бесплодного ребенка Гермеса и Афродиты, специально демонстрировавшего свою половую природу (илл. 65). В нем видели и оберег, и предмет культа плодородия. Схожие религиозные функции выполняли эротические сцены в индуистских храмах.

65. Гермафродит. III век до н. э. Пергам. Сейчас: Стамбул. Археологический музей
И все же эллинистическая Греция – не Индия: обилие плоти в индийских горельефах, опять же немыслимое для классического глаза, тропическая избыточность ритма движений соотносятся со ста́тью праксителевской «Афродиты Книдской» и даже с танцем менады на вазе (330–350 гг. до н. э.) примерно так же, как джунгли – со скромной растительностью Аттики.
Характерно, что женская нагота в высоком искусстве прижилась вне пределов средиземноморской цивилизации в те века, когда позднеантичные мастера фактически перестали ее разрабатывать, задолго до воцарения христианской системы ценностей. Это не мешало христианским столицам выставлять древние статуи напоказ. Возможно, одну из версий «Афродиты» в начале 1200-х годов видел в Константинополе крестоносец Робер де Клари и от восторга раза в два преувеличил ее размер: «В городе было еще и другое чудо. Там были две женские фигуры, отлитые из меди и сделанные так искусно, и натурально, и прекрасно, что и сказать нельзя; притом каждая из двух имела в высоту не менее чем добрых двадцать стоп. Одна из этих фигур указывала рукой на Запад, и на ней были начертаны письмена, которые гласили: “С Запада придут те, которые завоюют Константинополь”; а другая фигура указывала рукой на срамное место, и надпись гласила: “Туда их выкинут”»[193]193
Робер де Клари. Завоевание Константинополя. Гл. XCI / пер. М.А. Заборова. М., 1986. С. 64–65. (Памятники исторической мысли). В переводе Заборова – не «срамное место», а «свалка», в оригинале – vilain lieu. Учитывая иконографию «стыдливой Венеры», моя трактовка представляется более правильной. Не могу согласиться с Жаном Адемаром, что описание де Клари лишь «холодное перечисление» (Adhémar J. Influences antiques dans l’art du Moyen Âge français. P., 1996. P. 119).
[Закрыть]. Другая, тогда же, но в Риме, вызвала искреннее восхищение английского путешественника Магистра Григория: «Этот образ из паросского мрамора высечен столь искусно, что кажется живым творением, а не статуей: кажется, будто она стыдится своей наготы, краснеет лицом, а глядящему вблизи чудится, будто под снежно-белыми губами бежит кровь. Хотя она стояла в двух стадиях (около трехсот семидесяти метров. – О. В.) от моего жилища, я трижды приходил смотреть на нее, словно ее несказанная красота притягивала к себе неведомой магической силой»[194]194
Магистр Григорий. Указ. соч. Гл. XIII. С. 77–78. 11
[Закрыть]. При всей разнице между простоватым французским крестоносцем и довольно просвещенным английским путешественником, оба выражали как собственное восхищение, так и то, что узнали о древностях из местного фольклора. Однако эта чувствительность к диковине у людей XII–XIII веков многое объясняет в отношении к обнаженному женскому телу в искусстве того времени. Ровно через сто лет талантливый скульптор Джованни Пизано умудрился превратить «Венеру Стыдливую», Venus Pudica, в аллегорию Умеренности, поставив ее в основание архиепископской кафедры Пизанского собора. В таком решении была своя логика, подкрепленная схоластикой: Фома Аквинский считал умеренность добродетелью, обладающей «наивысшей красотой»[195]195
«Et per consequens pulchritudo maxime attribuitur temperantiae quae praecipue turpitudinem hominis tollit» (Sanctus Thoma Aquinas. Summa theologiae. IIa—II-ae. Quaestio 141. Art. 2. Ad. 3. URL: https://www.corpusthomisticum.org/sth3141.html (дата обращения: 20.01.2022)). Макс Зайдель указал на эту параллель, но резонно заметил, что не следует объяснять смысл аллегории ссылкой на авторитетный текст того же времени (Seidel M. Padre e figlio. Nicola e Giovanni Pisano: in 2 vol. Venezia, 2012. Vol. 1. P. 57–59). Обнаженный Геракл, изображенный отцом Джованни, Никколо, в соседнем баптистерии, являл собой, естественно, силу как добродетель, но для зрителя XIII века важна была, видимо, и анатомическая точность этого изображения, его телесность, не только узнаваемое значение.
[Закрыть].
Однако вернемся в древность. Степень подчинения конкретной фигуры контрапосту многое говорит о ее смысле. Раннеклассический «Аполлон» с фриза храма Зевса в Олимпии прекрасен именно как бог, он несгибаем, он готов шагнуть вперед, но не человеческим, а божественным шагом. Властным жестом руки, резким, на девяносто градусов, поворотом головы, невозмутимым выражением лица он осуждает дикость кентавров и наводит порядок во вселенной. Бронзовые «Аполлоны» следующих столетий, известные даже по посредственным мраморным копиям, намного «человечнее». Своей «человечности», никогда не опускающейся, однако, до приземленности или банальности, они обязаны экспериментам скульпторов круга Фидия, Парфенону и Аттике в целом. Их наследники продолжали разрабатывать типы, являя бога всегда молодым, иногда почти мальчиком: в том, что Сауроктон, буквально «Убивающий ящерицу», целится не в грозного Пифона, а в беззащитную рептилию, нет насмешки. Эллинистические государи, судя по всему, любили видеть себя обнаженными героями, «амальгамой» Аполлона и Геракла, словно отдыхающими после битвы, но не грешащими против осанки.
Линию эволюции многогранного образа Аполлона можно завершить знаменитым «Аполлоном Бельведерским» IV века до н. э., который от Рафаэля до XIX века считался непререкаемым и непревзойденным образцом прекрасного, Произведением Искусства. В XX столетии бескомпромиссный классицист Кеннет Кларк уже считал возможным раскритиковать в пух и прах его «дряблую кожу» вместе со всем «упадническим» эллинизмом[196]196
Кларк К. Нагота в искусстве… С. 65.
[Закрыть]. Но и он вынужден признать, что бронзовый оригинал должен был, конечно, производить на современников невероятное впечатление: молодой и прекрасный бог, только что выстрелом из лука убивший Пифона, являлся взорам зрителей во всем лучезарном блеске, его изящное, но не атлетическое тело говорило не о божественной силе, а о божественной же красоте, о победе разума над хтонической тьмой, о воцарившейся здесь и сейчас, на глазах у всех, гармонии.
Скульптура обычно создавалась для украшения постройки. Мы должны понимать, что, как и во все времена, функция и статус памятника архитектуры в большой степени диктовали стиль и скульпторам, и художникам. Кроме того, в поисках единства масштабной группы, будь то фронтон или фриз, украшенный фигурными метопами, мастерские зачастую шли на унификацию приемов, использовали трафареты и вообще брались за дело с линейкой и циркулем в руках. Поразительно при этом, что такие ансамбли, как статуи и рельефы Парфенона и Олимпии, свидетельствуют о физиогномическом разнообразии и способности экспериментировать даже в столь ответственных проектах. Мы можем наблюдать, например, как меняется в разных сценах возраст и характер Афины, вечно юной девы, но все же «мужающейся». Мы видим, как, при всей классической сдержанности любых страстей и страданий, по-разному реагируют на бедствие – буйство кентавров – лапифы (илл. 66). Даже если иные фигуры выглядят вблизи словно оледеневшими, следует помнить, что они были раскрашены и выделялись на темном фоне.

66. Фидий и мастерская. Битва лапифов с кентаврами. Метопа Парфенона. 442–438 годы до н. э. Лондон. Британский музей
Перед скульпторами стояла задача не выпустить энергию борцов за пределы рамы, иначе это нарушило бы строгий ритм фриза и, следовательно, гармонию всей постройки. Французский историк искусства Анри Фосийон называл это явление «законом рамы», рассуждал о «пространстве-пределе» и «пространстве-среде»[197]197
Фосийон А. Указ. соч. С. 38–39.
[Закрыть]. Свободно стоящая статуя или небольшая скульптурная группа по определению должна была организовывать пространство вокруг себя и поэтому была самодостаточной. Вся ее энергия сосредоточивалась внутри нее самой. Высокий или низкий рельеф, как и композиция фронтона, состоящая из круглых статуй, всегда вписываются в уже существующий рукотворный ансамбль, вступают с ним в сложные отношения взаимного подчинения: храм без скульптурного убранства неполноценен, но и скульптуры, выстроившиеся для заполнения треугольника фронтона вне этой рамы, по меньшей мере неуместны. Великолепно сработанная морда коня, к которой сегодня можно подойти вплотную в Британском музее, на самом деле выглядывала из узкого угла на большой высоте, попросту замыкая олимпийское зрелище, развернутое на недосягаемой для смертного высоте. Этико-политический смысл этого фриза состоял в том, что в лапифах афиняне видели себя, в кентаврах – персов. Парфенон был памятником героям войны, тяжелой, но победоносной. Следовательно, то, что выглядит «застылым», могло восприниматься как «формула пафоса» (нем. Pathosformel в терминологии Аби Варбурга), наглядная визуализация стойкости бойца.
Учитывая масштабность экспериментирования, неудивительно, что некоторые анатомически сложные композиции выглядят в глазах знатоков вроде Бордмана особенно удачными, иные – менее, а наши учебники зафиксировали эти восходящие еще к антикварам и «дилетантам» XVII–XVIII веков мнения отбором иллюстраций. Такое иерархическое распределение, конечно, не лишено оснований, но важно понимать, что храмовая декорация не была рассчитана на разглядывание с такой же дистанции, как возвышающаяся на постаменте бронзовая или мраморная статуя. При всей важности престижных монументальных проектов для истории больших стилей, в изображении тела более смелые эксперименты проводились в бронзовой статуе и бронзовых же скульптурных группах. По иронии судьбы в бронзе до нас дошли иногда очень хорошие статуи, но все же не признанные современниками шедевры. Зачастую это чудом уцелевшие фрагменты масштабных композиций: знаменитый «Дельфийский возничий» выглядел бы иначе, если бы мы видели его управляющим реальной колесницей, которая, в свою очередь, тоже могла быть частью еще более масштабного – отлитого в бронзе! – комплекса. Все равно греческие бронзовые статуи и фрагменты обладают магнетической силой (Магистр Григорий писал о «магии») и невероятной визуальной убедительностью. Они вызывают восхищение, принципиально отличающееся от впечатления, которое могут оставить многочисленные, иногда качественные, мраморные римские копии. Чаще всего такие статуи и фрагменты позволяют увидеть только греческого мастера средней руки, но и это важно: именно на таких примерах мы осознаем, насколько высоким были и уровень ремесла, и наблюдательность мастеров, и взыскательность публики – заказчиков подобных произведений.
Значение наготы в греческой пластике налицо: она выразила тягу эллинского ума к героическому обобщению реальности. В этом поиске обобщения исключительно красивое тело – женское или мужское – стало символической формой, метонимией гармонического космоса. И эта находка стала гарантией тысячелетней живучести классического идеала, несмотря на все его метаморфозы, от конвейерных римских копий и (в основном) декоративной живописи помпеянских домов до бесхитростного академизма XIX века и рутины художественных училищ. Такие певцы обнаженной женской натуры, как Огюст Ренуар и Аристид Майоль на рубеже XIX–XX веков, в одинаковой мере продолжали дело Джорджоне, Тициана и Рубенса, как и дело Праксителя. Когда тело – у древних греков – превратилось в модель мира, то малейшие изменения его положения (даже просто акцентирование группы мышц, движение плеча или руки) привели к изменению производимого им впечатления и, в свою очередь, к согласованию этого впечатления с общей картиной мира.
Знатоки античной пластики – Микеланджело, Бернини или Рубенс – прекрасно это понимали и умело пользовались такой поэтикой детали, заостряя на ней внимание зрителя без ущерба для целого. Более того, используя изощренные ракурсы и позы, скручивая контрапост в спираль, Микеланджело, неоплатоник и христианин, всю жизнь решал сложнейшую задачу одухотворения плоти. Это и позволило обнаженному телу парадоксальным образом – накануне Контрреформации – явить миру не только эстетические, но и христианские ценности, и не где-нибудь, а в Сикстинской капелле, и в проекте гробницы папы римского Юлия II, и в могилах Медичи. Видимо, и понтифики мечтали победить смерть и воскреснуть прекрасными и здоровыми юношами. Глаз ценителя XVI–XVII веков знал, что «эстетическая кираса» – жилище бессмертной души человека, а не ее тюрьма, а внешне явленная красота заслуживает восхищения только в том случае, если подкреплена красотой внутренней, то есть добродетелями. Так, следуя древним, рассуждали итальянские эстеты[198]198
«Можно сказать, что благое и прекрасное в каком-то смысле суть одно и то же, особенно же в человеческих телах, ибо главнейшей причиной их красоты считаю я красоту души, которая, как сопричастница той истинной божественной красоты, озаряет и делает прекрасным то, чего касается, – особенно же если тело, в котором она обитает, создано не из столь низкого вещества, чтобы она не могла отпечатлеть на нем свои черты» (Кастильоне Б. Придворный / пер. П. Епифанова. М., 2021. С. 368). Ср.: Варки Б. Книга о красоте и грации / пер. И. Крайневой // Эстетика Ренессанса: антология: в 2 т. / сост. В.П. Шестаков. М., 1981. С. 371–375.
[Закрыть].
Однако, чтобы у нас сложилось правильное представление о том, какую роль тело играло в греческом искусстве, следует рассмотреть его еще и в действии, точнее – тела́ во взаимодействии. Для этого нам понадобится памятник повествовательного характера: знаменитый фриз Пергамского алтаря[199]199
См. прекрасное описание в кн.: Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990. С. 253–283.
[Закрыть]. Если варбурговскую Pathosformel можно считать одной из категорий искусствознания и наук о культуре в целом[200]200
У Варбурга этот термин проходит одним из лейтмотивов через все творчество (Хекшер У. Генезис иконологии // Мир образов, образы мира… С. 54).
[Закрыть], то здесь она может объяснить едва ли не всё. Чтобы удостовериться в этом, понаблюдаем за поведением героев.
Греческое слово páthos в первую очередь указывает на претерпевание каких-либо внешних воздействий, претерпевание, которое одновременно испытывают и тело, и душа. Оттого этим существительным, изначально лишенным этического содержания, как и глаголом pathein, можно было охватить гамму ощущений – от укуса комара до тех, что испытала Ниоба, видя гибель всех своих многочисленных детей. Однако уже стоики, а затем первые христианские мыслители увидели в passio не только страдание или пассивное восприятие, но и «иррациональное движение души»[201]201
Августин Блаженный. О Граде Божием. VIII, 17: в 4 т. Т. II. М., 1994. С. 34.
[Закрыть]. Вопрос состоял в том, как именно человек проявлял снаружи то, что творится у него в сердце и на уме, в крови и в мышцах, даже в желудке, в том, что́ из подобных переживаний позволяли выказывать религиозные, гражданские, общественные и личные правила и табу, писаные или неписаные. Форму фиксации этих внешних проявлений при помощи визуального образа или литературного описания я бы предложил называть патогномикой по аналогии с древней физиогномикой, столетиями претендовавшей на выявление характера человека по его внешним признакам[202]202
В конце XVIII века физиогномика, систематизированная швейцарским пастором Иоганном Каспаром Лафатером, обрела огромную популярность среди мыслящей европейской публики. Немецкий физик Георг Кристоф Лихтенберг в 1778 году противопоставил ей патогномику – «познание природных признаков движений души», говоря в современной терминологии, что-то вроде семиотики аффектов.
[Закрыть]. В истории искусства «пафос» совсем не аналог того, что мы в обыденной жизни называем пафосным, французы – pathétique, а англичане – pathetic.
Алтарь в Пергаме, столице могущественного царства в Малой Азии, был создан по заказу Эвмена II (197–159 гг. до н. э.). Царство, занимавшее треть современной Турции, процветало. Рим еще можно было считать союзником, пусть агрессивным и не слишком предсказуемым: экономические выгоды от совместного разгрома соседних Селевкидов при Магнезии (190 г. до н. э.) достались Эвмену. Прекрасная библиотека могла соперничать с александрийским Мусейоном. Но Пергам уже десятилетиями сдерживал натиск галлов, и этот процесс привычно осмыслялся греческим умом как противостояние цивилизации и варварства. Наконец, тень Рима, выражаясь поэтически, уже накрыла все восточное Средиземноморье, и дальновидные политики не могли не понимать, что благополучие эфемерно. Тем не менее, как и в случае с Парфеноном, алтарь, возведенный на акрополе в Пергаме, видимо, в честь Зевса и Афины, служил наглядной демонстрацией триумфа – победы над галатами в 166 году до н. э.[203]203
Andreae B. Skulptur des Hellenismus. München, 2001. S. 132–147.
[Закрыть] Как обычно бывает с большинством античных построек, дата, посвящение, функции и авторство Пергамского алтаря остаются предметом споров и догадок.
Прямоугольный, почти квадратный алтарный комплекс – не храм – стоял на специальной площади, выделяясь среди других построек, и с трехсотметровой высоты доминировал над раскинувшимся террасами городом и окружающей равниной. Фриз четырехметровой высоты опоясывал двадцатипятиметровое U-образное здание и достигал ста двадцати метров в длину. На всем этом протяжении перед взором зрителя представал непрерывный рассказ о битве олимпийских богов с гигантами – «Гигантомахия». Внутреннюю стену святилища украшала меньшая по масштабу, зато размещенная ближе к алтарю история Телефа, сына Геракла, считавшегося предком правившей династии Атталидов. Обычно этот лишь на треть сохранившийся цикл оказывается в тени знаменитой «Гигантомахии». Однако и его значение велико: на шестидесятиметровом «полотне» главный герой появляется постоянно, пятнадцать раз на сохранившихся фрагментах, природный ландшафт соединяет эпизоды, несколько раз перемещая действующих лиц и зрителей из Греции в Азию. Это – выдающееся событие в истории нарратива[204]204
Stewart A. Hellenistic Art. Two Dozen Innovations // The Cambridge Companion to the Hellenistic World / ed. Gl.R. Bugh. Cambridge, 2006. P. 176–177.
[Закрыть]. Генетически к этим первым опытам эпических рассказов восходят и римская настенная живопись, и колонны Траяна и Марка Аврелия в Риме, и даже – из совсем другой эпохи – ковер из Байё, повествующий о нормандском завоевании Англии в 1060-е годы.
Фигуры главного фриза выполнены в высоком рельефе на плотно подогнанных друг к другу мраморных плитах размерами двести двадцать восемь сантиметров в высоту и от семидесяти до ста сантиметров в ширину. «Рассказчики», то есть те, кто разработали эту масштабную композицию, безусловно, были учеными, они читали хранившиеся в библиотеке свитками с образцами классической греческой словесности. На такой энциклопедический подход к программе указывает и то, что имена многочисленных богов и гигантов были высечены на фризе. Заказчики пригласили как местных мастеров, так и выходцев из Аттики и, возможно, с Родоса. Это неслучайно: и сюжет, и присутствие стилистических приемов, отсылавших к Фидию и классике V века, говорили о желании показать легитимность культурной, религиозной и политической преемственности именно Пергама в пику остальным эллинистическим государствам. Правда, римляне не оценили по достоинству ни постройку, ни удивительный фриз: «пленила» их действительно лишь классика. Тем не менее «Лаокоон…», возможно, тоже пергамский и приблизительно того же времени, считался шедевром. Сегодня оба памятника разделяют пальму первенства в истории эллинистической пластики.
Рельеф, высокий ли, низкий ли, – по определению рассказ, лента, череда событий. Но вместе с тем он должен обладать единством всех элементов композиции, воплощающим общую идею. Здесь эта идея – победа добра над злом. И она должна была являться взору зрителя везде, без каких-либо иных рам, кроме массивного карниза, слегка прикрывавшего фигуры от солнца. Метопы служили той же цели, но они как раз расчленяли историю на отдельные эпизоды, картины. Только рельеф давал скульпторам возможность высказаться на языке эпоса, придав мифу общечеловеческую, космическую значимость. Но как передать в стометровой ленте противостояние двух воинств, а не отдельных пар или групп? Было найдено убедительное решение этой задачи: весь фриз делится посередине незримой горизонтальной полосой, естественно, неровной: поверх нее оказываются победители-боги, ниже – сильные и опасные, но все же обреченные на поражение гиганты. Для ясности имена гигантов тоже поместили внизу, а имена богов – вверху.
Эта цепочка дала возможность включить в нее звеньями все конкретные схватки, а высокий рельеф позволил зрительно связать фигуры, отчасти накладывая их друг на друга, но никогда не теряя из виду. Все фигуры, что называется, прочитываются. Следующей важнейшей задачей для скульпторов явно стал поиск разнообразия ракурсов, жестов и выражений лиц. Ясно, что уроки анатомии, пройденные десятком поколений мастеров, здесь дали свои лучшие плоды. Но история тела – это также история его облачения, того, что в искусствознании называется не слишком выразительным словом «драпировка». Обнаженное тело прекрасно, но уже художники V века знали, что зрительно даже напряженные мышцы застыли, что нагота скрадывает эффект движения, хотя и обладает несомненными эстетическими преимуществами. Знали об этом и египтяне. Кроме того, одежда не только скрывает, но и приоткрывает, поэтому работа с одеждой, драпировкой, складками во все времена придавала образу чувственность, загадочность, эротизм. В поисках компромисса тело облачали в тонкие одежды, а греки, стремясь к естественности, стали экспериментировать с изображением складок. Они, как известно, колышутся при движении, особенно на ветру, и это движение воздуха позволило воплотить в твердом материале течение времени, доли секунды до зафиксированного движения и доли секунды после него[205]205
Что-то подобное можно наблюдать и сегодня на фотографиях с сознательно удлиненной экспозицией, когда часть движущейся фигуры, обычно лицо, остается в фокусе, а часть размывается.
[Закрыть]. Если же тонкую льняную накидку как бы намочить, она плотно прилегает к телу, вычерчивая все его нюансы. Это хорошо видно на замечательном «Троне Людовизи», одном из самых лиричных оригинальных произведений греческой классики V века, дающих узнать, как именно греки относились к мраморной поверхности. Обнаженная фигурка флейтистки на боковой стенке задумана в явном контрасте с полуобнаженной новорожденной Афродитой, выходящей из волн морских.
Одежда подчеркивает движение. Мастерски владея этой диалектикой наготы и «облаченности», пергамские скульпторы создали многофигурную композицию, удивительную по богатству физиогномики и патогномики. Сплетения борющихся тел, гнев, ярость, страх, ужас, беспощадность, красота и чудовищность (но не уродство!), сила и отвага, предсмертные судороги, боль от только что полученной раны, но и гордая невозмутимость, твердость духа, даже при укусе чьих-нибудь страшных клыков, – все эти конкретные ощущения, эмоции и характеры нашли здесь четкое, считываемое, невероятно напряженное воплощение. Созерцание этой битвы, конечно, не предполагало в зрителе олимпийского спокойствия.
Визуальный эффект каждой сцены, не говоря уже о целом, настолько силен, что уже в конце XIX века первые историки искусства оценили живописность представленного здесь стиля. Термин этот вполне уместен, потому что скульпторы, работавшие в Пергаме, знали то, чего почти полностью лишены мы: монументальную живопись древних греков. Резонно последовало сопоставление этого художественного выражения духа эллинизма с барокко – в противовес классике, в свою очередь сопоставлявшейся с Ренессансом. Действительно, даже поверхностное, быстрое сравнение любой метопы из Британского музея с любым фрагментом из Берлина подсказывает, что там – «бытие», здесь – «становление», там – покой (даже в смертельной схватке), здесь – буря и натиск, там – власть контура и линии, здесь – живописная прихоть пятна, там – фигура, четко читаемая на фоне, здесь фон фактически отсутствует, все пространство отдано сражению. Зритель, в сущности, оказывается его участником, и это соучастие достигается, среди прочего, углублением рельефа с помощью дрели с длинным сверлом: она позволяла вклиниться глубоко в толщу мрамора, чтобы добиться драматических светотеневых эффектов, пусть с потерей ясности фона. Пергам – такой же шедевр барокко, как «Экстаз святой Терезы».
Мы вольны отнести это явление к тому horror vacui, той боязни пустоты, которая вообще свойственна неклассическим стилям. По сравнению с Парфеноном и Олимпией Пергам безусловно «многословен». Но это многословие никак не назовешь вычурным, что и говорит о собственном – но отличающемся от классического! – инстинкте равновесия. Этот инстинкт, пожалуй, многое объясняет в образе человека в греческом искусстве. Когда 14 января 1506 года на Эсквилинском холме в Риме нашли «Лаокоона», при этом присутствовал Микеланджело. Многое можно было бы отдать за то, чтобы узнать, что он при этом почувствовал и что сказал. Но все его дальнейшее творчество показывает, что в этой скульптурной группе он нашел подтверждение того, что наощупь искал сам: он убедился, что древние умели выразить величие и несгибаемость человеческой души, истинное благородство человека в каждом мускуле тела. Отсюда – столь необычные развороты и очевидная гипертрофированность титанических фигур на потолке Сикстинской капеллы. Много позднее, когда Европа уже научилась отделять греков от римлян, Винкельман и Лессинг показали, что величие «Лаокоона» еще и в том, что самые невероятные физические страдания не позволяют ему кричать, хотя этот «вопль, повергающий в дрожь» был всем тогда известен по «Энеиде»[206]206
Вергилий. Энеида. II, 222 // Его же. Буколики. Георгики. Энеида / пер. С. Ошерова. М., 1979. С. 163.
[Закрыть]. Оба знатока обратили внимание прежде всего на полуоткрытый рот жреца и оба были уверены, что из него мог вылететь лишь стон, но не вопль. Они объяснили этот прием тем, что скульптор сознательно не изобразил крик не потому, что тот явил бы слабость духа, а потому, что он исказил бы красоту лица.
Но есть и еще кое-что, объяснимое как раз при сопоставлении «Лаокоона» с отдельными сценами Пергамского алтаря. Нетрудно заметить, что гиганты, порождения Геи и Океана, хтонические чудовища, вовсе не всегда чудовищны. Более того, иные из них решительно прекрасны (илл. 67). И наоборот, сражающаяся на стороне олимпийцев Геката не просто страшна в бою, но олицетворяет силы, которые никто не назвал бы светлыми. Ей противостоит змееногий, но торсом «богоравный» Клитий. В группе Артемиды и Ота противники фактически уравнены, потому что строго противопоставлены друг другу, смотрят друг на друга в упор, бросая вызов, но и потому еще, что оба молоды и прекрасны. Это «равноправие» отчасти обусловлено тем, что От и Эфиальт – восставшие против Олимпа гиганты:

67. Битва богов с гигантами. Клитий против Гекаты (с факелом), От и Эфиальт (повержен) против Артемиды. Горельеф Пергамского алтаря. 166–156 годы до н. э. Берлин. Пергамский музей
Но кто из них победит? И кто из них прав? Мы знаем, на чьей стороне победа, но в деталях скульптор вовсе не так прямолинеен. Рядом друг с другом, на восточном фризе, сражаются Зевс и Афина, отец и дочь. Афина крепко держит за длинные волосы молодого Алкионея, в грудь ему впилась ее змея – единственный случай, когда это порожденье Земли служит богам. Лик богини не сохранился, но по фигуре венчающей Афину Ники ясно, что это был лик победительницы. Алкионей в предсмертной муке молит о пощаде, протягивает руку в сторону матери (илл. 68).

68. Битва богов с гигантами. Афина и Алкионей, Гея (внизу) и Ника, венчающая Афину. Горельеф Пергамского алтаря. 166–156 годы до н. э. Берлин. Пергамский музей
Гея, изображенная внизу и по грудь, поскольку она – сама Земля, – один из самых трагических персонажей: ее волосы разметались по плечам в знак невыносимой боли и скорби, руки воздеты в бесполезной мольбе. Она сопричастна богам, никто не посягает на нее, но она наказана больше всех. И ее не описуемое никакими средствами горе контрастирует с появлением Ники, вестницы победы. В какой-то степени эта сцена – квинтэссенция всей программы, поскольку Зевс и Афина, скорее всего, и прославлялись на этом алтаре. Но она же – квинтэссенция всего эллинистического искусства в его отношении к образу человека. Да, исход вселенской битвы предрешен. Но само ее изображение показывает соотношение двух лагерей намного более сложным, чем соотношение белого и черного, добра и зла, цивилизации и варварства. Отдавая победу олимпийцам, художник никогда не высмеивает побежденного, а часто и «милость к падшим» призывает. И в этом гуманизме Пергам ушел далеко вперед и от Олимпии, и от Парфенона, где, при всем физиогномическом и патогномическом богатстве, такой амбивалентности все же места нет. Если тело и лицо человека призваны в греческой пластике выражать величие души, то, согласимся, симпатии пергамских скульпторов и, следовательно, зрителей часто на стороне побежденных.
Такой сложный взгляд на мир, такую глубину проникновения в жизнь человеческой души, конечно, никак не назовешь ни «закатом», ни лебединой песней. Когда около 10 года н. э., в совсем ином контексте, резчик (возможно, грек Диоскурид) получил задание изобразить апофеоз миротворца Октавиана Августа на роскошной, явно презентационной камее, в нижний регистр он поместил сцену воздвижения трофея, к которому привязывают пленных: у мужчины связаны за спиной руки, женщина, готовясь к худшему, в горестной позе оплакивает их общую судьбу (илл. 58 на с. 146). Однако правая группа явно контрастирует с левой из-за своей двусмысленности. Меркурий и Диана держат за волосы пленников примерно так же, как пергамские боги держали гигантов. Диана, единственная из всех, повернулась к зрителям спиной, словно не согласна с разворачивающимся перед ней действом, и слушает Меркурия. Поскольку к ногам Дианы припадает знатный германец или кельт (у него на шее ожерелье), ясно, что тот молит о пощаде, которую боги склонны им даровать. А желание богов – закон для земного правителя[208]208
Pollini J. The Gemma Augustea: Ideology, Rhetorical Imagery, and the Construction of a Dynastic Narrative // Narrative and Event in Ancient Art / ed. P. Holiday. Cambridge, 1993. P. 258–298.
[Закрыть].
Теперь представим себе эту камею – совсем небольшой, пусть и драгоценный предмет – в руках у Октавиана, или его наследника Тиберия, который здесь тоже изображен, или кого-то из следующих императоров. И тогда все эти жесты, персонификации, тончайшие физиогномические нюансы и формулы пафоса обретут в глазах историка особое значение. Это не только политический манифест, но и воззвание к сильным мира сего. «Нет спасенья в войне, у тебя мы требуем мира» – восклицает в вергилиевской «Энеиде» Дранк, обращаясь к воинственному предводителю латинов Турну[209]209
Вергилий. Энеида. XI, 362. С. 362.
[Закрыть]. Такова идеология pax romana, римского мира, разработанная при первых императорах и увековеченная Вергилием. И от них ждали не только победоносности, но и, pax et iustitia, мира и справедливости. Изобразительное искусство участвовало в этой работе.
Античность оставила в наследство искусству следующих тысячелетий не шаблоны и не топосы, не только «благородную простоту и спокойное величие», но тот язык, на котором выражаются и вселенский покой, и самые бурные страсти. Этот амбивалентный, гибкий, таинственный язык давал художникам импульс заглядывать в трансцендентное, потустороннее и в потаенные, темные глубины индивидуальной души.
Почему Средневековье надолго отказалось от анатомически точного языка тела? Значит ли это, что средневековый человек потерял интерес к телу как эстетической функции? Или интерес к собственному телу вообще? И то и другое отчасти справедливо: гигиена, медицина, комфорт ушли из системы христианских ценностей и из повседневности новых народов вместе с грекоримской калокагатией. Но ничего похожего на отрицание телесности человека в христианской антропологии не было и нет. Человек – именно органичное единство божественной, бессмертной души и ее «дома» – смертного тела. Другое дело, что телесная красота перестала считаться отражением внутренней, духовной красоты. Аскеза, упражнение тела на столетия стала приравниваться к его максимальному физическому измождению. Изможденность отшельника воспевалась в агиографической литературе, в поэзии и прозе, иногда очень высоким слогом. За агиографами последовали и художники, в особенности на Востоке, затем и на Западе.
Этот парадокс объясняется одним – но ключевым – событием евангельской истории: распятием Христа. Изображение страдающего в агонии или только что умершего бога стало на века самым распространенным и почитаемым изображением человеческого тела. Лишь с начала II тысячелетия постепенно утвердилась традиция изображать его почти нагим, с набедренной повязкой, perizonium. На ранних памятниках мы нередко видим его в тунике (conubium), с открытыми глазами и словно не висящим, а стоящим: даже идущего на смерть Христа воспринимали как царя небесного. Но все же его бесславная, рабская казнь, с точки зрения христианина, – победа добра над злом, подвиг Спасителя – образец «славы страстотерпца», gloria passionis. Не забывали и о том, что пошел Он на это ради любви. Неслучайно в восточнохристианской традиции Воскресение изображалось и изображается только как «сошествие во ад», точнее – выведение спустившимся в побежденный ад Христом ветхозаветных праведников к вечной жизни. Поэтому и жизнь христианина – подражание земному пути Христа, странника, которому негде главу преклонить. Но подражание – ради окончательного воскрешения плоти, «жизни будущего века». Такое величие и смирение в средневековой христианской картине мира неразрывны, диалектически связаны, и тело в какой-то мере призвано было отразить этот парадокс.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?