Текст книги "16 эссе об истории искусства"
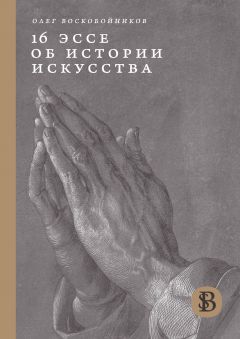
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

35. Поль Сезанн. Зимний пейзаж в Живерни. 1894 год. Филадельфия. Художественный музей

36. Поль Сезанн. Натюрморт с яблоками. Деталь. 1895–1898 годы. Нью-Йорк. Музей современного искусства
Фрагменты холста посреди леса или поля, не закрытый краской карандаш и другие похожие следы ремесла за поколение до него указывали бы однозначно на незаконченность картины, на неаккуратность и отсутствие профессионализма. Но на его первой монографической парижской выставке в 1895 году, которая наконец открыла столице этого гениального нелюдима, такие «незаконченные» картины выставлялись рядом с законченными и пользовались одинаковым успехом как у друзей-импрессионистов, так и у ценителей. Это не могло быть случайностью. Хотя Сезанна нередко называют первым современным художником и отцом авангарда, он не создал школы, и нельзя объяснять только его находками все, что было после него. Однако нет ни одного значимого авангардиста, который не испытал бы на себе в той или иной степени его влияния. Еще более сильное, чем в 1895 году, воздействие на современников оказала его последняя выставка 1906 года – настоящий оммаж, которого слабевший от болезни мастер все же дождался. Новое поколение художников, к которому принадлежал, например, Пикассо, воочию увидело, что настоящий мастер имеет право поставить точку там, где ему заблагорассудится: это своеволие, суверенную свободу кисти предвоенное поколение научилось ценить без какой-либо оглядки на академические каноны и правила хорошего тона. Таков авангард.
Накануне, во время и сразу после Второй мировой войны статус произведения искусства в очередной раз подвергся серьезной трансформации. Вместо предмета, принадлежащего конкретному времени и конкретному пространству, художник отныне старался по мере возможности придать своему творению вневременное значение и содержание, подчеркивал его неуместность. Все чаще стали раздаваться голоса, что «законченный образ – фикция» (Барнетт Ньюман). Американский критик Аллан Капроу в 1958 году говорил о Джексоне Поллоке, что его искусство стремится выйти за собственные границы и заполнить наш мир самим собой. Очевидно, что при такой перспективе сама идея законченности уживается с трудом. И взгляд – даже беглый – на любое полотно зрелого Поллока дает понять, что рама и формат в них – чистая случайность, пауза в движении, которое вслед за рукой художника, разбрызгавшей краску по холсту, должен продлить зритель (илл. 37). Слова молодого критика оказались пророческими: вскоре он сам начал экспериментировать с новой формой зрелища – хеппенингом. Посмертное влияние метода Поллока, его живописи действия по обе стороны океана трудно переоценить.

37. Джексон Поллок. Один: номер 31. 1950 год. Нью-Йорк. Музей современного искусства
То же можно сказать о Марке Ротко, американце родом из Двинска (совр. Даугавпилс), или о голландце Пите Мондриане. Ни разноцветные линии, пересекающиеся под строго прямым углом на картинах Мондриана, которые нетрудно принять за решетки (илл. 38), ни бесконечные, перетекающие друг в друга узоры, разбрызганные по полотнам Поллока, ни плотные цветовые блоки, покрывающие холсты Ротко (см. илл. 150), вообще не предполагают вопроса, закончен процесс или нет[106]106
См. многочисленные примеры в каталоге выставки: Unfinished…
[Закрыть]. Такие примеры говорят: то состояние, в котором мы видим произведение, – лишь одно из возможных, даже если автор в какой-то момент остановился. Рама формально указывает, что произведение готово для осмотра, но ее задача также в том, чтобы устремить взгляд зрителя как вглубь, так и вокруг, за пределы самой себя.

38. Пит Мондриан. Полотно № 1: ромб с четырьмя линиями и серым. 1926 год. Нью-Йорк. Музей современного искусства
С 1960-х годов до наших дней незаконченность в большой степени сместилась от живописи к трехмерным формам – пластике и инсталляциям, в том числе потому, что редкий художник ограничивается теперь двухмерными изображениями. Иногда незаконченность как бы естественным образом присуща произведению, навязана материалом или темой, иногда перед нами – результат конкретных действий художника, незаконченность нарочита. Выход в космос и другие технические прорывы того времени по-новому поставили перед искусством проблему времени, пространства и бесконечности того и другого. Характерным образцом такой рефлексии с применением поэтики незавершенности можно считать, например, серию инсталляций венесуэльской художницы немецкого происхождения Гего «Reticuláreas» (1969), что можно перевести как «сетчатые». В основе – модуль, потенциально бесконечное число металлических струн и шариков, складывающихся в опять же бесконечную паутину, способную заполнить любое выделенное ей пространство, в данном случае – зал Музея изобразительных искусств в Каракасе. Зрителю, оказавшемуся внутри инсталляции, это пространство представляется бесконечным и текучим. Вариации на ту же тему Гего повторяла не раз, словно заложив в свой «микрокосмос» генетический код и каждый раз добиваясь того же художественного эффекта. В результате искусствоведы даже не могут определиться, представляет ли собой Reticuláreas одно произведение или множество. Добавим: бесконечное множество.
Для многих мастеров последних десятилетий идея завершенности табуирована. Не перечислить всех техник, способов и приемов, которые позволяют сегодня указать на незаконченность экспоната: абстракция, модульность, метаморфоза, длительность; повторяемость, но и непредсказуемость, дематериализация, видимая невесомость предмета или, напротив, его нарочитая плотность, тяжесть, акцент на ремесле или технологии в пику традиционной неповторимой виртуозности, применение нехудожественных, будничных материалов и действий; наконец, принципиально важное для нашего времени вовлечение зрителя в процесс создания произведения наравне с его автором – все эти факторы говорят о том, что диалектика завершенности и незавершенности сейчас, как никогда ранее, важна для понимания самой природы художественной деятельности.
Что такое шедевр?

Трудно найти более привычное нам применительно к искусству слово, чем «шедевр». Непринужденно, не задавая лишних вопросов, до сих пор пользовался им и я. Однако, как и другие банальности, оно, во-первых, не невинно и представляет собой оценку, во-вторых, весьма неопределенно. Более того, оно относится к самым размытым понятиям в истории искусства, без которых вряд ли можно обойтись, потому что культура Нового времени без них немыслима. Это с присущей ему образной меткостью в 1811 году выразил Франсуа де Шатобриан, один из основоположников романтизма: «Великие памятники по большей части составляют славу всякого человеческого сообщества. Если только не считать, что народу все равно, останется ли его имя в истории, нельзя обрекать эти постройки на забвение, они несут память о народе за пределы его существования, дают ему новую жизнь среди поколений, которые приходят на опустевшие поля»[107]107
Chateaubriand Fr.-R., de. Itinéraire de Paris à Jérusalem: en 2 t. T. I. P., 1859. P. 406. См. также эстетические фрагменты Шатобриана в переводе Веры Мильчиной: Эстетика раннего французского романтизма (Пьер Балланш, Франсуа де Шатобриан, Бенжамен Констан, Жозеф Жубер) / сост. В.А. Мильчина. М., 1982. С. 94–247. (История эстетики в памятниках и документах).
[Закрыть]. Это – образец романтического пафоса. В обыденной речи мы с одинаковой легкостью можем назвать шедевром картину, фильм, зажигалку, десерт, чью-нибудь сорвавшуюся с языка глупость. И это, естественно, настораживает критиков и ученых, не имеющих права бросаться словами.
Как писал Нельсон Гудмен, «произведения искусства – не скакуны, и наша задача не в том, чтобы угадать победителя. …Оценить совершенство меньше всего помогает проникнуть в суть. Высказать суждение о качестве произведения искусства или о том, хорош человек или плох, – не лучший способ понять их»[108]108
Goodman N. Languages of Art. An Approach to a Teh ory of Symbols. Indianapolis; N.Y.; Kansas City, 1968. P. 262.
[Закрыть]. Такие скептические суждения сегодня распространены. Еще Вебер во время Первой мировой войны считал залогом науки как профессии «свободу от ценностных суждений», Алоис Ригль утверждал, что настоящий историк искусства бесстрастен, он не любит изучаемые им произведения. Неудивительно, что и сегодня одни исследователи пользуются привычным словом «шедевр» неохотно, избегая превосходной степени и эмоциональности, другие считают его приемлемым. Не существует ни инстанций, отвечающих за распределение мировой квоты на шедевры по родам искусства, ни общепринятого списка, ни указаний Минкультуры России или ЮНЕСКО. Правда, есть множество научно-популярных книг, разъясняющих на конкретных примерах и в деталях, почему подобранные и опубликованные в них иллюстрации относятся к шедеврам, и вряд ли лекция по истории искусства обходится без того, чтобы присутствующие не услышали это приевшееся слово хотя бы однажды.
Парадокс искусствоведения состоит в том, что оно имеет дело с памятниками, претендующими на высокий статус шедевра либо давно им обладающими. Искусствоведение стремится к их пониманию, но оно же постулирует, что великое произведение тем и отличается от менее значительного, что не поддается однозначному истолкованию. Историк искусства описывает, допустим, роденовского «Мыслителя», предлагает интерпретацию или ряд интерпретаций. Но профессиональное чувство такта должно подсказать ему, что перед ним – некое чудо и что тайна все же скрыта где-то под полированной поверхностью мрамора или бронзы. «Определять значение символов – неблагодарное и бесполезное занятие, их сила в таинственности и первозданности»[109]109
Рид Г. Краткая история современной живописи / пер. Т. Боднарук. М., 2006. С. 152.
[Закрыть], – писал Герберт Рид. Первый директор Лувра, барон Доминик Виван-Денон, считал шедевры молчаливыми хранителями тайны искусства, о которых приличнее молчать[110]110
См.: Belting H. L’art moderne à l’épreuve du mythe du chef d’œuvre // Belting H. et al. Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre? P., 2000. P. 50. (Art et artistes).
[Закрыть]. Если принимать это высказывание на веру, посетителю музея перед великим произведением придется оцепенеть от восторга или, как минимум, умолкнуть.
В этой своей принципиальной таинственности, эпистемологической неподатливости, даже иррациональности «шедевр» сродни не менее расплывчатым понятиям «канон» или «классика». А «гений, парадоксов друг»? Поль Валери с присущим ему скепсисом записал в своих «Тетрадях», что «гений» – «это привычка, которую кое-кто усваивает»[111]111
Валери П. Об искусстве / пер.; изд. подгот. В.М. Козовой. М., 1976. С. 158.
[Закрыть]. Но легче ли, скажем, с «подвигом», «позором», «эпохальным открытием» или «подлостью», когда от нас ждут исторически обоснованного суждения? Где провести границы между просто историческим фактом, событием и чем-то действительно из ряда вон выходящим? Отказаться от применения таких слов невозможно, раз наша культура пользуется ими для саморегуляции и как бы отгораживаясь от потока посредственности, но использовать их в качестве аргумента в споре или критерия оценки тоже нельзя. Во всяком случае, ценность такого «аргумента» для познания или просто для диалога с произведением будет не выше, чем от восторженного восклицания.
Целый ряд вопросов встает в связи с применимостью понятия шедевра. Существуют ли абсолютные шедевры? Или у каждой эпохи и цивилизации они свои? Почему японцы так любят «Джоконду» и барселонский храм Святого Семейства? Может ли шедевр по каким-то причинам перестать быть или считаться таковым? Можно ли ожидать новых шедевров сегодня, в эпоху тотальной тиражируемости всего и вся, или это удел прошлого? Как будет «шедевр» по-китайски или, скажем, на фарси? Имеем ли мы в виду одно и то же, называя шедевром драгоценность и собор, картину и гениально спланированный и выстроенный город? Может ли шедевр быть результатом коллективного творчества? Насколько в своей уникальности он репрезентативен для истории искусства или культуры? Есть ли у него цена? Если произведение продано за двести пятьдесят миллионов долларов, оно точно шедевр?
Некоторыми из этих вопросов задавался еще в 1870-е годы Якоб Буркхардт, один из основателей современных наук о культуре[112]112
Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории / пер. А. Дранова, А. Гаджикурбанова. М., 2004. С. 179–212. (Книга света).
[Закрыть]. Другие возникли в XX столетии, между авангардом и двумя мировыми войнами. «Что такое шедевры и почему их так мало?» – вопрошала муза кубистов Гертруда Стайн в конце 1930-х годов[113]113
Stein G. Writings and Lectures. 1909–1945 / ed. P. Meyerowitz. Baltimore, 1967. P. 152.
[Закрыть]. В 1984 году ей вторил крупнейший скульпторминималист Дональд Джадд. Такие сомнения – не праздные, потому что любой крупный музей или куратор выставки выделяют шедевры в своих экспозициях, временных или постоянных, а в путеводителе расставлены звездочки: * * * – «стоит путешествия», * * – «стоит заехать», * – «весьма интересно». Наконец, авторы учебников чуть ли не обязаны выстраивать структуру с учетом шедевров. И те и другие формируют наш культурный уровень и нашу систему приоритетов. А трагические события последних десятилетий в бывшей Югославии, Афганистане и Сирии подсказывают, что великие памятники не всегда могут быть сохранены цивилизованным международным сообществом или охраняться государством. Список нетрудно продолжить, поэтому следует обратить внимание на то, как понятие «шедевр» осмысляется в интересующем нас профессиональном поле.
* * *
Первые биографы художников в XVI–XVII столетиях – Вазари, Бальдинуччи, Беллори – не пользуются итальянской калькой слова «шедевр», capolavoro, когда им нужно выделить выдающиеся произведения. Тем не менее это старофранцузское слово встречается уже в 1260-е годы в «Книге ремесел», составленной по распоряжению парижского прево (градоначальника) Этьена Буало. В этом замечательном тексте однажды, в связи с обычаями седельщиков, рассказывается мимоходом, но, видимо, как об устоявшейся среди ремесленников практике, что подмастерье, способный сделать chef d’œuvre, уже не нуждается в учителе, становится мастером и может вести самостоятельную практику[114]114
«Если ученик может целиком сделать шедевр, его мастер может взять еще одного ученика по причине того, что, если ученик умеет сделать свой шедевр, разумно его держать при деле, уважать и беречь больше, чем того, кто не умеет его делать; так что мастер не посылает его больше в город достать хлеба и вина, как мальчишку; по этой причине мастер может взять другого ученика с тех пор, как тот умеет делать свой шедевр» (Регистры ремесел и торговли города Парижа. Статут LXXIX / пер. Л.И. Киселевой под ред. А.Д. Люблинской // Средние века. Вып. 11. 1958. С. 198).
[Закрыть]. В последующие столетия в ремесле этот обычай устоялся и часто детализировался. Создание и демонстрация «мастерского произведения» (ср. англ. masterpiece, нем. Meisterstück) стало «выпускной квалификационной работой», публичным экзаменом, путевкой в жизнь. Нетрудно догадаться, что это произведение служило таким же механизмом прогресса, как экзамены, диссертации и конкурсы наших дней. Но речь шла не только о тех ремесленниках, которых резонно отнести к области искусства (о них говорится и у Буало), но и о сапожниках, скорняках, аптекарях. Кроме того, как во всех правилах, и в этом периодически возникали свои исключения, например, для сыновей мастеров. В том же Париже до конца XV века от начинающего ремесленника из местных требовался «полушедевр», от пришлого – полноценный. Ясно, что система таких «шедевров» – действенный механизм защиты рынков сбыта.
Известно, что в Европе искусство в Средние века и отчасти в Новое время формально создавалось в рамках ремесел, а значит, художники разделяли социальный статус и систему ценностей ремесленников, подчинялись уставам и неписаным правилам своих гильдий. Статус мастера (лат. magister) указывал на уровень профессиональной подготовки и в какой-то степени на талант, примерно так же, как в науке. Однако не все по-настоящему крупные художники, скульпторы, архитекторы и ювелиры позднего Средневековья, когда их имена вообще стали фиксироваться, подписывались титулом мастера, многие просто указывали свою профессию, ограничивались именем или даже инициалом. Кроме того, экзамен – не лучший повод для предъявления новаторства и оригинальности, которые мы привыкли видеть в шедевре. Работы молодежи оценивало старшее поколение, по определению относившееся к любой фантазии подозрительно. Мастера должны были оценить технику, виртуозность, уверенность руки, владение инструментом, вкус, знание формул, пожалуй, изобретательность. Но в интересах экзаменовавшегося, как и во все времена, было найти и ясно показать границу самостоятельности, за которую он не смел выходить[115]115
Муратова К.М. Мастера французской готики XII–XIII веков. Проблемы теории и практики художественного творчества. М., 1988. С. 130–141.
[Закрыть]. Во всем этом, безусловно, можно видеть техническую и отчасти психологическую основу творческой деятельности многих поколений художников Европы, как минимум вплоть до индустриальной революции, но их chefs d’œuvre – «конкурсные работы», а не «шедевры». «Экзаменационное произведение», morceau de réception, требовавшееся для вступления во французскую Королевскую академию живописи и скульптуры, – прямой наследник тех же правил. И это при том, что Академия провозглашала «освобождение искусства» с момента своего основания в 1648 году, и вступали в нее не юнцы, а сформировавшиеся художники.
Какие-то метафизические ценности и представления должны были накладываться на ремесленные обычаи. И это тоже произошло в позднем Средневековье. Параллели можно найти в панегирической поэзии. В конце XV века Жан Молине, официальный историограф и поэт бургундского двора, обращается к своей покровительнице Маргарите Австрийской, будущей герцогине Савойской: «изысканный шедевр, премудрая Сивилла». По совершенно иному поводу, в связи с гибелью Карла Смелого в 1477 году, он ополчается на «лживую А́тропос», унесшую жизнь «лучшего шедевра природы»[116]116
Цит. по: Cahn W. Masterpieces. Chapters on the History of an Idea. N.Y., 1979. P. 37.
[Закрыть]. Взяв слово из лексикона ремесленников, поэты-риторы стали применять его к человеку, следуя общепринятой логике христианской антропологии: человек – венец творения. Приблизительно с 1200 года Творца стали иногда изображать «божественным ремесленником» с циркулем в руках, вычерчивающим сферы мироздания[117]117
Tachau K. God’s Compass and Vana Curiositas: Scientific Study in the Old French Bible moralisée // Teh Art Bulletin. 1998. Vol. 80. No. 1. P. 7–33. О значении христианских представлений о Боге как художнике для истории живописи см.: Kruse Chr. Wozu Menschen malen. Historische Begründungen eines Bildmediums. München, 2003. S. 155–168.
[Закрыть]. Это вовсе не было принижением божества (по определению не нуждающегося в инструментах для сотворения мира из ничего), но напротив – обожествлением ремесла и художества (илл. 39). Весь мир представлялся христианину совершенным творением совершенного Мастера, но человек в его трудах – «венец», то есть не первое и не рядовое, а последнее, венчающее шестидневные труды, произведение Бога. Века спустя, следуя устойчивой идее, в 1675 году первый историк немецкого искусства Иоахим фон Зандрарт называл человека «совершенным шедевром Всевышнего» (Meisterstück).

39. Сотворение мира. Фронтиспис Морализованной библии Людовика Святого. До 1234 года. Париж. Сейчас: Толедо. Сокровищница Кафедрального собора Св. Марии
Ученик Микеланджело Вазари закрепил этот многовековой процесс во вступлении к биографической части своих «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»: «Божественный зодчий времени и природы, обладая высшим совершенством, восхотел показать на несовершенном материале, как можно отнимать от неба и добавлять к нему способом, обычно применяемым добрыми ваятелями и живописцами, которые, добавляя и отнимая на своей модели, доводят несовершенные наброски до той законченности и совершенства, которых они добиваются»[118]118
Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: в 5 т. / пер. А.И. Венедиктова. Т. I. М., 1956. С. 134. Ср. сонеты Микеланджело 60 и 61: Микеланджело. Стихотворения / пер. А.М. Эфроса. М., 1992. С. 189, 193; Панофски Э. Idea: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма / пер. Ю.Н. Попова. СПб., 1999. С. 88–93. (Классика искусствознания). (Культурология: Университетская библиотека).
[Закрыть]. На самом деле, такое явное обожествление труда художника, отражающее мировоззрение круга Микеланджело, можно встретить и ранее. Но все же именно в эпоху Возрождения оно стало одним из принципов искусства и критерием «божественности», «совершенства», «тонкости», «изысканности», «виртуозности» – основных понятий ренессансной эстетики[119]119
Баксандалл М. Указ. соч. С. 148–200.
[Закрыть].
В начале XVI века при создании усыпальницы той же Маргариты Австрийской и ее семьи в Бру (Бургундия) впервые появляется слово «шедевр» как осознанно поставленная перед мастерами художественная задача: мы находим его не только в панегириках, но и в контракте. Заказчица ожидала чего-то невиданного. Судя по всему, сообщая о реальных расходах, смелости замысла, мастерстве исполнения всех деталей, слово «шедевр» в деловом документе свидетельствовало и об испытанной эрцгерцогиней гордости. Невиданность, чудесность задания были проекцией феодального достоинства заказчицы, дочери императора Максимилиана I и крестной матери императора Карла V. Но отчасти дело и в ее местном патриотизме: Бру, действительно вызывавший восхищение королей, стоял в стороне от больших дорог европейской политики как тогда, так и сегодня (илл. 40).

40. Королевский монастырь Бру. Архитектор Луи ван Бодегем. 1506–1532 годы. Бургундия
В раннее Новое время этот локальный патриотизм породил такой жанр эрудитской литературы, как описания древностей и диковин городов, областей и целых стран. В них-то и закрепилось применение слова «шедевр», поскольку авторы вообще любили использовать превосходную степень. Например, в 1620-е годы Адриан де ла Морлиер в «Древностях, историях и достопримечательностях Амьена» описал знаменитый собор XIII века как абсолютный шедевр, причем восхвалял не столько его высоту (это самый высокий неф Европы), сколько совершенство пропорций. Но внутри шедевра он выделил как самостоятельный «шедевр, даже скорее чудо резьбы и плотницкого дела» хор, созданный в начале XVI века и, по счастью, тоже сохранившийся (илл. 41). Причем его ценность – в так называемых мизерикордиях, откидных сиденьях для клириков: когда клирик встает во время богослужения, это сиденье откидывается, а на оборотной стороне его красуется какая-нибудь шутливая сценка, дрольри, перекочевавшая сюда прямо с полей средневековых рукописей. Интересно, что полное эстетическое несоответствие высокой готики бытовавшему в XVII столетии классицизму не помешало автору проявить не только восхищение патриота, но и чутье историка, краеведа, ценителя архитектуры[120]120
Morlière A., de la. Le premier livre des Antiquitez, histoires et choses plus remarquables de la ville d’Amien, poëtiquement traicté. P., 1627. P. 89–92.
[Закрыть].

41. Хор Амьенского собора. 1508–1519 годы. Амьен
Умение и готовность восхищаться чудесами природы и древности, безусловно, лежат в основе идеи шедевра на самом глубинном уровне. В Средние века не забывали о чудесах света и всяких mirabilia. Путешественники и паломники умели оценить по достоинству увиденное и передать свое восхищение в стихах и прозе. Абсолютно во всех многочисленных греческих и славянских описаниях Св. Софии Константинопольской VI–XV веков о ней говорится в превосходной степени. В начале XIII века англичанин Магистр Григорий описал в «Рассказе о чудесах города Рима» увиденные им памятники языческой древности, проигнорировав вовсе христианские святыни, но расхвалив мастерство древних зодчих и скульпторов. Чуть позднее Ресторо д’Ареццо восхвалял «мудрость» и «тонкость души» художников и резчиков, создававших античные вазы и саркофаги, которые он находил, описывал и, видимо, копировал в родной Тоскане[121]121
Воскобойников О.С. Ресторо д’Ареццо: художник и энциклопедист XIII века // Новое литературное обозрение. 2018. Т. 6. № 154. С. 131–140; Магистр Григорий. Рассказ о чудесах города Рима / пер. О.С. Воскобойникова, Н.С. Тарасовой // Бог, Рим, народ в средневековой Европе / сост. М.А. Бойцов, О.С. Воскобойников. М., 2021. С. 69–87. (Polystoria).
[Закрыть]. Англичане с XII века восхищались Стоунхенджем и соревновались, предлагая теории о его происхождении, естественно, магическом. В поэтическом романе «Мон-Сен-Мишель» Гийома де Сен-Пера (конец XII в.), посвященном знаменитому нормандскому святилищу архангела Михаила, паломники «на гору и на храм глядят / и восхищенья не таят»[122]122
«Veient le mont et le mostier / Molt se prenent a merveiller» (Saint-Pair G., de. Le Roman du Mont-Saint-Michel. Vers 728–729 / ed. Fr. Michel. Caen, 1856. P. 24).
[Закрыть]. Неудивительно, что святилище стали называть попросту Чудом, Merveille, и этот статус закрепился за памятником до наших дней. Тем же словом привычно было описывать красоту женщины, рукотворный образ или предмет, природную диковину, как увиденную, так и невиданную, фантастическую, наконец, весь тварный мир.
Слово «шедевр» фактически звучало в устах многих ренессансных мыслителей как аналог «чуда». В 1560 году, в разгар религиозного раскола, Жан Кальвин во французской версии своих «Наставлений в христианской вере» писал о «прекрасном шедевре мироздания», а Лютер называл величайшим из всех деяний Бога его Heubtwerk (точный аналог французского chef d’œuvre) – Боговоплощение. Сплав этой своеобразной средневековой «культуры чуда», обычаев ремесленных гильдий и новых, сформированных Ренессансом представлений о творческом акте и творческой индивидуальности и породили сначала идею, а затем и культ шедевра.
Век Просвещения старательно разрабатывал объективное мерило Прекрасного, искал критерии для определения хорошего вкуса, параллельно разрабатывая принципы историзма, то есть стремился оценивать классические произведения искусства, понимая, что они были созданы в прошлом, для зрителей из других поколений. Нетрудно догадаться, что взгляд ценителя был направлен либо на античные древности, либо на Ренессанс, либо на собственный век. Мода на Китай, шинуазри, как и на Персию, не поколебали европоцентризма в художественной иерархии: все «чужое» не выходило за рамки украшения быта. Спорили о сравнительных достоинствах отдельных шедевров, о пальмах первенства, иногда провозглашали верховенство «гения» (например Рафаэля) по отношению к его же творениям (например, к рафаэлевскому «Преображению»).
В начале XVIII века Роже де Пиль расставил оценки по двадцатибалльной шкале, как в лицее, выдав 18 лучшим картинам, 19 – несуществующему шедевру, который можно себе представить, и 20 – несуществующему шедевру, который вообразить невозможно. Смельчаки, оригинальничая, могли выдвинуть в первый ранг ученика гениального учителя, например, ученика Рафаэля Джулио Романо с его фресками в мантуанском палаццо дель Те (1532–1535): они оригинально развивали некоторые принципы творчества позднего Рафаэля. При этом путеводитель Дж. Ричардсона (1728), которым пользовались молодые английские аристократы, отправляясь в большое путешествие (гран-тур, фр. grand tour) для получения эстетического воспитания, с уверенностью сообщал, что гравюра Маркантонио Раймонди, друга Рафаэля (илл. 42), дает лучшее представление о болонском «Экстазе святой Цецилии», чем оригинал (илл. 43). Неудивительно, что в 1790 году один из путешественников, Адам Уокер, судя по его дневнику, минут пятнадцать глядел на шедевр, но так и не понял его смысла: какая-то девушка пытается продать органчик трем занудам (их четверо), св. Петр (на самом деле – Павел, легко узнаваемый по мечу) вроде бы заинтересовался, но девушка так и не смогла убедить покупателей купить инструмент, потому что он сломался[123]123
Walker A. Ideas Suggested on the Spot in a Late Excursion through Flanders, Germany, France, and Italy… L., 1790. P. 188–189.
[Закрыть].

42. Маркантонио Раймонди. Экстаз святой Цецилии. Гравюра на металле по картине Рафаэля. Около 1515 года. Вашингтон. Национальная галерея искусства

43. Рафаэль. Экстаз святой Цецилии. Около 1514 года. Болонья. Национальная картинная галерея
Простое сравнение картины с гравюрой показывает, что оригинала Уокер либо не видел, либо не заметил: он описал как раз версию Маркантонио, на которой изображена более ранняя версия картины Рафаэля. Но авторитет этого гравёра был устойчивым, именно его гравюры с картин и фресок прославили урбинского мастера в Европе[124]124
Вазари пользовался ими, чтобы освежить в памяти виденное прежде, что иногда объясняет его неточности.
[Закрыть]. Поэтому суждение англичанина типологически напоминает суждения тех, кто по сей день делают выводы о произведениях искусства, доверяя репродукциям. Между тем масштабный алтарный образ, сопоставимый с «Сикстинской мадонной», привел болонцев в восторг сразу, как только прибыл в Болонью.
Настоящими творцами идеи шедевра, передавшейся искусствознанию и эстетике XX века, были романтики. «К сожалению», – добавляет Ганс Бельтинг, потому что речь, с его точки зрения, идет об утопии, фетише, фантоме и прежде всего о мифе, многое определившем в европейском искусстве последних столетий[125]125
Belting H. Das unsichtbare Meisterwerk: die modernen Mythen der Kunst. München, 1998. S. 150–157, 302–308.
[Закрыть]. Этот миф отразился уже в бальзаковском «Неведомом шедевре», опубликованном в первой редакции в 1831 году. В замечательной новелле показана тоска романтиков по недостижимому идеалу. Шедевр невидим и неведом, он – плод воображения, реально существует лишь «вера в искусство», как восклицает Френхофер. Новеллу читали Гоген, Сезанн, Врубель и Ван Гог – и все четверо всерьез намеревались создать шедевр, считая все свое творчество лишь подготовкой к главному произведению.
Масштабное гогеновское полотно «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» стало завещанием мастера, намеревавшегося покончить с собой на острове Таити. Мане наиболее сложен, «философичен» и «меланхоличен» в «Баре в “Фоли-Бержер”»[126]126
Принятый у нас перевод названия картины «Un bar aux “Folies Bergère”» не совсем точен, поскольку на ней изображен театральный буфет, а не бар.
[Закрыть], своей последней, поистине великой работе, – возможно, это было связано с болезнью художника. Известно, какое значение придавал «Падшему демону» Врубель и как повлияли на состояние его здоровья и работа над ним, и реакция современников, в особенности друзей[127]127
См. аннотацию к циклу «Демон» в каталоге выставки: Михаил Врубель. М., 2021. С. 284.
[Закрыть]. Наконец, Пикассо, тоже читавший и иллюстрировавший в 1927 году «Неведомый шедевр»[128]128
Воллар выпустил книгу с офортами Пикассо в 1931 году, и издание не пользовалось успехом. Иллюстрации, описание и анализ цикла см. в кн.: Крючкова В.А. Пикассо: от «Парада» до «Герники». 1917–1937. М., [2003]. С. 214–234.
[Закрыть], кажется, по совету лидера сюрреалистов Андре Бретона поселился на улице Гран-Огюстен и там, где происходило действие новеллы, создал шедевр, «Гернику», старательно зафиксировав в рисунках и фотосессиях все этапы своей эпической работы.
Сейчас трудно в это поверить, но для того чтобы «Джоконда» превратилась в фетиш, понадобилось не глубокомысленное молчание барона Денона, а поэтические таланты романтиков – французского писателя Теофиля Готье и оксфордского профессора Уолтера Патера, возможно, мечтавшего о лаврах открывателя Античности Иоганна Винкельмана. Именно Патер, не побоявшись назвать леонардовскую модель «вампиром», парадоксальным образом возвел ее в ранг символа, своего рода персонификации Искусства, мастерски придав ей мистическую ауру и одновременно дав читателю иллюзию диалога с гением и с вечностью[129]129
Pater W. Studies in the History of the Renaissance. L., 1873. P. 316.
[Закрыть]. Патером зачитывались и заслушивались не только эстеты вроде Оскара Уайльда (автора не только «Портрета Дориана Грея», но и замечательного эссе «Критик как художник» 1890 года[130]130
Уайльд О. Критик как художник / пер. С. Займовского и др. М., 2017. (Искусство и действительность).
[Закрыть]), но вся культурная Европа. Его внимательно проштудировал Зигмунд Фрейд – и попытался проникнуть в душу Леонардо, прочесть его детские страхи и страсти в улыбке все той же Моны Лизы. Фрейдовское психоаналитическое прочтение сохраняет определенный авторитет по сей день, несмотря на планомерную критику, которой его подверг в свое время историк искусства Мейер Шапиро[131]131
Фрейд З. Леонардо да Винчи. Воспоминание детства / пер. Т.Н. Григорьевой. М., 1991; Schapiro M. Teh ory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society. Selected Papers. N.Y., 1994. P. 153–199. О психоанализе в целом см.: Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней / пер. К.А. Чекалова; общ. ред. Ц.Г. Арзаканяна. М., 1994. С. 245–259.
[Закрыть].
Реакция на фетишизацию искусства не заставила себя ждать. Когда в 1911 году трагикомическим образом «Джоконду» похитили, футуристы ликовали, ведь их лидер Маринетти требовал «покончить с шедеврами». Через два года картину вернули на место, и те же футуристы устроили символическую похоронную процессию. В 1919 году Марсель Дюшан пририсовал репродукции на открытке усы, доверив приятелю, Франсису Пикабиа, бородку, написал «L.H.O.O.Q.», что звучало по-английски как look, а на французском произносилось как elle a chaud au cul («у нее зад горит»). Получившееся художник назвал «дадаистской картиной Марселя Дюшана». Писатели Андре Жид и Олдос Хаксли дали этой выходке литературное истолкование, заодно зафиксировав значимость события в истории искусства. «Джоконда» так же сохраняет свой исключительный статус даже в гигантской коллекции Лувра, но и по-прежнему остается предлогом для рефлексии художников над творчеством в целом. Такова, например, картина Эрика Булатова «Лувр. Джоконда» (1997–1998/2004–2005), где толпа туристов почти полностью заслоняет знаменитую картину[132]132
Схожа по замыслу, но немного крупнее по масштабу его работа «Картина и зрители» (2011–2013 гг., холст, масло, 200 × 250 см), где зрители и экскурсоводы Третьяковской галереи фактически сливаются с ива́новским «Явлением Христа народу».
[Закрыть].
В 1917 году Дюшан выставил, положив его «на спину», обычный писсуар, вывел на нем кляксой загадочное имя R. Mutt и назвал экспонат «La fontaine», что можно передать как «Фонтан», а можно как «Источник». И парадоксальное переименование (писсуар никак не «фонтанирует», а напротив, собирает), и поворот на девяносто градусов, и, наконец, дерзкая претензия на то, что сошедший с конвейера реди-мейд (готовое изделие), которого коснулись мысль и рука художника, уже есть искусство, должны были уничтожить саму идею шедевра. «Черный квадрат» Малевича на выставке 1915 года претендовал на схожую роль: как и многие его современники, автор мечтал поставить точку в развитии искусства. В обоих случаях речь идет о манифестах, социокультурные функции которых в чем-то совпадали и совпадают с социокультурными функциями шедевров. Ко всему прочему, оба манифеста «сработали», были растиражированы самими авторами и стали вехами, несмотря даже на то, что в первом случае устроители выставки демонстрировать писсуар отказались[133]133
Дюшан не думал торговать своими реди-мейд и вообще избегал арт-рынка, поэтому большинство оригиналов исчезло. Только в 1966 году миланский арт-дилер Артуро Шварц, в условиях совершенно иной конъюнктуры, заказал по восемь точных копий самых известных к тому времени ранних изделий Дюшана и уговорил стареющего мэтра их подписать. Шварц не прогадал.
[Закрыть].









































