Текст книги "16 эссе об истории искусства"
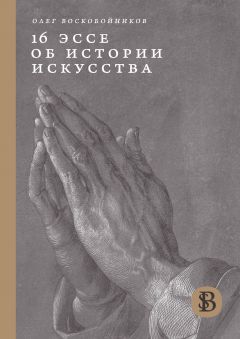
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
Поэтика фотографии

19 августа 1839 года известный французский физик Франсуа Араго выступил с докладом в Институте Франции на совместном заседании Академии наук и Академии изящных искусств. Толпа любопытных с нетерпением ожидала на улице: всем хотелось знать, с помощью каких химикатов удалось заполучить изображение действительности без вмешательства человеческой руки. Выходившие из зала слушатели предлагали разные версии. Вскоре опубликованный доклад Араго расставил все по местам. В нем утверждалось, что господин Луи Жак Манде Дагерр благодаря светочувствительности йодистого серебра добился такого четкого изображения, какое доселе никому не удавалось. На самом деле, как часто бывает с «открытиями», и за этой сногсшибательной новостью стояла долгая история экспериментов. Дагерр умел себя подать, его знал весь Париж: неслучайно Араго авторитетно и по дружбе всю славу приписал ему, едва упомянув Нисефора Ньепса, к тому времени уже покойного, и ничего не сказав ни о Уильяме Генри Фоксе Тальботе, ни об Ипполите Байаре, которые одновременно с ними достигали похожих результатов, причем на бумаге. Именно дагерротип на пару десятилетий стал основной формой изображения, которому суждено было стать всем нам знакомой фотографией. Аристократ и мечтатель Тальбот спохватился поздно, проиграл Дагерру первенство в изобретении физического процесса, хотя его аналоговая технология «негатив – отпечаток» осталась неизменной вплоть до цифровой эпохи[488]488
Фризо М. 1839–1840: Открытия фотографии // Новая история фотографии / под ред. М. Фризо / пер. В.Е. Лапицкого и др. Т. 1. СПб., 2008. С. 23–32.
[Закрыть].
Обращаясь к широкой аудитории, физик делал акцент и на том, что любой мог получить такое же изображение на металлической пластинке и что для этого не требуется никаких особых навыков. Он лукавил. Но и Араго, и многие его современники сразу поняли, что родилось нечто абсолютно новое. На Дагерра посыпались поздравления и подарки, в том числе издалека, например, от Николая I. Но было ли это рождением нового искусства? Французское государство, воспользовавшись сложностями с оформлением патента, выплатило изобретателю компенсацию и возвело изобретение в ранг общественной деятельности. А вскоре пришло и осознание того, что искусству старому, традиционному, придется пересмотреть свои задачи и методы.
Техника и ее прогресс важны для понимания любого вида художественной деятельности, любого этапа в ее истории. В истории же фотографии соотношение техники и творческой мысли сыграло и по сей день играет особую роль. С самого начала первая была поставлена во главу угла. Принципиально важной, например, оказалась фиксация Дагерром живого человека на парижском бульваре дю Тампль в 1838 году (илл. 137). Именно этот снимок, с выдержкой около десяти минут, показал, что время, саму жизнь в ее текучести, можно остановить и продемонстрировать с помощью камеры и ряда химических процедур, а не с помощью резца, кисти или карандаша.

137. Дагерр Л.Ж.М. Бульвар дю Тампль в Париже. Дагерротип. 1838 год
Еще через несколько лет, в 1844–1846 годах, Тальбот опубликовал свои «светородные рисунки», photogenic drawings, в книге с говорящим названием «Карандаш природы». В этой первой в истории книге, рассчитанной на продажу и иллюстрированной фотографиями, можно было видеть людей, книжные полки, посуду, улицу, стог сена, дверь сарая с прислоненной к косяку метлой – что-то вроде хроники или энциклопедии обычной семейной жизни (илл. 138). Настоящего тиража, собственно, не получилось, печать на солевой бумаге оказалась непрочной, но важна и попытка. Камера и химикаты помогали автору запечатлеть здания в их старении, «раны времени», как он сам выразился. Свой метод он назвал калотипией, «прекрасной печатью», а с помощью книги рассчитывал сделать себе имя. Но не менее важно и то, что впервые здесь техника взяла на себя функцию искусства, предъявила право на художественное, в данном случае меланхолическое по настрою, постижение действительности[489]489
Левашов Вл. Лекции по истории фотографии. М., 2014. С. 30–39.
[Закрыть]. Кстати, элегичность и печаль считают важными составляющими искусства фотографии и некоторые влиятельные мыслители XX века, в частности, Зигфрид Кракауэр, Ролан Барт и Сьюзен Сонтаг[490]490
Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / пер. М. Рыклина. М., 2016. С. 81–82.
[Закрыть]. Критики отмечали грусть межвоенного Парижа на снимках Эжена Атже. В таком же меланхолическом ключе фотографии XIX–XX веков использованы Орханом Памуком в автобиографической книге «Стамбул. Город воспоминаний», написанной в начале 2000-х годов во многом как комментарий к тысячам исследованных автором фотографий. И без них эта книга, получившая Нобелевскую премию, немыслима. Сама функция воспоминания, свидетельства и «поиска утраченного времени» в фотографии обрела новое эстетическое значение.

138. Тальбот В.Ф. Лестница. Светородный рисунок из книги «Карандаш природы». 1844–1846 годы
Анри Картье-Брессон, один из крупнейших фотографов XX века, говорил, что «факт сам по себе неинтересен; интересна точка зрения, с которой автор к нему подходит»[491]491
Цит. по: Михалкович В.И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии. М., 1989. С. 15.
[Закрыть]. Его мысль можно отнести и к работе художника, и к делу писателя или историка, ведь любой исторический факт обретает для нас смысл тогда, когда он включается в череду других фактов, ясно описан и профессионально изучен. Точно так же и событие – реальное или мифическое – становится произведением искусства тогда, когда оно изображено рукой мастера с бо́льшим или меньшим успехом. Фотограф на свой страх и риск буквально вырезал из действительности приглянувшийся ему фрагмент, он переводил трехмерную реальность в двухмерную, выбирая эмульсию, зернистость бумаги, рамку для отпечатка, условия временной или постоянной демонстрации. Но он был все же во многом сродни вдумчивому читателю природы, а не писателю, изыскателю, а не созидателю. Художник и писатель выстраивали свои собственные миры из предложенного жизнью материала, своей кистью, своим пером. Фотографии пришлось доказывать свое право называться искусством довольно долго: как минимум около 1960 года вопрос оставался актуальным[492]492
Кракауэр З. Природа фильма: Реабилитация физической реальности / сокр. пер. Д.Ф. Соколовой. М., 1974. С. 13–14.
[Закрыть]. Сегодня в этом не сомневаются ни научное искусствознание, ни музеи, хранящие гигантские коллекции снимков, ни посетители выставок, ни покупатели фотоизображений. Иные оригинальные отпечатки уходят на аукционах за миллионы долларов. Добротные пособия трактуют фотографию в тех же категориях, в которых описываются другие, традиционные техники: нас учат анализировать композицию, жанры, сюжеты, свет и цвет, вопросы времени и места[493]493
Стигнеев В.Т. Популярная эстетика фотографии. М., 2011.
[Закрыть]. В фотографии, наконец, резонно находят философию[494]494
Савчук В.В. Философия фотографии. СПб., 2005. С. 9–15.
[Закрыть].
Но обыденность фотографии в эпоху смартфонов не сопоставима с относительной доступностью ее еще поколение назад. Как минимум нужно было обзавестись камерой, носить ее с собой, научиться смотреть в видоискатель, приучить глаз к кадрированию разворачивающейся перед нами действительности, ее ускользающей красоты. Так вырабатывался специфический фотографический взгляд на мир. Можно было сделать сносный кадр даже копеечной советской «Сменой», но для отпечатка книжного формата требовался хотя бы «Зенит». Нужно было, наконец, экономить фотопленку. Сегодня прекрасный уникальный кадр может сделать ребенок, случайно взяв в руки родительский телефон, потому что электронное устройство легко исправит погрешности руки и глаза. Собственно, ту же гарантию в 1890 году давала уже реклама «Кодака», первой портативной камеры с целлулоидной фотопленкой на сто кадров: «Это может сделать каждый!», «Вы нажимаете на кнопку – мы делаем все остальное». Как все массовое, это очень по-американски. Однако трудно не согласиться, что эта реклама оказалась провидческой и что появление «Кодака» сопоставимо с величайшими техническими открытиями тех лет[495]495
Хьюз Р. Шок новизны / пер. О.С. Серебряной, П.А. Серебряного. СПб., 2020. С. 20. (Арт-книга); L’aventure de l’art au XIXe siècle / dir. J.-L. Ferrier. P., 1991. P. 675.
[Закрыть]. Значит ли это, что непрофессиональный, но удачный и приемлемый технически снимок уже делает его автора мастером? Или мастер уже не нужен, если результат относится к искусству благодаря удачности, уникальности момента, выхваченного из пасти времени? После дюшанского «Фонтана», то есть спустя около ста лет, проблема художника и произведения в истории искусства обрела новое звучание, и история фотографии в этом плане отражает общую ситуацию.
Уже в середине XIX века первые восторги и гимны техническому гению, вполне типичные для эпохи научно-технической революции и философского позитивизма, сменились скепсисом. Известно, что аборигены опасались, что камера этнографа похитит часть их существа. Великий фотограф Феликс Надар (1820–1910) на склоне дней вспоминал, что такой же страх испытывал Бальзак, совсем не абориген, потому что каждый сеанс съемки отделял и расходовал один из слоев его тела, тот, на котором фокусировалась камера[496]496
Надар Ф. Когда я был фотографом. Размышления главного фотографа XIX века / пер. М. Михайловой. СПб., 2019. Дагерротип 1842 года с изображением Бальзака, созданный Луи-Огюстом Биссоном, хранится в доме-музее Бальзака в Париже (Новая история фотографии. С. 44).
[Закрыть]. Таково было ощущение самого автора «Человеческой комедии», в чем-то объяснимое его собственным творческим методом: он «фотографировал» людей с помощью пера. Бальзаку вторил его современник, датский философ Сёрен Кьеркегор: «С дагерротипом каждый может обзавестись своим портретом – прежде могли только выдающиеся люди; однако же всё направлено на то, чтобы все мы выглядели в точности одинаково. Так что нам понадобится только один портрет»[497]497
Цит. по: Сонтаг С. О фотографии: сб. эссе / пер. В.П. Голышева. М., 2018. С. 268.
[Закрыть]. Наконец, в 1861 году один из братьев Гонкур мрачновато пророчествовал в их общем дневнике, что скоро все станут поклоняться какому-нибудь богу, личность которого засвидетельствуют газеты: «Я очень хорошо представляю себе фотографию бога, да еще в очках! В этот день цивилизация достигнет своего апогея»[498]498
Гонкур Э. и Ж., де. Дневник. Записки о литературной жизни: избранные страницы: в 2 т. / пер. Д. Эпштенайте и др. Т. 1. М., 1964. С. 292.
[Закрыть].
Скептиков, как и энтузиастов, хватало. Надару принадлежат едва ли не лучшие фотопортреты многих знаменитостей XIX века, портреты глубоко продуманные, по психологическому проникновению в мир модели сопоставимые с лучшими образцами живописи. Среди них – фотопортреты Виктора Гюго и Шарля Бодлера. Оба любили Надара, которому мы обязаны, помимо прочего, первыми парижскими выставками импрессионистов в его студии на бульваре Капуцинок. Оба были неплохими рисовальщиками и относились к изобразительному искусству так же серьезно, как к словесности. Но в вопросе о фотографии их мнения резко разошлись, и это расхождение поучительно. Гюго, оказавшись в изгнании на острове Джерси в 1852–1855 годах, познакомился с тальботовской техникой печати с негатива на бумаге (точнее, конечно, на картоне) и быстро понял возможности такого рода визуальной коммуникации. Однако съемку он доверил сыну Шарлю, сам же занялся инсценировкой. Целая серия снимков показывает знаменитого писателя сидящим на Скале изгнанников и задумчиво глядящим в сторону Франции. Каждый кадр, тщательно продуманный, говорил: совесть нации, «гения без границ», как называл его Бодлер, заставили молчать, но само его молчание – красноречиво. Первый французский профессиональный фотографический журнал La Lumière («Свет») анонсировал в 1853 году специальную книгу с этими фотографиями опального семейства Гюго.
Бодлер, один из самых сложных поэтов своего времени, но настоящий певец «современного человека» и вообще «модерна», выступил в связи с проведением Салона 1859 года с уничтожающей критикой фотографии. Она оказалась под его пером типичным выразителем самых низменных инстинктов лишенной вкуса французской толпы, в фотографах он видел лишь лентяев и неудачников из цеха художников. Фотографии, лишенной какой-либо духовной ценности и не имеющей никакого отношения к художественному воображению, он в лучшем случае оставлял роль репортера, регистратора событий, служанки изящных искусств[499]499
Бодлер Ш. Указ. соч. С. 194.
[Закрыть]. С одного из его портретов работы того же Надара (илл. 139) на нас смотрит человек средних лет с очень умными глазами и с горькой усмешкой, затаившейся в сжатых губах. Он словно по каким-то причинам согласился позировать другу и замереть на пару минут, но не отказывается от своего мнения.

139. Феликс Надар. Портрет Шарля Бодлера. 1855 год. Париж. Музей романтической жизни
Три года спустя двадцать семь художников масштаба академиков Энгра и Робера-Флёри подписали открытый «протест», в котором отвергались притязания некоторых фотографов на то, что их отпечатки должны защищаться таким же авторским правом, как любая картина. Однако великий Делакруа, пользовавшийся в работе фотографиями Эжена Дюрьё, подписывать «протест» отказался, дагерротип называл «толковым словарем» природы и рекомендовал художникам почаще с ним сверяться. И это тоже по-своему симптоматично: его авторитет признавали тогда все, включая язвительного и беспощадного Бодлера. Постепенно фотопортрет заменил портретную миниатюру в качестве основной «визитной карточки», став всеобщим и относительно доступным увлечением среднего и высшего классов. Характерно, что около 1860 года Федор Достоевский сравнивал фотографию в лучшем случае с отражением в зеркале[500]500
Достоевский Ф.М. Выставка в Академии художеств за 1860–61 год // Его же. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 19: Статьи и заметки 1861. Л., 1979. С. 153.
[Закрыть]. Однако уже в «Идиоте» (1867–1869) князь Мышкин влюбляется в фотопортрет Настасьи Филипповны, увидев неизбывную печаль в ее прекрасных глазах, а в «Подростке» (1874–1875) Версилов утверждает, что камера имеет точку зрения, что она может показать Наполеона глупым, а Бисмарка – нежным[501]501
«Фотографические снимки чрезвычайно редко выходят похожими, и это понятно: сам оригинал, то есть каждый из нас, чрезвычайно редко бывает похож на себя. В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот момент, в который он списывает, и не более ее вовсе в лице. Фотография же застает человека как есть, и весьма возможно, что Наполеон, в иную минуту, вышел бы глупым, а Бисмарк – нежным» (Достоевский Ф. М. Подросток // Указ. соч. Т. 13: Подросток: роман. Л., 1975. С. 370).
[Закрыть]. Это кое-что говорит как об эволюции писателя и реализма в литературе, так и об искусстве светописи. Оно обрело «точку зрения» и получило хорошее техническое оснащение для воплощения индивидуального взгляда на мир профессионального фотографа.
Сегодня фотопортреты XIX века несут на себе очарование ушедшей – но не очень далеко – эпохи. Они делают вторую половину этого столетия принципиально более близкой, чем эпоху Наполеона и Пушкина, известную лишь по живописным и скульптурным портретам. Кое-что в старых снимках, даже в тех, что не претендовали на уникальность, конвейерных, объяснимо техническими обстоятельствами. В частности, выдержка из-за низкой светочувствительности носителя вначале была очень длительной, до нескольких минут. Оптика давала специфические искажения фигуры, непривычные для «классического глаза», привыкшего смотреть на лицо и тело, исправленные художниками, с их классической же выучкой. В этой ситуации модель ставили или сажали в особую позу, голову сзади иногда поддерживали специальным кронштейном, и портретируемый, замирая, не моргая и затаив дыхание, должен был фактически врасти в свой собственный образ, слиться с интерьером или пленэром. Неудивительно, что даже складки сюртука или платья на таких старых снимках исполнены пафоса, выглядят монументально, чуть ли не эпически. Так же эпически, как, скажем, на замечательном портрете Луи-Франсуа Бертена кисти Энгра (1832). Фотограф учился у художника, подражал ему. И если время на его отпечатке остановилось, значит, ему удавалось выполнить одну из великих задач изобразительного искусства, причем к обоюдной радости фотографа и модели.
Съемка XIX века по определению предполагала позирование, инсценировку, бутафорию студии или «подобранный» пейзаж. В какой-то степени она была даже ритуалом, таковым оставалась во многих странах и в XX столетии. Вспомним хотя бы «На фоне Пушкина снимается семейство…» Окуджавы. Прямым наследником такого описанного в песне «обряда» предшествующих поколений являются и фольклорное cheese, и «обряд» селфи: для иных он столь же необходим, как посмотреть на себя в зеркало перед выходом из дома. Сначала селфи было способом коммуникации с самим собой, самоанализом, теперь это – общение с миром. Ритуализованность фотографии как процесса коммуникации между фотографом, обществом и властью нельзя преуменьшать. Например, в коммунистическом Китае, естественно, фотографирование было возможно лишь для отражения единственно правильного, заданного властью взгляда на вещи, людей и события. По образному выражению Сьюзен Сонтаг, в такой ситуации фотокамера попросту призвана внести свой вклад в «Великий Монолог»[502]502
Сонтаг С. Указ. соч. С. 225.
[Закрыть]. В какой-то степени ее слова можно отнести и к СССР после 1930 года, когда движение революционного авангарда постепенно свернулось, и вообще к любой социополитической ситуации, в которой коммуникация контролируется. Однако наличие такого контроля вовсе не отрицает наличия фотографии как искусства[503]503
Стигнеев В.Т. Век фотографии, 1894–1994: очерки истории отечественной фотографии. М., 2010. С. 79–96; Honnef Kl. Eine Aporie der Avantgarde. Thesen zur neuen Photographie der Zwanziger Jahre // Russische Photographie. 1840–1940: Kat. zur Wanderausst. Berlin, 1993. S. 73–79.
[Закрыть].
Вернемся в XIX столетие. Действительно, постановочность ранней фотографии может многое поведать о духе западной цивилизации с ее церемонностью, основательностью, «позой». Глядя на Ференца Листа на фотографии Надара, мы, скорее всего, предпочтем ее академическому, театральному портрету великого композитора кисти Франца фон Ленбаха. И дело не только в том, что на фотографии он смотрит на нас, а на картине – в небеса, видимо, в поисках вдохновения. Как верно предупреждает великий скептик Эрнст Гомбрих, мы на самом деле вряд ли сможем посмотреть на фотографию глазами ее современника[504]504
Gombrich E. The Image and the Eye… P. 105–136.
[Закрыть]. Когда император Наполеон III с подкупающей простотой глядит на нас со снимка Эжена Дисдери (ок. 1860 г.), готовый разделить с нами чашку чая, это все равно один из ликов власти, заигрывающей с подданными. В конечном счете, это тоже визуальная режиссура, социальная игра, «драматизированное жизнеописание», как сказал тогда же Бодлер. Карл V на одном из портретов кисти Тициана (1548 г. Мюнхен. Старая пинакотека) общается со зрителем не менее «по-свойски», и зритель не знает, что цена этой «короткости» с императором – тяжелая болезнь, фактически не позволявшая двигаться властелину империи, над которой никогда не заходило солнце. И портрет Тициана, и фотография Дисдери – этикетны. Королева Виктория восседает на своем пони на снимке Джорджа Уилсона (1863): ее шотландский грум смотрит на зрителя с британским спокойствием, которому созвучны складки королевской юбки, торжественно покрывающей круп пони. Не смеющая переступить с ноги на ногу лошадь, конюх, попавший в такой кадр, поскольку ему положено следить за поведением животного, ее величество без парада, абстрактный высветленный фон – всё в этой фотографии создает ощущение интимности и одновременно надежности, уверенности в завтрашнем дне (илл. 140).

140. Уилсон Дж. Королева Виктория на пони Файви с грумом Джоном Брауном в шотландском поместье Балморал. 1863 год.
Но и техника не стояла на месте. Уже Тальбот фотографировал крылья насекомых и семена одуванчика. В 1858 году неугомонный Надар поднялся с фотоаппаратом в воздух на воздушном шаре, а потом спустился в чрево Парижа, в катакомбы, где опробовал искусственное освещение вместо непостоянного парижского солнца. Анастигматические объективы сделали изображение более четким, фотометры позволили лучше измерять время экспозиции, ортохроматическая пленка стала лучше отражать в черно-белой печати цветовые контрасты реальности. Наконец, различные виды фотобумаги стали передавать разнообразные художественные эффекты. В 1880-е годы Эдвард Майбридж впервые с помощью хитроумного и дорогостоящего оборудования зафиксировал движения обнаженных спортсменов и спортсменок (илл. 141), людей, несущих кирпичи, скачку на лошадях, бег собаки и движения других животных. Его опыты поддержали калифорнийский миллионер Стэнфорд и университет Пенсильвании. В результате доказали, что лошадь в галопе отрывает от земли все четыре ноги одновременно[505]505
Одновременно схожую работу с помощью фотоаппарата и рисунка проводил французский ученый Этьен-Жюль Маре.
[Закрыть]. Сотни снимков были опубликованы на потребу ученым и художникам, которые впервые получили возможность изучать физиологию движения животных и человека. И действительно, провести прямую линию от открытий Майбриджа к живописи и скульптуре эпохи авангарда несложно: достаточно вспомнить динамические композиции футуристов или «Обнаженную, спускающуюся по лестнице. № 2» Марселя Дюшана. Дюшан не отрицал, а подчеркивал, что вдохновлялся «высокоскоростной» фотографией. Когда широкая общественность увидела серию фотографий, на которой движение человека распределено по коротким фазам, сам собой встал вопрос о движущемся изображении: в 1895 году братья Люмьер положили начало искусству кинематографа.

141. Майбридж Э. Переход ручья по камням с удочкой и лейкой. 1887 год. Вашингтон. Национальная галерея искусства
Мы много рассуждали о портретах. Между тем светопись, родившись для фиксации действительности, фактически сразу вышла на улицу. В начальной фазе фотография, ища место под солнцем, должна была запечатлевать нечто значительное. Вскоре, как часто бывает в истории культуры, произошла инверсия: фотография стала объявлять значительным то, что запечатлевала. Но разве не то же сделали в середине XIX века литература и живопись? Вспомним «Похороны в Орнане» (1849–1850). На шедевре Гюстава Курбе запечатлено с беспристрастностью репортажа абсолютно рядовое событие в глубоко провинциальном невзрачном городке. Неопределенный артикль в названии контрастировал с эпическим масштабом полотна и подсказывал почтенной столичной публике, что и это – Событие. Импрессионисты оценили манифест и продолжили дело первого «реалиста». Второе поколение фотографов, работавших во второй половине XIX века, уже чувствовало себя эдакими фланёрами, о которых они читали в популярных романах своего времени, но вооруженными спецоборудованием, бытописателями. Их прямые наследники – такие великие фотохронисты Парижа, как Робер Дуано, Эжен Атже и венгр Андор Кертес, основатели фотожурналистики первой половины XX века. Другое дело, что до появления в начале нового столетия компактных камер невозможной оставалась скрытая съемка, без которой немыслима и фотожурналистика.
Некоторые фотографы считали возможным живописное вмешательство в создание отпечатка, то есть ретушь, а также монтаж из нескольких фотографий, практикующийся по сей день[506]506
Стигнеев В.Т. Поэтика фотомонтажа (в докомпьютерную эпоху) // Фотография. Проблемы поэтики / сост. В.Т. Стигнеев. 3-е изд. М., 2011. С. 183–201.
[Закрыть]. Довольно скоро возникло даже стилистическое направление, которое иногда называют не слишком благозвучной калькой с английского – пикториализмом, то есть, по сути, «живописностью»[507]507
Truth Beauty: Pictorialism and the Photograph As Art, 1845–1945. Vancouver, 2008.
[Закрыть]. В России около 1900 года его иногда называли аллюзионизмом (т. е. стилем «намеков») или – до появления одноименного движения в живописи – лучизмом. Отвечая на прогресс техники, многие фотохудожники, что называется, держались «старины», не пользовались новыми объективами, возродили уже забытую к тому времени гумбихроматную печать, изобретенную в 1850-е годы. Она позволяла работать с разными цветами, накладывая их слоями, в том числе вручную. Но главное, фотокарточка оставляла впечатление маленькой картины, чего-то уникального, благородного и высокохудожественного. Говоря словами англичанина Альфреда Хорсли Хинтона, авторитетно защищавшего новое движение, пикториалисты использовали «изображения конкретных вещей для создания абстрактных идей»[508]508
Hinton A.H. Practical Pictorial Photography. L., 1902. P. 13.
[Закрыть].
Стилистического единства в движении не было, как нет в истории фотографии настоящих школ или стилей с четко очерченными границами и прописанными кем-то принципами. Пейзажист Хинтон пользовался четким фокусом для достижения эффекта глубины и фактурных облаков, которых так не хватало ранним фотопейзажам. Другие мастера, например, американец Эдвард Стайхен, применяли мягкий фокус как в пейзажах, так и в портретах (илл. 142). Современникам бросалась в глаза близость такого визуального эффекта целому ряду направлений в живописи: прерафаэлитам, импрессионизму, символизму и венскому Сецессиону. Специфическая фотографическая размытость, дымчатость, пелена многими ценилась за лиричность и субъективность в пику общей резкости и четкости линий, визуально гарантировавших объективную «правду». Характерно, впрочем, что фотоискусство уже сто пятьдесят лет успешно использует эту дилемму мягкого и резкого фокуса.

142. Стайхен Э. Тереза Дункан на Акрополе. 1921 год
Связь с развитием живописи логична, потому что большинство примыкавших к пикториализму фотографов вышло из художников. Все серьезные фотохудожники как минимум хорошо знали историю искусства и понимали, что она представляет собой диалектическую борьбу линии и пятна. Поэтому, например, и в жанровых композициях, и в портретах Джулии Маргарет Камерон 1860–1870-х годов нетрудно найти влияние ренессансной живописи. На одном из первых заседаний Русского фотографического общества в 1895 году издатель Аполлон Карелин призывал подражать именно импрессионистам, в том числе с помощью монтажа нескольких негативов. Ему дали мягкий, но однозначный отпор: журнал «Фотограф-любитель» выразил общее мнение, что картины старых мастеров представляют собой лучшие образцы для современных фотографов. Пикториализм оживил дискуссии о статусе и границах фотографии, которые гремели в прессе, художественных академиях и быстро расплодившейся по всему миру профессиональной периодике[509]509
В России до революции возникло тридцать три журнала (Головина О.С. Русская фотографическая периодика (1858–1918) // Фотография. Изображение. Документ. Вып. 1. 2010. С. 55–74).
[Закрыть]. Представим себе, какой эффект на эстетов и профессуру, участников Международного конгресса истории искусства, проведенного в Риме в 1912 году, произвели первые доклады, которые сопровождались показом слайдов. Именно тогда история искусства стала наукой, и без помощи фотографии это вряд ли было бы возможно.
В рамках собственно профессионального цеха художническому настрою всегда противостояла и эстетика верности натуре и мотиву, прямая фотография, как ее иногда называют[510]510
Левашов Вл. Указ. соч. С. 231.
[Закрыть]. В самой гуще жизни, в городской толпе, в движении транспорта фотографы учились находить картины, в которых мог выразиться их индивидуальный взгляд на мир[511]511
Баннел П. Новая фотография. Трансформация пикториализма // Новая история фотографии. С. 311.
[Закрыть]. Такова ситуация конца XIX века, когда взошла звезда американского фотографа Альфреда Стиглица (1864–1946), очень много сделавшего для утверждения самостоятельной ценности фотографии. В 1893 году он мог простоять несколько часов под ньюйоркским снегопадом и океанским ветром посреди Пятой авеню в ожидании конки. А конку еще нужно было поймать в объектив далеко не совершенной портативной камеры. Так появились знаменитые фотографии «Зима. Пятая авеню» (1893) и «Конечная станция» (илл. 143): на первый взгляд, это не более чем жанровые сценки, причем для нью-йоркских фотографов не новые. Но именно они стали вехами в истории фотографии.

143. Стиглиц А. Конечная станция. Нью-Йорк. 1892 год
Нетрудно найти общие черты между работами Стиглица и картинами импрессионистов, потому что, не будучи репортером, в таких фотографиях он стремился захватить жизнь врасплох, без прикрас, как бы доверяя прихоти взгляда – но прихоти глубоко продуманной, иногда «пикториальной», иногда «прямой». Стиглиц прекрасно знал историю старого и нового искусства, но он был также отлично подкован в химии: его путь к фотографии начался в берлинской Высшей технической школе, где он в 1880-е годы с профессором Германом Вильгельмом Фогелем работал над увеличением чувствительности фотоматериалов. Техническую дотошность в подходе к фотоматериалам он сохранил до конца своих дней. Но и в этом он – художник. Потому что художник всегда заботится о качестве красок.
Как настоящий крупный мастер, Стиглиц все время искал новые пути, источники вдохновения и темы: отсюда, например, глубоко новаторские многочисленные портреты его возлюбленной Джорджии О’Кифф, в том числе фрагментарные ню. Но не менее обворожительны и этюды облаков в поздней серии «Эквиваленты»[512]512
С фотографиями из его коллекции, включающей и работы Джорджии О’Кифф, можно познакомиться на сайте Национальной галереи искусства США: https://www.nga. gov/collection-search-result.html?artobj_credit=Alfred%20Stieglitz%20Collection&pageSize =30&pageNumber=2 (date of access: 18.02.2022).
[Закрыть]. В его журнале Camera Work публиковались работы всех стилей и крупнейших мастеров. Более того, будучи человеком влиятельным, успешным галеристом и – в начале XX века – лидером неформальной группы «Фото-Сецессион» (по аналогии с венским художественным течением Сецессион), он поддержал приход в США французского авангарда и выступил одним из инициаторов и спонсоров Арсенальной выставки. Оригинальный «Фонтан» Дюшана, знаковый для всей истории XX столетия, вообще известен лишь по фотографии Стиглица. Резонно считать его не только реформатором и популяризатором фотографии, но и человеком, без которого история искусства пошла бы иначе.
Эдвард Стайхен, некоторое время работавший бок о бок со Стиглицем, тоже испробовал все виды фотографии, от художественной до коммерческой, фактически создав славу Vogue и парадигму модного журнала XX века. После Второй мировой войны он возглавил отдел фотографии нью-йоркского Музея современного искусства. Его мегавыставка «Семья человеческая» 1955 года стала едва ли не поворотным пунктом в истории фотографии[513]513
Teh Family of Man: 60th anniversary ed. N.Y., 2015.
[Закрыть]. Открывшись в Нью-Йорке, она объехала тридцать семь стран на всех континентах, включая СССР, ее посетили более девяти миллионов человек. Цель Стайхена состояла в том, чтобы показать Человека Человеку на всех концах мира, как писала, обращаясь к коллегам, его подруга Доротея Ланге, тоже крупный фотограф. Организаторы хотели привлечь внимание широкой публики к жизни человека во всех ее проявлениях и в разных странах и одновременно показать гуманистическое призвание фотографии в эпоху холодной войны. Поэтому были выбраны полтысячи фотографий двухсот семидесяти трех фотографов из шестидесяти восьми стран, впрочем, с ощутимым преобладанием работ из США и стран Западной Европы (илл. 144).

144. Ланге Д. Мать-мигрантка. 1936 год. Вашингтон. Библиотека Конгресса
Стайхен не ошибался, когда утверждал в связи с проведением выставки, что фотография – единственный язык, не нуждающийся в переводе. Даже кинематограф, получив звук, при всей его популярности и одновременно многогранности и сложности, нуждался в переводе. А всякий перевод, в том числе кинематографический, уже есть интерпретация, не говоря о дубляже. Фотография была чисто иконическим посланием. Выставка имела огромный успех, несмотря на авторитетные скептические голоса. Например, Ролан Барт в «Мифологиях» приписал ее парижскую версию к современным мифам как образец конвенционального гуманизма – как раз из-за того, что дети всех народов, по его мнению, на этих фотографиях рождаются и умирают абсолютно одинаково[514]514
Барт Р. Мифологии / пер. С.А. Зенкина. М., 2008. С. 246–249. (Философские технологии. Структурализм).
[Закрыть]. Ему вторила и Сьюзен Сонтаг. Тем не менее коллекция оригиналов, оказавшаяся на родине Стайхена, в Люксембурге, в 2003 году была объявлена ЮНЕСКО культурным наследием человечества, и такой чести фотографии ранее не заслуживали.
Мнения ценителей, искусствоведов и других профессионалов могли расходиться в деталях и тональности. Но сама дискуссия подтвердила важный факт. Задолго до стайхеновской выставки, сразу после Первой мировой войны, стало ясно, что и серии портретов, и быстрая «прямая» съемка, репортаж превратили фотографию в оружие, очень сильное и опасное, хотя бы потому, что она полноправно вошла в прессу и книжную печать. Это, с одной стороны, изменило контакт зрителя и фотоснимка: вместо оригинала он чаще всего держал в руках репродукцию; а с другой – принципиально расширило аудиторию и способ коммуникации. Отныне фотохудожник не только выражал свою картину мира для круга знатоков, но и формировал картину мира целого народа и даже народов.
Эту новизну прекрасно уловил Вальтер Беньямин, посвятивший фотографии небольшое эссе в 1931 году. Его «Краткая история фотографии» многое предвосхищает из появившегося через пять лет исследования «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Со свойственной ему иронией он констатирует, что «воздействие фотографических репродукций произведений на функции искусства гораздо важнее, чем более или менее художественная композиция фотографии, “схватывающей” какой-либо жизненный момент. В самом деле, возвращающийся домой фотолюбитель со множеством сделанных художественных снимков представляет собой не более отрадное явление, чем охотник, возвращающийся из засады с таким количеством дичи, которое имело бы смысл, только если бы он нес ее на продажу. Похоже, что и в самом деле иллюстрированных изданий скоро станет больше, чем лавок, торгующих дичью и птицей»[515]515
Беньямин В. Краткая история фотографии // Его же. Судьба и характер. С. 167.
[Закрыть]. Беньямин многое предвидел, в том числе исчезновение дичи с прилавков и современную жизнь, заполненную репродукциями. Однако за его иронией мы должны различить глубокое понимание коммуникативных и эстетических функций фотографии в современном мире.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































