Текст книги "16 эссе об истории искусства"
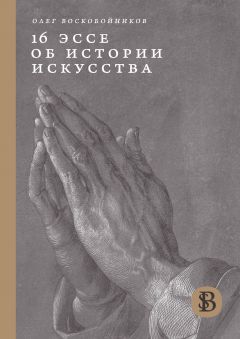
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Лабиринты XX века

Международное законодательство предполагает свободное перемещение произведений искусства. Это правило действовало и в США в октябре 1926 года, когда два десятка скульптур Константина Бранкузи прибыли на нью-йоркскую таможню. Сняв упаковки, таможенники оказались в замешательстве: они не усмотрели в представших перед их глазами «предметах» (англ. objects) привычных характеристик художественной ценности – и выписали счет на выплату сорока процентов декларированной стоимости ввозимого товара. В качестве компромисса – Бранкузи все же не был выскочкой – спорные предметы получили право свободного въезда на американскую землю, их выставили в галерее Браммера, но в случае продажи пошлина взыскивалась, либо они должны были вернуться в Париж. Эдвард Стайхен купил «Птицу в пространстве» и, естественно, пошел в суд[545]545
Brâncuși contre États-Unis. Un procès historique, 1928. P., 1995.
[Закрыть].
Как годовое рассмотрение этого дела в суде, так и решение судьи от 28 ноября 1928 года показательны для истории искусства всего столетия. Правовая коллизия по-прежнему актуальна: сегодня специальные эксперты министерств культуры определяют в каждом конкретном случае, что искусство (не подлежащее обложению пошлиной как культурное достояние), а что – коммерция. Стайхен и его сторона доказали тогда, что предмет – не утилитарен и не «серийный», то есть создан именно художником. Но искусство, возражала другая сторона, вроде бы в той или иной мере подражает природе. Доказать сходство с птицей зрячим добропорядочным участникам судебного разбирательства оказалось непросто. Отдадим должное американскому суду: он признал, что определение произведения искусства как чего-то подражающего природе, зафиксированное судебным казусом 1916 года, уже не имеет прежней силы. «Мы думаем, что в прошлом суд, конечно, не причислил бы ввезенный предмет к категории произведений искусства. Но в последнее время развилась художественная школа, называемая современной (modern), ее сторонники стремятся изображать абстрактные идеи, а не имитировать естественные предметы. Независимо от того, нравятся нам авангардные идеи и воплощающие их школы, мы считаем, что их существование и влияние на мир искусства – факт, который суд признаёт и должен принимать во внимание»[546]546
Цит. по: Riout D. Op. cit. P. 12. Впрочем, в 1939 году все та же американская таможня арестовала на вывозе серию полотен Мориса Утрилло, к тому времени признанного французского художника, за то, что его виды Парижа, по мнению таможенников, представляли собой репродукции открыток, то есть продукты производства, а не произведения искусства. Естественно, последовал скандал, художник выиграл суд.
[Закрыть].
Мы начали наш разговор со споров об определении предмета истории искусства, которые ведутся по сей день, и вернулись к тому же. Между тем в 1920-е годы спор не был чем-то неслыханным. «Олимпия» молодого Мане, вдохновленная «Венерой Урбинской», произвела настоящий скандал в салоне 1865 года, потому что обнаженная (и узнаваемая!) девушка смотрела на каждого благовоспитанного буржуа словно на своего клиента, только что вручившего ей букет за оказанную услугу. Однако никто не сомневался, что она смотрела с картины. Достаточно было фыркнуть и пойти дальше, чтобы самому не сделаться предметом насмешек[547]547
L’aventure de l’art au XIXe siècle… P. 556; Вентури Л. Указ. соч. С. 15.
[Закрыть]. Полвека спустя искусство изменилось настолько, что далеко не во всем, что выставлялось, легко было признать экспонат. Между тем в салоне или в музее благовоспитанному посетителю следовало уметь себя вести, держать осанку и как-то выражать свое мнение по поводу выставленного, не ударить лицом в грязь, не показаться глупцом или невеждой. Даже Пикассо, Кандинский, Брак и Мондриан, которые изобрели новую живопись, не поставили под вопрос факт существования картины, ее предметность, чтойность. Дюшан своим (уже не раз упоминавшимся здесь) писсуаром 1917 года снес последний бастион, совершил революцию, не беря Зимнего дворца. Теперь нужно было думать не о том, что должен или не должен изображать художник, а о том, что есть искусство, если искусство – все что угодно. И существует ли оно вообще? И если да, то в каком виде оно должно предъявляться?
18 октября 1905 года в Большом дворце на берегу Сены открылся Осенний салон под председательством Огюста Ренуара и Эжена Каррьера. Помимо ретроспектив Энгра и Мане он включал 1636 картин современных французских художников. Искусствовед Эли Фор в предисловии к каталогу салона приглашал заинтригованного посетителя «найти в себе смелость и желание понять абсолютно новый язык»[548]548
L’aventure de l’art au XXе siècle… P. 62.
[Закрыть]. В одном из залов несколько молодых художников действительно обратились к зрителям на языке взбунтовавшихся красок: «Женщина в шляпе» Матисса, «Долина Сены в Марли» Вламинка, несколько «Видов Коллиура» Дерена, «Вид Аге́» Альбера Марке́ (илл. 146). «Они швырнули банку краски в лицо публике!» – возмутился Камиль Моклер на страницах Le Figaro. Посреди этого пожара очень консервативно настроенный критик Луи Воксель увидел изящный бронзовый «Торс мальчика» Марке́ и нашел такую формулу: «Белизна этого бюста поражает посреди оргии чистых тонов. Просто Донателло в клетке с диким зверьем»[549]549
Ibid. P. 63.
[Закрыть]. Формула ему самому понравилась, и он повторил ее в связи с той же удивительно нежной, очень «парижской» матиссовской «Женщиной в шляпе»: «христианскую девственницу бросили на съедение хищникам», livrée aux fauves. «Дичь» среди художников, вознамерившихся поколебать утвердившийся в салонах импрессионизм, получила крещение. И это те «хищные звери», которых мы называем сглаживающей углы калькой, ничего не говорящей русскому уху: фовисты.

146. Марке А. Вид Аге. Около 1905 года. Париж. Музей Орсе
В смысле работы с цветом фовисты вовсе не были таким уж хищниками или дикарями: напротив, цвет стал их законом и дисциплиной. Иные их преемники, вроде Хаима Сутина, пошли намного дальше. Этой своей «дичью» XX век многих ставит в тупик, в том числе, естественно, меня. При всей его близости к нам, он одновременно и слишком далек, и слишком велик. В школе история XX столетия проходится бегом, на последнем дыхании, перед выпускными экзаменами. Чтобы осмыслить и описать этот век как целое, нужны то ли талант Эрика Хобсбаума, то ли безжалостная и горькая ирония Элиаса Канетти, попытавшегося «схватить свое столетие за горло»[550]550
Эти слова Канетти внес в записную книжку, закончив свой главный роман «Масса и власть» (Канетти Э. Заметки. 1942–1972 / пер. С. Власова // Его же. Человек нашего столетия: художественная публицистика / сост. Н.С. Павлова. М., 1990. С. 290. (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза)).
[Закрыть]. На выставке искусства XX века с непривычки недолго задаться вопросом, при чем здесь искусство. Стоя перед «Черным квадратом», вполне серьезный политик может со всей ответственностью заявить, что предпочитает «реализм» – и пойдет в соседний зал, к Герасимову: там он хотя бы узнает персонажей, включая собственных предшественников.
Приемы описания и анализа памятника, в том числе те, которые я попытался представить в предыдущих главах, либо дают сбой, либо попросту неуместны: что скажешь о «Черном квадрате»? Что это черный квадрат на белом фоне и что, как мы узнаем от гида, «фон» и «сюжет» покрыли не понравившуюся Малевичу кубофутуристическую композицию, пылившуюся в мастерской? Присмотревшись, мы действительно обнаружим какие-то цветные пересекающиеся геометрические фигуры, со временем проступившие сквозь асфальтовую черноту из-за неудачного эксперимента с красками. Нам, конечно, помогут заявления автора о первоформе, о том, что «Черный квадрат» – его «самая беспредметная работа». Но перед нами – только черный квадрат на белом фоне, да еще и растиражированный затем самим же творцом супрематизма. Помимо реставрации, полотно, ставшее одним из символов современного искусства, если не всего модерна, потребовало размотать целый клубок обстоятельств и авторских мистификаций, прежде чем картина, что называется, прояснилась[551]551
Как сообщает Ирина Вакар, на белом фоне обнаружены следы авторской карандашной надписи «Битва негров», далее одно слово не читаемо. Это, безусловно, намек на картину французского художника Поля Бийо «Битва негров ночью» (1882), представлявшую собой черный прямоугольник. За ней последовали монохромные композиции его друга Альфонса Алле. Возможно, что оба пародировали некоторые поиски импрессионистов, бравшихся писать белые пейзажи, используя в качестве мотива то туман, то снег. То, что в случае с «Черным квадратом» впоследствии стало манифестом, рождалось, возможно, как пародия и шутка, до которых Казимир Малевич был не менее охоч, чем до поиска абсолюта (Вакар И.А. Казимир Малевич. «Черный квадрат». М., 2015. (История одного шедевра)).
[Закрыть].
В подобное нелепое положение нас поставит целый ряд крупнейших мастеров прошедшего столетия, от Пита Мондриана и Марка Ротко до Лучо Фонтаны и Барнетта Ньюмана. Чтобы научиться описывать, понимать и любить (!) живопись XX века, нужен свой язык и особая оптика[552]552
Thompson J. How to Read a Modern Painting: Understanding and Enjoying the Modern Masters. L., 2006.
[Закрыть]. Пригодится ли Вёльфлин, с его «основными понятиями» и противопоставлением Ренессанса и барокко, когда возьмешься описывать бионику, хай-тек или деконструктивизм Фрэнка О. Гери и Захи Хадид? Или деконструктивизм постройки (что уже оксюморон, ведь постройка по определению конструкция) логичнее осознавать в категориях деконструкции логоса Жака Деррида? Возможно, мы, наследники XX столетия, живем в эпоху оксюморонов.
И впрямь, картина уже в 1919 году может быть трехмерной и вполне зримо выходить за свою раму, выставив на зрителя выломанные из забора крашеные доски и фрагменты мебели. Макс Эрнст сознательно назвал такую «картину» «Плодом многолетнего опыта». Александр Архипенко, скульптор-кубист, оказавшись в 1924 году в Нью-Йорке, придумал для новой формы название: архиживопись, фр. archipeinture. Его холсты должны были приводиться в движение спрятанными моторами. Неудивительно, что тогда же зашевелилась и скульптура. И даже если она не двигалась, ее отношения с пространством оформлялись в абсолютно немыслимых еще в 1900 году формах и материалах. Анри Лоран в 1916 году собрал «голову» (кажется, женскую) из обломков мебели и свернутого в кудряшки железного листа. Глядя на подобные произведения, понимаешь, что пластическая форма, в привычном со времен фараонов смысле, попросту перестала существовать. Зато она открылась окружающему пространству, можно сказать, разверзлась.
В поздней, но развивающей раннюю тему работе конструктивиста Наума Габо «Конструктивистская голова номер 2» 1950-х годов полностью отсутствуют масса, объем, плотность (илл. 147). Из пересекающихся стальных пластин выстраивается образ изящной девушки, сложившей на груди руки и к чему-то прислушивающейся. Но важно не только то, что мы видим ее характер, а то, что мы буквально можем проникнуть в мир героини, стать ею самой. Потому что поверхности больше нет, а есть потоки света, и они-то, играя на поверхностях и изгибах, создают наше впечатление о предмете. Как нет – рискнем провести такую параллель – фасада у небоскреба Миса ван дер Роэ, спроектированного в 1921 году, а есть свет и воздух, вошедшие внутрь монументальной постройки, заполнившие собой то, что прежде было массой и объемом. И вместе с тем его первые настоящие небоскребы, в Чикаго и Нью-Йорке, – настоящие кристаллы на фоне «старых» небоскребов первой половины XX века. Такой же почтенной (и совсем не высокой) матроной смотрится на фоне Москвы-Сити гостиница «Украина», одна из высоток постройки 1950 года, когда смотришь на нее с Новоарбатского моста.

147. Габо Н. Конструктивистская голова номер 2. 1952–1957 годы. Лондон. Британская галерея Тейт
В 1915 году Владимир Татлин выставил одновременно с «Черным квадратом» свой «Угловой контррельеф (с тросами)»: он натянул под наклоном несколько тонких тросов, пропустив их через несколько отрезов меди и железа, а к ним привинтил пару досок. Этим он попытался изменить традиционные представления о соотношении живописной плоскости и пространства. Что перед нами? Рельеф? Картина? Пространственная форма? В 1919 году он взялся за четырехсотметровый памятник III Интернационалу с тремя вращающимися посреди гигантской башни залами собраний. Это скульптура или архитектура? Или метафора великих чаяний революционного поколения? При Сталине в Советском Союзе мечтали о главном здании страны, Дворце Советов, который послужил бы архитектурным постаментом для стометровой статуи Ленина. И даже успели заложить фундамент. Не только границы жанров и техник, но и границы видов искусства пришли в движение.
В 1923 году Огюст Перре, которого мы уже знаем по гаражу, выстроил в городке Ле-Ренс под Парижем церковь в честь Девы Марии Утешительницы (илл. 148). Муниципалитет предоставил ему триста тысяч франков, совершеннейший вздор для столь масштабной постройки. Архитектор принял это как творческий вызов и выстроил классическую трехнефную базилику, но из бетона, с разрешеченными геометрическими фигурами стенами, удивительно светлую внутри, с колоннами всего тридцать пять сантиметров в диаметре и без сложной и дорогостоящей системы опор. Колокольня показалась современникам слишком строго геометрической, однако они не преминули тут же назвать храм «железобетонной Сент-Шапель», одновременно иронично и нежно[553]553
Постройки вообще нередко получают подобные прозвища независимо от воли создателей и заказчиков. Вспомним фостеровский «Корнишон» в центре Лондона. С такой же легкостью острословы уже окрестили «храмом цвета хаки» только что выстроенный патриарший собор Воскресения Христова в Кубинке, главную церковь Вооруженных Сил Российской Федерации.
[Закрыть]. Убежденный агностик выстроил церковь и одновременно доказал эстетические и метафизические притязания того материала, который только что принято было скрывать как минимум за штукатуркой. Сегодня поэзия неприкрытого бетона и стекла, конечно, уже никого не удивит – достаточно посмотреть на здание Национальной ассамблеи Бангладеш в Дакке Луиса Кана (1961–1982), его же библиотеку Академии Филлипса в Эксетере (1965–1972) или гигантское новое здание Национальной библиотеки Франции в Париже (1996).

148. Интерьер церкви Нотр-Дам-дю-Ренс. Архитектор Огюст Перре. 1922–1923 годы. Ле-Ренс
* * *
Парадоксальность произведений эпохи авангарда и все, что произошло потом, уничтожение самых привычных границ между техниками и жанрами многих ставили и ставят в тупик, даже Хобсбаума. Для него «крах» авангарда – такой же симптом «разломанного времени», «с привкусом отчаяния», как и вся история прошедшего столетия[554]554
Хобсбаум Э. Указ. соч. С. 303.
[Закрыть]. Валерий Турчин, один из лучших наших знатоков искусства XX века, в своих книгах чаще описывал то, что вне картин, а не то, что на них. Словно бы смысл их не в изображенном, а в неизображенном, в том, что где-то рядом или по ту сторону образа. В результате у него вышел лишь «образ двадцатого», в чем автор сам же меланхолично признаётся на первых страницах[555]555
Турчин В.С. Указ. соч.
[Закрыть]. «Масса и власть» Элиаса Канетти – великая книга о XX веке, в которой сам век не упоминается. Даже Эрнст Гомбрих, автор самой популярной в мире обзорной истории искусства, на склоне дней сожалел, что включил в свою историю «хронику модных событий»[556]556
Гомбрих Э. История искусства. С. 599.
[Закрыть]. Нина Дмитриева, не вдаваясь в разъяснения, закончила на книгу милых ее сердцу Ван Гоге и Врубеле, двух величественных и трагических фигурах 1900 года. Ганс Зедльмайр, анализируя форму и содержание произведений XIX–XX веков, счел возможным и вовсе поверх профессорской мантии надеть белый халат и описать все, что произошло у него на глазах, как тяжелую болезнь всей цивилизованной Европы, забывшей и Бога, и человека, и собственные великие соборы[557]557
Зедльмайр Х. Утрата середины… С. 153–198. Впрочем, и Нина Дмитриева не побоялась завершить свою книгу утверждением, что Врубель, «гениальный художник, но слабый человек», – «надорвался» (Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2000. С. 615). В чем именно измеряется «гениальность», а в чем, в данном случае, «слабость», не уточняется.
[Закрыть]. Государственное управление искусством в Советском Союзе одним из следствий имело семидесятилетнюю изоляцию многомиллионной страны от почти всего, что происходило за рубежом, другим – выкорчевывание нонконформистских тенденций, третьим – пустоту в библиотеках и музеях, стагнацию художественной критики и научного изучения современного искусства. Немногочисленные исключения из правила погоды не сделали: официально искусства XX века в СССР предпочли не заметить.
Гомбрих резонно говорит о необходимости временно́й дистанции для того, чтобы историк мог оценить место каждого явления именно в истории. Представим себе такого историка искусства, которому пришлось бы исторически подвести черту своему времени, скажем, в 1890 году: вряд ли там нашлось бы место неуравновешенному голландцу Ван Гогу, болезненному норвежцу Мунку и жившему на Таити с аборигенами французу Гогену. Львиная доля имен в «Салонах» Дидро и в «Салонах» Бодлера ничего нам не говорит, но все они были на слуху и на виду у ценителей XVIII и XIX столетий.
Талантов, признанных лишь после смерти, хватало и на рубеже веков, и в эпоху авангарда. Модильяни любили друзья, его преждевременный уход в конце войны оплакивали в Париже и в Италии, но всемирная слава пришла к нему лишь посмертно. Анри Руссо по прозвищу Таможенник почти в пятьдесят лет, в 1893 году, вышел на пенсию ради живописи, которой не учился. Подрабатывал уроками сольфеджио и игрой на скрипке на перекрестках. Он писал маслом словно увиденные во сне странные экзотические пейзажи, которые иногда выставляли у «Независимых», но без особого успеха. Правда, поколение Пикассо успело его разглядеть. Когда его познакомили с поэтом и критиком Гийомом Аполлинером, Таможенник умолял того защитить очередной его «Сон» от насмешек. Современники не насмехались, но закрепили за чудаковатым самоучкой эпитет «наивный». Они еще не знали, как много это слово будет значить для всего, что в искусстве произойдет потом.
Почтальон Фердинан Шеваль, или просто Почтальон (le Facteur), в 1879 году начал собирать по дороге камни, чтобы у себя в саду построить фонтан для новорожденной дочки, «Источник жизни». За тридцать три года каждодневного труда, проходя около тридцати километров по привычному маршруту, он выстроил настоящий дворец, четырнадцать метров в высоту, двадцать пять в длину, четырнадцать в ширину[558]558
Хьюз Р. Шок новизны. С. 236–238.
[Закрыть]. Местные посмеивались над общим знакомым, который таскает к себе камни: строить он не умел, в чем и признавался в дневниках. Но на входе не без гордости выгравировал: «Все, что ты видишь, прохожий, есть произведение крестьянина. Я вывел из сна царицу мира». Уже около 1900 года на въезде в деревню Отрив висел указатель, что нельзя проехать, не посмотрев на «произведение терпеливого труда и хорошего вкуса почтальона». С 1969 года Идеальный дворец – исторический памятник с непререкаемым статусом шедевра наивного искусства. Согласно опросам 2020 года, он – на втором месте среди любимых памятников французов. Почтальон, на самом деле, – совсем не наивный, но очень любопытный и терпеливый мечтатель, ушел из жизни в 1924 году, когда возникло движение сюрреалистов.
Найдется ли через пятьдесят лет место в истории невероятно успешным сегодня Джеффу Кунсу и Дэмиену Хёрсту? Между тем первый, можно сказать, – классик так называемого китча, второй – автор одного из самых дорогих проданных при жизни создателя произведений искусства: платиновой отливки черепа XVIII века, усыпанного восьмью тысячами шестьсот одним бриллиантом, под названием «Из любви к Богу» (2007). Среди бесконечных черепов в истории искусства этот – едва ли не самый знаменитый[559]559
Летом 2012 года в лондонской галерее «Тейт Модерн» очередь на выставку Хёрста была намного длиннее, чем на масштабную ретроспективу Эдварда Мунка, включавшую множество его знаменитых полотен.
[Закрыть]. Правда, серьезную конкуренцию ему составляет монументальный, сваренный из стальной утвари «Очень голодный бог» (2006) индийского скульптора Субодха Гупты. Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации в Кубинке только что увековечил в масштабных мозаиках славу русского оружия, от Александра Невского до Чечни. Он, безусловно, – памятник архитектуры и монументальной живописи наших дней. В Большом Кремлевском дворце, на парадной лестнице, висит большая красочная картина, написанная в 1990-е годы, изображающая Ледовое побоище. Кто-то в эпоху великих перемен решил, что сюжет уместен. Бронзовый зверинец Зураба Церетели – в Александровском саду, его Петр I на паруснике, почти стометровой высоты, рассекает волны Москвы-реки. У Александра Шилова и Ильи Глазунова – галереи рядом с Кремлем. Все трое – именитые художники, создавшие школу, все они – принадлежат искусству, но вошли ли они уже в его историю? И если да, то в какой роли? Как метко выразился в 1983 году их (и наш) современник Илья Кабаков, «в будущее возьмут не всех» (илл. 149). И добавил со свойственной ему иронией: «Меня не возьмут»[560]560
Кабаков И. В будущее возьмут не всех [Электронный ресурс] // Искусство: сайт. 2013. № 3 (586). URL: https://iskusstvo-info.ru/v-budushhee-vozmut-ne-vseh/ (дата обращения: 08.03.2022).
[Закрыть]. Решать – не только искусствоведам, пророки из них немногим лучше, чем из историков.

149. Кабаков И., Кабакова Э. В будущее возьмут не всех. Инсталляция. 2001 год. Ретроспектива И. и Э. Кабаковых в Государственной Третьяковской галерее. Москва. 2018 год
Уже XIX век набрал скорость, невиданную в чинном XVIII столетии и, может быть, ему ненужную. Реагируя на смену ритма, искусство тоже пошло по пути довольно частых смен парадигм, которые мы для удобства называем то стилями, то школами: неоклассицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, неоготика, эклектика, символизм. Напоследок часто ставят наименее определенный постимпрессионизм, воспользовавшись видимым удобством приставки, потому что куда-то нужно вписать крупнейших с сегодняшней точки зрения мастеров последних десятилетий. Одни движения охватывали лишь архитектуру, другие – живопись, литературу и музыку. Все эти «измы» не маршировали друг за другом, как солдаты в строю. Взаимопроникновение, диалог школ и направлений – закон жизни форм во все времена, пусть и закон не без исключений. Новшество XIX века, повторю, – в ритме перемен, и сами они, как показал Гарольд Розенберг, стали традицией.
XX век начался с планки в сто километров в час, взятой Камилем Женатци на автомобиле «Вечно недовольная», с авиации, кинематографа, субмарины. Список этот нетрудно продолжить. Скорости нового столетия лишь отдаленно сопоставимы с темпами предшествующего. В 1844 году Тёрнер еще мог то ли в шутку, то ли всерьез изобразить зайца, удирающего по шпалам от мчащегося на всех парах паровоза, в картине «Дождь, пар и скорость. Большая западная железная дорога». Он даже не побоялся уйти от правды жизни и показать огненную топку впереди машины, чтобы подчеркнуть этим цветовым акцентом, что источник движения – механика, подчинившая себе стихию. В 1900 году такой гимн прогрессу уже выглядел воспоминанием о «старой доброй Англии», скорости непомерно выросли. Отныне череда «измов» в жизни искусства стала настоящим приключением: 1905 год – фовизм и экспрессионизм; 1908-й – кубизм; 1909-й – футуризм; 1915-й – супрематизм; 1916-й – дадаизм; 1917-й – неопластицизм; 1924-й – сюрреализм; 1948-й – «КоБрА»; конец 1940-х годов – абстрактный экспрессионизм; 1956-й – поп-арт; 1960-й – новый реализм; 1963-й – новая фигуративность; 1967-й – концептуальное искусство, итальянская арте повера и ленд-арт.
К этому далеко не полному, не учитывающему многих национальных течений и школ списку следует прибавить иногда лишенные дня рождения, но зачастую не менее влиятельные направления: неформальное искусство, ар-брют, наивное искусство, магический реализм, кинетизм, флюксус, русский лучизм, немецкую «Новую вещественность», итальянские «Возвращение к порядку» и «Новеченто» (т. е. XX в.). И как венец всех этих «авангардов» – трансавангард, провозглашенный в 1979 году итальянским критиком Акилле Бонито Оливой. К десяткам течений прилагается минимум сотня первостепенных и тысяча значимых имен. То есть, по большому счету, столько же, сколько требуется для неплохого знания всей предшествующей истории европейского искусства. Когда в 1926 году в почтенном возрасте ушел из жизни Клод Моне, все великие авангардные движения нового века уже родились, а некоторые успели исчезнуть или перерасти во что-то новое. И мы ничего не сказали о жившей отчасти в собственных «измах» архитектуре, а также об искусстве тоталитарных режимов, которые вовсе не ограничивались «тоталитарностью» и указками диктаторов или ведомств. Недавно Анна Вяземцева убедительно показала это на примере Италии[561]561
Вяземцева А.Г. Указ. соч. С. 343–372.
[Закрыть]. Очевидно, что для одной лишь сводки кратких справок обо всех таких значимых направлениях понадобится книга в несколько сот страниц – и она все равно будет поверхностным справочником.
Чтобы возникали «измы», обычно требовались глашатаи и крестные отцы, нарекавшие имена. Однако не следует думать, что заголовки расставят все по местам в развитии искусства XX столетия. Совсем не все «измы» разражались манифестами, не все получали крещение, зафиксировавшее имянаречение, совсем не все художники всегда принадлежали к одному или даже двум направлениям или, войдя в группу, свято следовали всем принципам. Сальвадор Дали с самого начала стал enfant terrible сюрреализма и однажды подвергся товарищескому суду под председательством бескомпромиссного Андре Бретона. И это при том, что в верности сюрреализму с ним сравнимы разве что Магритт и Миро́. Каждый из них понимал «сверхреальное» посвоему.
В калейдоскопе всех этих пересекающихся течений и имен есть еще одна особенность, свойственная именно Новейшему времени. Совсем не всегда можно однозначно определить, к какой стране принадлежит тот или иной мастер. Когда смотришь даже поверхностно на биографии сотни важнейших художников, ясно, что уже поколение Пикассо, то есть те, кто молодыми людьми открыли новое столетие, рано снимались с насиженных мест, учились в одних местах, женились в других, творили в третьих, осваивая новые языки, входя в новые художественные среды. До Второй мировой войны всех притягивал Париж, и еще несколько европейских столиц старались за ним поспеть. Но уже с 1920-х годов картина начала меняться. Советская Россия либо выгнала, либо не удержала художников масштаба Шагала, Ларионова и Гончаровой, Архипенко и Кандинского, братьев Певзнера и Габо, а примерно с 1930 года почти закрылась для диалога. Многие эмигрировали еще до Первой мировой войны и уже не возвратились (Ротко, Сутин, Никола де Сталь). Потери Германии – не менее значительны, но ФРГ вернула контакт с эмигрантами. Каталонец Пикассо, оставаясь патриотом Испании, ни при каких условиях не хотел возвращаться на родину, пока у власти Франко, – и обещание сдержал.
Вместе с тем эта вынужденная или добровольная охота к перемене мест сделала искусство во всех его проявлениях не национальным достоянием, предъявляемым прежде всего своей нации, а затем уже миру, но именно интернациональным, трансконтинентальным.
В 1940-е годы в Нью-Йорк съехались бежавшие от нацистов и войны крупные европейские художники, в 1942 году Пегги Гуггенхайм собрала их в своей галерее «Искусство этого века» («The art of this century»). Это стало катализатором возникновения собственно американской школы, заявившей о себе в полный голос в 1950 году полным возмущения письмом директору Метрополитен-музея о том, что их, американских художников, третируют маловеры и ретрограды. Среди подписавших «18 раздраженных», Irascible 18, были Джексон Поллок, Марк Ротко, Роберт Мазервелл, Барнетт Ньюман, Клиффорд Стилл. Многих из них резонно причисляют к абстрактному экспрессионизму[562]562
Эштон Д. Нью-Йоркская школа и культура ее времени / пер. В. Кулагиной-Ярцевой, Н. Кротовской. М., 2017. (Garage).
[Закрыть]. Но никто из них не был в полной мере привержен ни абстракции, ни экспрессии. Как выразился Роберт Хьюз, если бы Джексон Поллок дожил до семидесяти, он прошел бы сегодня за «имажиста с фазой абстракционизма в начале зрелого периода»[563]563
Hughes R. American Visions: The Epic History of Art in America. N.Y., 1997.
[Закрыть].
Для зрелого послевоенного Поллока отсутствие контакта между кистью и поверхностью равнялось непосредственности в работе живописца. Он называл свои танцы с банкой краски вокруг и внутри полотна, хорошо известные по фотографиям, прямой живописью. Художник работал без эскизов, утверждал, что вообще не обдумывал сюжет или композицию, считая, что жизнь уже дремлет в картине, ее нужно просто разбудить. Примерно так же, напомню, Микеланджело думал о мраморе.
В результате около 1950 года возникли масштабные полотна без центра и периферии, без каких-либо акцентов, в них живопись словно возникает сама собой, по всей поверхности. Кто-то захочет увидеть в картине «Один: номер 31» поднятую целину, кто-то – апокалипсис (см. илл. 37). Художник не подсказывает ровным счетом ничего. Прозорливее всех оказался критик Гарольд Розенберг. В 1952 году он опубликовал в журнале ARTnews статью под заголовком «Американские художники действия»[564]564
Розенберг Г. Традиция нового / пер. О. Демидовой. М., 2019. С. 33–50.
[Закрыть]. Метод разбрызгивания краски по лежащему на полу или прикрепленному к стене холсту, которым пользовался Джексон Поллок, он назвал «живописью действия», action painting[565]565
Справедливости ради отмечу, что разбрызгивание не было исключительным методом Поллока, он создавал также полотна, вполне прикасаясь к ним как кистью, так и мастерком или нанося краску ножом. Но он любил чувствовать твердую основу под холстом, не натянутым на подрамник, что технически немаловажно. В 1947 году полотна, выполненные краской, выдавленной из тюбиков без помощи кисти, выставил Жорж Матьё, тогда еще почти неизвестный, оспаривая первенство в изобретении техники dripping (разбрызгивания) и у Поллока, и у американки родом из Украины Джанет Собель, скромной домохозяйки, которая тоже занялась живописью во время войны. В 1961 году Ники де Сен-Фалль внесла свою лепту в общее дело: вместе с друзьями Жаном Тэнгли, Робертом Раушенбергом и Ларри Риверсом они расстреляли коллаж из карабина, краска растеклась по полотну из продырявленных тюбиков, которые художница предварительно закрепила на каркасе. Сегодня эта «комбинированная живопись», combine painting, находится в Музее современного искусства в Ницце (MAMAC). Вместе с тем все они не были первыми, кто разрешил краске течь по поверхности, оставляя след: недавняя реставрация фресок Джотто в капелле Скровеньи показала, что этот мастер использовал подтек, чтобы изобразить слезу на лице плачущей женщины. Около 1300 года это мог себе позволить только очень смелый новатор.
[Закрыть]. Традиционная картина рождалась из наброска, схваченного на лету замысла, concetot. Здесь же, рассуждал Розенберг, все наоборот: холст для Поллока – не место для воплощения замысла, но «дух», с помощью которого художник, преображая его поверхность красками, мыслит. Согласимся: парадокс. Холст как мыслящий организм? В чем же тогда роль художника? Зато, оказавшись внутри холста, говорил тогда художник, он понимал, что нужно делать. И парадоксальная «танцующая» живопись Поллока, и предложенное критиком меткое объяснение вошли в историю.
В той же группе художников, вышедших из горнила Великой депрессии и войны, осознав свою судьбоносную роль в искусстве США, выделяются художники и совсем иного склада. Глядя на монументальные, величественные в своем покое холсты Марка Ротко, ни о каком действии думать не хочется. Напротив, пристальный взгляд с близкого расстояния, в особенности на линии перехода от одного цветового поля к другому (илл. 150), подсказывает, что краска накладывалась здесь медленно, тонкими лессировками, с леонардовской неспешностью. Эта неспешность вводит зрителя внутрь картины не хуже, чем поллоковские брызги, но возникающая в результате медитация – совсем иного, космического, даже метафизического характера. Двухметровое поле холста у Стилла или Ньюмана закрыто завесой одного цвета, почти осязаемого в своей плотности. В него вклинивается вертикальная полоса, словно силовая линия, рассекающая пространство и одновременно будто вводящая раму внутрь картины, лишая ее главного: границы.

150. Ротко М. № 3 / № 13 (пурпурный, черный, зеленый на оранжевом). 1949 год. Нью-Йорк. Музей современного искусства
В хаосе Поллока можно следить за причудливым танцем капель и потоков краски и представлять себе хоть танцы индейцев на песке, которыми художник вдохновлялся. У Марка Ротко и Эда Рейнхардта нет даже этого, только поле. Но и ему, этому полю, умный современник нашел и название, и объяснение. В 1955 году Клемент Гринберг, признавая родство этих мастеров с «живописью действия», в эссе «Живопись по-американски» окрестил их «художниками цветового поля», color field painters. В их полотнах, утверждал он, поверхность обрела новое дыхание, новую вибрацию. Их крупный формат помог цвету высвободить всю свою энергию и выплеснуть ее на зрителя с невиданной доселе силой. Неслучайно критик сравнил их не с кем-нибудь, а с великими колористами: Тёрнером и поздним Моне и его поздними панно «Кувшинки» (илл. 151), которыми нередко и не без оснований вдохновлялись приверженцы беспредметной живописи. Здесь уже дело не в беспредметности как таковой (Ротко не считал себя абстракционистом[566]566
Roque D. Qu’est-ce que l’art abstrait? Une histoire de l’abstraction en peinture (1860–1960). P., 2003. P. 247–260. (Folio. Essays).
[Закрыть]), а в том, что картина вышла за собственные границы, парадоксальным образом она сохранила свое суверенное бытие, но подчинила себе пространство. Причем вышла исключительно с помощью цвета, и в этой работе цвета и света критик находил связь между своими героями и – Византией[567]567
Greenberg C. Art and Culture: critical essays. Boston, 1961. P. 167–170. Интересные параллели с абстрактными формами в живописи эпохи Каролингов приведены в работе: Smith D. Teh Painted Logos: Abstraction As Exegesis in the Ashburnham Pentateuch // Abstraction in Medieval Art. Beyond the Ornament / ed. E. Gerstman. Amsterdam, 2021. Р. 144.
[Закрыть].

151. Моне К. Кувшинки. Серия полотен в музее Оранжери. 1920–1926 годы. Париж
Никогда еще цвет не обретал такой власти без помощи формы. Рейнхардт в 1957 году подкрепил эту невиданную прежде визуальную аскезу программным эссе в майском выпуске ARTnews, естественно, отказав всем предшествовавшим «измам» в праве на искусство из-за чрезмерной верности природе. Ротко, ненавидевший капитализм и общество потребления, в 1959 году согласился украсить серией масштабных холстов малый зал ресторана «Четыре времени года» в башне Сигрем, то есть ровно на потребу капиталистам, – ради того, чтобы его полотна, наконец, получили единое пространство, которым могли бы полностью овладеть. Он мечтал об этом. Съездив в Европу во время напряженной работы, он нашел вдохновение как среди знакомых художников, так и на знаменитой микеланджеловской лестнице во флорентийской библиотеке Лауренциана. Действительно, в его картинах есть что-то от строгого величия этого места. Вернувшись в Нью-Йорк, он решил пообедать в роскошном ресторане и тут же отказался от контракта под вошедшим в историю предлогом: те, кто будет есть такую еду за такую цену, не станут смотреть на его картины. Десять лет спустя несговорчивый, все больше уходивший в себя художник подарил девять картин лондонской галерее «Тейт Модерн», где они, наконец, нашли свое пространство. 25 февраля 1970 года он покончил с собой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































