Текст книги "16 эссе об истории искусства"
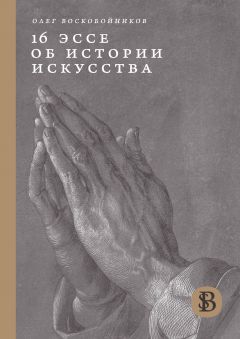
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
У зрителя возникает естественный вопрос, кто есть кто. По этому поводу с XX века ведутся споры. Все сходились и сходятся на том, что ангел справа – Святой Дух. В центральной фигуре вроде бы резонно видеть Сына: он обращается к Отцу, как в Гефсиманском саду, с вопросом о чаше, которую ему предстоит испить, смиренно склонив голову, подчиняясь отцовскому решению. Отец, ангел слева, благословляет ту же жертвенную чашу и передает свое решение Святому Духу, чтобы через него придать Сыну сил для последнего земного подвига. Святой Дух обращает взор на чашу, тем самым исполняя решенное на божественном совете. Догматически это верно: Святой Дух зримо исходит только от Отца, у католиков – и от Сына. Поэтому, например, в замечательной и богословски тоже очень сложной алтарной картине французского художника Ангеррана Картона «Коронование Девы Марии» (1453–1454), где Троица коронует Богоматерь, голубь Святого Духа крыльями касается уст Отца и Сына, изображенных абсолютно одинаковыми, следуя принципу изоморфизма[374]374
Споры об истолковании этого масштабного произведения, созданного по заказу картузианцев и хранящегося в Музее Пьера де Люксембурга французского города Вильнёв-лез-Авиньон, продолжаются (Boespflug Fr. Dieu dans l’art à la fni du Moyen Âge. Genève, 2012. Р. 137–166; Schmitt J.-Cl. Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Âge. P., 2002. P. 154–156. (Le temps des images)).
[Закрыть].
Ангелы и у Рублева обладают почти одинаковыми ликами, но есть в них и некоторые нюансы выражения, впрочем, трудно толкуемые: у всех немного разный наклон головы, центральная фигура расположена чуть более фронтально, чем боковые, но вместе с ангелом справа центральный ангел явно склоняется к ангелу, сидящему слева, тем самым выделяя его. Ни один из них не смотрит на зрителя, что тоже важно: зрителя не приглашают к прямому диалогу, хотя канонически это было возможно[375]375
В монастыре Св. Иоанна Богослова на Патмосе на фреске 1176–1180 годов центральная фигура Троицы, не подписанная, выделена и четкой фронтальностью, и взглядом на зрителя, и размером, примерно в полтора раза превосходящим размер боковых фигур. Ангелы сидят именно за столом круглой формы, на блюде – голова тельца. Из участников библейского действа присутствует лишь Авраам.
[Закрыть]. Крылья соединяют между собой фигуры, силуэты которых, однако, не соприкасаются, и этот прием тоже мог читаться как отражение догмата о неслиянности и нераздельности Троицы. Все в равной мере исполнены божественного, небесного, непоколебимого покоя и человеческой, земной теплоты: таков «почерк» и, видимо, духовный настрой Рублева и живописцев его круга. Даже по сравнению с Феофаном Греком разница налицо: достаточно сравнить рублевскую «Троицу» с фреской Феофана в церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде (1378), образом огромной духовной силы, но иным по эмоциональному строю[376]376
Как показал недавний анализ живописных слоев «Троицы», в особенности доликового письма, иконописец долго искал и расположение фигур, и физиогномические особенности.
[Закрыть].
Проблема, однако, в том, что некоторые троические иконы XIV–XVI веков сохранили подписи трех лиц, канонически не требовавшиеся и даже запрещавшиеся (например, Московским Стоглавым собором в 1551 году). Согласно этим надписям в центральной фигуре все же видели Отца. Но знали и о том, что «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1: 18). Поэтому и Отца подписывали одновременно Сыном и Отцом. В такой парадоксальной логике Сын оказывался изображенным дважды, как Сын в прямом смысле и как образ Отца. Современного зрителя, подходящего к иконе со своими вопросами, этот парадокс смутит, смущал он и наших предков. Поэтому Стоглавый собор велел «писати живописцем иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали и как писал Андреи Рублев и прочии пресловущии живописцы, и подписывати Святая Троица, а от своего замышления ничтоже претворяти»[377]377
Стоглав. Гл. 41. Вопрос 1 [Электронный ресурс] // Викитека: свобод. электрон. б-ка. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Стоглав (дата обращения: 10.02.2022). Характерно, что договор заказа на «Коронование Девы Марии» предписывал Ангеррану Картону «продемонстрировать свое умение изображать Троицу и Деву Марию, в остальном дело на его совести» (Couronnement de la Vierge (Villeneuve-lès-Avignon) [Electronic resource] // Wikipédia: L’encyclopédie libre. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/ Couronnement_de_la_Vierge_(Villeneuve-lès-Avignon) (дата обращения: 10.02.2022)).
[Закрыть]. Из этого ясно, вопервых, что автор изначально не задумывал четкого обозначения лиц, вовторых, что другие, напротив, претворяли и собственные или чьи-то замыслы и проясняли их с помощью надписей. И в этом – еще один парадокс иконы. Она нуждалась в надписи уже в ранние века, и традиция эта сохранялась на Востоке и на Западе. Некоторые надписи были совсем краткими, вроде имен святых, названий праздников, сокращенных обозначений Богоматери и Христа, иные – довольно пространными. Икона становилась полем визуальной и словесной проповеди одновременно. В рублевской «Троице» все наоборот: ее молчание должно было красноречиво о чем-то вещать. Но о чем?
Так ли и впрямь важно, кто из двух ангелов Отец, а кто Сын? Мы трактуем язык жестов и взглядов, чтобы опознать их, но трактуем, исходя, часто сами не замечая, из того, что мог бы подумать, почувствовать и сказать Отец, а что – Сын. Мы видим в доме знак божественного домостроительства (греч. икономия), в древе – мамврийский дуб и пророчество о Кресте, в скале – символ трудного духовного восхождения, в котором помогает Святой Дух. Но в деле Спасения, то есть тоже домостроительства, главенствующая роль Сына была очевидна уже ранним Отцам Церкви, которых на Руси знали и чтили. Тогда опять же выходит, что слева – Сын, а царственный клав на плече центрального ангела, который мы встречаем в образах Младенца на руках у Марии, оказывается атрибутом Отца. «Видевший Меня видел Отца» – говорит Спаситель в Евангелии от Иоанна (Ин 14: 9), и эту связь с Отцом Сын сам не раз подчеркивает. Иконописец и его учителя должны были воспринимать слова Спасителя всерьез, поэтому для них видимый парадокс, принципиальная недосказанность были нормой жизни и формой мысли о Боге.
Главное, что бросается и всегда бросалось в глаза в рублевской «Троице», – это, конечно, чаша, точнее, мотив чаши. Ангелы справа и слева своими фигурами образуют чашу, внутри которой оказывается центральный ангел, и это – еще один аргумент в пользу прочтения центральной фигуры как Сына. Но почему именно чаша? Потому что на столе стоит не Авраамова трапеза, а чаша с жертвенным тельцом, словно иллюстрация концовки 50-го псалма, регулярно читавшегося в церкви: «Тогда благоволиши жертву правды, возношения и всесожигаемая: тогда возложат на олтарь Твой тельцы» (Пс 50: 21). Типологическое прочтение ветхозаветного события как пророчества о Распятии, о крестной жертве известно в искусстве с ранних времен, как минимум с мозаики в Сан-Витале (ок. 540 года), где ангелы держат в руках хлеба́ в виде гостии[378]378
В раннехристианской живописи Троицу могли видеть и в трех волхвах (Grabar A. Christian Iconography: A Study of Its Origins. Princeton, 1968. Р. 113).
[Закрыть]. Очевидно, что догмат Троицы осмысляется Рублевым в неразрывном единстве с Евхаристией, то есть жертвой, принесенной Богом ради людей и постоянно переживаемой всеми прихожанами во время причастия.
На Западе Троица могла изображаться и осмысляться в связи с Сотворением мира, но могла и в таком же жертвенном ключе, когда стол Авраама превращался в алтарь: Франсуа Бёспфлюг резонно назвал такой тип изображения «алтарной Троицей», Trinité à l’autel[379]379
Boespflug Fr. Op. cit. P. 341–370.
[Закрыть]. Однако о развитии догмата и его изображения западными художниками рублевский круг знал очень мало. На обратную связь – передачу московского опыта на Запад – рассчитывать вовсе не приходилось. Достаточно сопоставить нашу «Троицу» с не менее новаторской и наполненной смыслами «Троицей» Мазаччо (илл. 117 на с. 307), созданной в те же годы во Флоренции, чтобы понять, какими разными путями шли два великих современника. При этом оба решили раскрыть великую тайну божества в крестной смерти Христа[380]380
Рублев и его круг, как считал Виктор Лазарев, не были знакомы с западными новшествами своего времени (Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 2000. С. 103). Констатация этого факта не мешала ему сопоставлять искусство Рублева с искусством Пьеро делла Франческа по «качеству исполнения», критерию, на мой взгляд, несколько неопределенному и, главное, мало что проясняющему (Его же. Русская средневековая живопись: ст. и исследования. М., 1970. С. 299). Своеобразной телеологией, пусть и мастерски поданной, представляется попытка Михаила Алпатова объяснить смысл «Троицы» преобладанием у Рублева «художественного замысла» над богословием и вообще догматикой. В основе геометрии иконы, ее «поэтическим ядром» ученый видел не чашу, а круг. Сближая его то с Данте, то с Рафаэлем, он настаивал, что русский иконописец ближе к Новому времени, чем к Средневековью (Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства: в 2 т. Т. 1. М., 1967. С. 124–125. (Страницы искусствознания)). Сегодня такие сближения, как и перетягивание памятника из эпохи в эпоху, могут показаться анахронистическими, но мы должны учитывать, что до перестройки даже слово «икона» можно было употреблять в печати лишь заслуженным ученым, и то аккуратно.
[Закрыть].

117. Мазаччо. Троица. Фреска. 1425–1427 годы. Церковь Санта-Мария-Новелла. Флоренция
Два великих современника Рублева и Мазаччо, Хуберт и Ян ван Эйки, загадали своим современникам не менее сложную загадку, создав алтарный полиптих, который мы называем Гентским алтарем, или Алтарем мистического агнца (1432). Его центральная фигура – безусловно Бог, Вседержитель, сидящий на троне в окружении Марии и Крестителя. Черты Его лица были узнаваемы для глаза фламандца XV века. Но видел ли он в этой фигуре Отца? Или Иисуса Христа? Или Троицу, показанную в одном лице? Различные – и в чем-то друг другу противоречащие – атрибуты не позволяют сегодняшним ученым ответить на этот каверзный вопрос однозначно. Троицу могли изобразить в одном лице, как единого Бога, но тогда непонятно, почему в общей композиции фигурируют голубь и закланный на престоле агнец. Более того, стремящееся к максимальной точности иконографическое прочтение может приводить к богословской несуразице: отождествлению второго и третьего лица с первым[381]381
Panofsky E. Early Netherlandish Painting… Vol. 1. P. 214–215. Очень фундированный и интересный, хотя и не бесспорный, опыт семиотической расшифровки Гентского алтаря см. в кн.: Успенский Б.А. Гентский алтарь Яна ван Эйка. Композиция произведения: божественная и человеческая перспектива. 2-е изд., испр. и доп. М., 2013.
[Закрыть]. Очень может быть, что и заказчик, Йос Вейдт, и восхищенные современники признавали эту амбивалентность, заранее заданную неопределенность в этом гигантском для своего времени моленном образе, причем в отображении догмата, который, казалось бы, не терпел никаких неясностей.
Теперь вернемся к Рублеву. Мотив жертвенной чаши – очевидный для невооруженного глаза факт. Он даже побуждал некоторых историков искусства видеть в «Троице» своего рода евхаристическую икону, сводить весь ее смысл к богослужебным практикам[382]382
Eckhardt Th. Die Dreifaltigkeitsikone Rublevs und die russische Kunstwissenschaft // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1958. Bd. 6. H. 2. S. 151–152.
[Закрыть]. Видимо, это отчасти верно, ведь функционально эта икона – моленный образ в иконостасе. Но, как я попытался показать, он – нечто большее. Идеологическое, государственное значение лавры и ее главной иконы привело к тому, что уже Иван Грозный подарил ей такой оклад, который полностью скрыл от глаз всю только что описанную недосказанность и таинственность. Сохранившийся по сей день оклад Бориса Годунова, видимо, верно следует его стилистике. Алтарь здесь превращен в царскую трапезу, библейские путники – в разодетых гостей, скала зрительно полностью слилась с древом, из чаши убрана голова тельца, центральный ангел благословляет не ее, а какое-то блюдце с ложкой. Молчаливый диалог взглядов скрадывается блеском украшенных каменьями нимбов, а жесты рук попросту лишены смысла. Федор Борисович Годунов добавил панагию на шею центральному ангелу, Михаил Федорович Романов – роскошные цаты. В таком виде икона выполняла свою литургическую функцию до 1918 года[383]383
Сегодня оклад хранится в Музее (Ризнице) Троице-Сергиевой лавры, в соборном иконостасе – прекрасный список 1926–1928 годов. Вальтер Беньямин видел икону еще в окладе зимой 1926 года: фигуры ангелов напомнили ему китайских преступников в кандалах (Беньямин В. Московский дневник / пер. С. Ромашко. М., 2014. С. 187. (Гараж)).
[Закрыть].
Ясно, что, при всем почтении к авторитету Андрея Рублева, богословские тонкости его «Троицы» мало кого волновали с XVI века. Это вовсе не значит, что иконе плохо молились или ее недостаточно почитали. Важно констатировать, что почитание и «прочтение» – не одно и то же, причем как в религии, так и в науке. Интересно, что современные католики осознали это едва ли не лучше, чем искусствоведы, и точно лучше, чем греки, которым, кажется, не пришло в голову Рублеву подражать, ни до падения Константинополя, ни после. Между тем он воплотил и их многовековые искания. Сегодня репродукцию «Троицы» можно легко встретить в католических храмах, зачастую неподалеку от алтаря, выставленную, конечно, не для целования или иных форм почитания (они среди католиков не приняты), но, возможно, как знак искомого многими единения между Востоком и Западом.
Искусство – философия – картина мира

Мы не можем сказать определенно, с какого момента человек начал задавать себе разного рода вечные вопросы – о жизни, смерти, любви, то есть те вопросы, которые решает дискурсивная мысль. Мы привыкли выражать ее в словах, фразах, устно и на письме. Философия, наряду с художественной литературой и магическим, литургическим словом, представляет собой упорядоченный способ разрешения проблем, волнующих цивилизацию, вопросов как физических, так и метафизических. Она отличается от искусства тем, что не обязана опираться на материальный образ, более того, тяготеет к абстрагированию от него. Платон не питал особых иллюзий насчет произведений искусства: истинный искатель мудрости в них ничего бы не нашел. Однако можно привести множество примеров того, как философы высоко оценивают познавательную функцию этих произведений, ссылаются на взгляд художника, хвалят или трактуют искусство в целом, от древности до наших дней, от Аристотеля до Жака Деррида и Жан-Люка Нанси.
Джордано Бруно в итальянском диалоге «О героическом неистовстве» (1585) периодически облачается в одежды «философа-живописца». Более того, без осознания фундаментальной роли, которую образы (лат. imagines) играют во всей его «новой философии», нельзя понять, почему он собственноручно резал гравюры для своих латинских трактатов, не смущаясь их несовершенством: великий Ноланец мыслит образами и с их помощью формирует новый взгляд на мир[384]384
Ордине Н. Граница тени: Литература, философия и живопись у Джордано Бруно / пер. А.А. Россиуса. СПб., 2008. С. 261.
[Закрыть]. Его соотечественник Джамбаттиста Вико, сделавший для гуманитарных наук то же, что Бруно для космологии, начинает свои «Основания новой науки об общей природе наций» (1725) с пространного истолкования аллегорической картины, помещенной на фронтисписе.
Около 1800 года Шеллинг называл искусство «единственным верным глашатаем философии, и вместе с тем ее главным свидетельством». Гегель реконструировал историческое развитие художественных форм с такой тонкостью, которая поражает, учитывая прежде всего то, что в мировом искусстве ему на самом деле было доступно относительно немногое. В середине XX века Морис Мерло-Понти писал, что метафизика присутствует в каждой картине. Мартин Хайдеггер посвятил специальное исследование «истоку художественного творения», к нему мы еще вернемся. Мишель Фуко читал лекции о Веласкесе, Магритте и Эдуаре Мане, дав оригинальное прочтение его последнего шедевра – «Бара в Фоли-Бержер»[385]385
Фуко М. Живопись Мане / пер. А.В. Дьякова. СПб., 2011. C. 48–53. С анализа «Менин» начинается и программная книга Фуко: Его же. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб., 1994. С. 41–53. (Для научных библиотек). Другой взгляд на Мане и в особенности на «Бар в Фоли-Бержер»: De Duve Th. Look! 100 Years of Contemporary Art. Bruxelles, 2001. P. 219–262.
[Закрыть]. Этот список нетрудно было бы продолжить.
Таким образом, отношения между философией и искусством представляют собой отдельный вопрос, волнующий как философию, так и искусствознание. В последнем по этой причине в наши дни выделяется теория искусства. Она, естественно, связана с другими отраслями, она не чужда анализу памятников и другим насущным задачам науки об искусстве. Но все же ее предмет – не в самих произведениях художественной деятельности. Теория искусства, скорее, связывает произведения искусства и творчество с другими гуманитарными науками, в особенности с философией.
Дело не только в эстетике, отрасли знания, возникшей в XVIII столетии и специально изучающей представления о красоте. Безусловно, эстетика объединяет философию и историю искусства естественным образом. Более того, в XIX столетии, когда на стыке целого ряда гуманитарных наук возникло искусствознание, его философские основания сильно повлияли на всю его структуру, задачи, язык, особенно в Австро-Венгрии и Германии. Задача историка искусства, однако, не в том, чтобы признать эти общечеловеческие основания двух видов духовной деятельности, а в том, чтобы этому признанию дать более или менее твердые методологические ориентиры. Мы понимаем, что всякий философский трактат следует анализировать, исходя из его контекста, источников, направленности, видеть в нем как целое, так и набор приемов, аргументов. Точно так же мы подходим к произведению искусства. Тем не менее любого из нас серьезный памятник настраивает, что называется, на «философический» лад. Поэтому и поиск некоего вечного, общефилософского смысла в том, что изображено, вполне закономерен. Это тем более естественно в случаях, когда художник сам рефлексировал над своим творчеством и до нас дошли плоды этой рефлексии в виде писем, трактатов, программных выступлений. Среди таких философствующих и пишущих художников – Пьеро делла Франческа, Гиберти, Дюрер, Леонардо, Шитао, Хогарт, Делакруа, Ван Гог, Малевич, Кандинский, Мондриан, Пригов. И это далеко не все. Даже если философом в строгом смысле никто из них не был, конечно, очевидно, что их записанные словами мысли объясняют и что-то в их творчестве, в их художественном наследии. Но значит ли это, что тексты этих художников отражают их мировоззрение так же, как их картины? И еще: если художник не рефлексировал, а просто творил, значит ли это, что в его картинах философии заведомо меньше или нет вовсе?
Не менее заманчиво находить параллели, объединяющие конкретное произведение искусства и конкретный философский трактат, например, созданные в одном и том же историческом контексте. Но как мы можем утверждать, что вот этот стилистический прием художника соответствует вот этому повороту мысли философа? Проблема не только в том, чтобы отобрать «параллельные» части, но и в само́й сложности целого, в том, что части, детали, на которых мы выстраиваем целое, например, стиль мастера или эпохи, обладают разным весом внутри целого, в масштабе эпохи. Один историк искусства сопоставляет Спинозу и Рембрандта – его сопоставление выглядит заманчиво. Его коллега ставит рядом Спинозу и Вермеера – и тоже звучит убедительно. Вермеер и Рембрандт – очень разные гении, объединенные, вместе со Спинозой, единым контекстом: Голландией Золотого века. Но всё же все три гения слишком разные[386]386
См. критические замечания о таких сопоставлениях: Schapiro M. Worldview in Painting. Art and Society: selected papers. N.Y., 1999. P. 44–47.
[Закрыть]. Как быть? Одно из сравнений неверно? Или можно решить спор, «выдав» Рембрандту в братья по разуму француза Паскаля, а Вермееру оставив Спинозу? Или логичнее соединить француза Декарта с французом Пуссеном, тоже современников и подданных одной короны?
Около 1600 года молодой Караваджо произвел в Риме небольшую революцию в живописи, которую считают рождением то барокко, то реализма (более точно – веризма), то «современной живописи». И тогда же, 17 февраля 1600 года, на площади Цветов сожгли Бруно. Масштабы художественной революции первого и интеллектуальной революции второго, особенно при телеологическом взгляде из нашего прекрасного сегодня, по-своему сопоставимы. Поэтому, хотя от Караваджо до нас почти не дошло никаких «высказываний» и его интеллектуальный бэкграунд довольно туманен, историки искусства уже несколько десятилетий ищут связи. Поскольку фигура эта, мягко говоря, амбивалентна, трактовки его творчества тоже расходятся диаметрально. Одни видят в его картинах выражение религиозного духа Контрреформации с ее пафосом выражения таинств и священной истории на языке масс, другие – принципиальное неверие сциентистского толка. Современная исследовательница Марина Свидерская попросту излагает своими словами основные положения Бруно, Галилея и Кампанеллы, затем констатирует «поразительное совпадение творческой эволюции Караваджо с духовным опытом его великих современников». Его «натюрмортное описание», сообщает она, близко «по предпосылкам и результату» к «рациональному эмпиризму» Галилея. Луч, «падающий извне в темноту, изолируя, аналитически расчленяя предмет и моделируя его целое с невиданной ранее экспериментальной чистотой, как прямое воплощение факта действительности и одновременно истины о ней, – вместе с тем распахивает “дверь” в бесконечную Вселенную Бруно, в мир без границ»[387]387
Свидерская М.И. Караваджо. Первый современный художник: проблемный очерк. СПб., 2001. С. 117.
[Закрыть].
Глядя на знаменитое «Призвание апостола Матфея» 1600 года из Сан-Луиджи-деи-Франчези, я действительно вижу формообразующее действие луча, я понимаю всю значимость этой новой поэтики света. Он придает библейской сцене совершенно новое для своего времени духовное напряжение, ставит каждого зрителя перед таким же выбором, перед каким Иисус поставил мытаря Матфея. Но я никак не возьму в толк, почему это – распахнутая дверь в бесконечную вселенную, о которой Караваджо, скорее всего, ничего не знал, даже если предположить, что он стоял на площади Цветов в тот страшный февральский день. Это не значит, однако, что иные картины мастера не могли прочитываться современниками аллегорически. Его «Корзина с фруктами» из Амброзианы – не только первый самостоятельный натюрморт, не только «натюрмортный» взгляд на природу, но и memento mori, напоминание о бренности этого мира, а функционально, возможно, подарок кардинала дель Монте кардиналу Борромео. «Нарцисс» (илл. 118) с его новаторской концентрической композицией мог восприниматься как саморефлексия живописца (со Средних веков помнили миф об изобретении живописи Нарциссом), но и как своеобразная теория познания, движения мысли от тени к свету[388]388
Ордине Н. Указ. соч. С. 357–388; Puglisi C. Caravaggio. L.; N.Y., 1998. P. 215; Kruse Chr. Op. cit. S. 314–317.
[Закрыть].

118. Караваджо. Нарцисс. 1597–1599 годы. Рим. Национальная галерея старинного искусства в палаццо Барберини
Попробуем найти «философию» в картинах Рембрандта. В зрелом и позднем творчестве этого мастера мы ценим глубоко оригинальное использование света и тени, таинственно несоединимых, противоборствующих, но и объединяющих. Сами по себе они нематериальны, но именно с их помощью, при очень лаконичной цветовой гамме, мастер являет материю настолько четко, что любой предмет обретает твердость, плотность, вес или, как сказал бы тогда философ, чтойность (от лат. quidditas). Люди и предметы выступают из темноты, и мы ощущаем их присутствие здесь и сейчас едва ли не сильнее, чем в реальной жизни. Вглядываясь, мы увидим, что даже в ярко-белом мазке, пучке света, можно обнаружить тончайшие тени. И в этом сугубо рембрандтовском приеме (пусть и испробованном ранее Караваджо) метафорически, но ненавязчиво, не нарочито выражено единство нетелесного света и матовой материи. В результате возникает, если можно так сказать, гениальный парадокс: плоть светится, а свет – «уплотняется», «отелеснивается».
В этом парадоксе превалирует бытие здесь и сейчас, земное существование, конкретное узнаваемое лицо, отражающее индивидуальный характер, читаемая поза, движение руки, радостная улыбка или усталый взгляд. «Притча о блудном сыне» выражает эти искания наиболее явственно, потому что это – во всех смыслах сложная, «философская» картина. Но то же можно найти в поздних автопортретах и портретах, особенно пожилых людей, к которым художник, прекрасно чувствовавший собственный возраст, свое старение, питал особую слабость (илл. 119). Хочется смотреть на такое искусство, вспоминая Спинозу: великий еврейский философ верит, что материя повсюду, но она одухотворена, а дух достигает высот и совершенства в любви ко всему материальному миру – Богу. Глаз Рембрандта одинаково внимателен к старому и молодому, богатому и бедному, обыденному и экзотическому, самого высокому и самому низкому. Если попытаться обобщить, он ищет душу в теле. У Спинозы для подобной конкретики нашлось бы мало слов.

119. Рембрандт. Портрет старика в красном. 1652–1654 годы. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж
Однако философию можно понимать узко, как решение конкретных проблем, и расширительно, как представления о мире конкретного художника или целой эпохи. В первом случае, действительно, Спиноза смотрит на мир и решает в нем не те же задачи, что Рембрандт. Во втором случае мы можем сказать, что Никола Пуссен, с его поисками порядка, ясности, формы, четкого равновесия частей в композиции, – картезианец (в том смысле, что его живопись отразила на холсте поиски Декарта в философии). Вместе они – крупнейшие представители особого эпизода истории французской культуры, который мы называем классицизмом и «веком Разума». Дополним список Корнелем, Расином и, в качестве «кодификатора», Никола Буало с его «Поэтическим искусством» (1674) – и мы получим портрет эпохи.
В XVII столетии художники часто близко контактировали с учеными и наоборот. Галилей в молодости мечтал о живописи, всю жизнь дружил с Чиголи, лучшим флорентийским художником того времени, и всегда оставался тонким ценителем искусства[389]389
Panofsky E. Galileo As the Critic of the Arts: Aesthetic Attitude and Scientific Toh ught // Isis. 1956. Vol. 47. No. 1. P. 3–15.
[Закрыть]. Рубенс занимался оптикой, Пуссен учился математике. Кроме того, Рубенс и Пуссен многие свои воззрения изложили в замечательных письмах[390]390
Рубенс Петр Павел. Письма / пер. А.А. Ахматовой. М.; Л., 1933. (Искусствоведение); Пуссен о себе и об искусстве // Мастера искусства об искусстве. Т. 1. С. 563–579.
[Закрыть]. Пуссеновский «Пейзаж с Полифемом» из Эрмитажа (1649) – характерный пример воплощения всех жизненных и философских исканий мастера (илл. 120). Его тема – безграничная сила любви, у нас на глазах она усмирила не боявшегося олимпийских богов циклопа. Главная идея полотна – подобие космического строя и творения человека[391]391
См. подробный анализ в кн.: Даниэль С.М. Об искусстве и искусствознании. СПб., 2016. С. 113–118.
[Закрыть]. Композиция картины выстроена на строгой череде горизонталей и вертикалей, группы размещены на трех планах в глубину, играющий на свирели Полифем помещен на вершине пирамиды строго по центру, причем центральная ось выделена еще и светлым краем облака у него над головой. Массивность его фигуры уравновешена зрительно сопоставимыми с ним фигурами на переднем плане, а массивность горы – горой и деревом на втором плане. Под ветвями дерева мы отчетливо различаем в дымке морской берег и город, четвертый план перспективы, замыкающий композицию в глубину. Все эти детали уместны, не менее мастерски распределены цвета: главенствующие в палитре оттенки синего и зеленого подкрепляют ощущение царящего в мире покоя. Его не нарушает ничто, даже трагический финал мифа, зрителю тех лет хорошо известный и, следовательно, присутствующий за кадром.

120. Никола Пуссен. Пейзаж с Полифемом. 1649 год. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж
Велик соблазн во всех зрелых пейзажных композициях Пуссена, в особенности в его «Временах года» 1660–1664 годов, искать аналогии с философией стоицизма, видевшей в природе «учительницу искусства». Михаил Алпатов предполагал, что Пуссен вдохновлялся идеями пантеизма, возможно, был знаком с Кампанеллой[392]392
Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. [2-е изд., доп.]. М., 1963. С. 283.
[Закрыть]. Пейзажи художника выстраивались вокруг мифологических сюжетов, служили их обрамлением, но одновременно и истолкованием. Поэтому их и следует считать не только прекрасными пейзажами, но и художественным воплощением философской традиции, восходящей к эпохе эллинизма. Но верно и то, что произведения эпохи, открывшей механику мира, лишь опосредованно воплощают концепцию времени и пространства, этой эпохе свойственную[393]393
Даниэль С.М. Указ. соч. C. 94.
[Закрыть]. «Пространство – время» Рубенса, Вермеера, Пуссена или Веласкеса обладает изрядной независимостью как от представлений ученых, так и от представлений обыденных, общепринятых.
* * *
Есть еще одна загвоздка. Если связывать ландшафты Пуссена или Лоррена с натурфилософией их времени и стоической традицией, логичнее будет видеть иллюстрацию стоицизма и пантеизма в идиллиях и разного рода райских кущах, покрывавших стены помпеянских вилл. Ведь их украшали в те времена, когда стоики, собственно, жили и властвовали над умами. Перенесемся на время на полтора тысячелетия назад, к началу нашей эры. Римская живопись рубежа эр – прямая наследница эллинистической живописи. Но в задачи безымянных художников не входило следование каким-либо философским школам или идеям, хотя стоик Сенека в тех местах бывал, а великий натурфилософ Плиний умер в 79 году в Стабиях в результате отравления серными газами во время извержения Везувия. Покрывая стены пейзажами, натуралистично изображая окружающий мир во всем его текучем разнообразии, художники должны были обеспечить глазу зажиточного заказчика визуальный порядок в замкнутом пространстве его дома, четко отделить его и от окружающего города, и вообще от мира, создать иллюзию прирученной, одомашненной природы[394]394
Baldassarre I. et al. Pittura romana. Dall’ellenismo al tardo-antico. Milano, 2006. Р. 239–241.
[Закрыть]. Пейзажи помпеянской живописи – плод воображения, театральные постановки, пусть и основанные на очень остром зрении и внимании к детали, свидетельство многовекового греко-римского эмпиризма. Театральность пейзажа подчеркивалась еще и вездесущностью масок, изображений трагиков и развернутых мифологических композиций.
Не будучи иллюстрацией стоической натурфилософии или даже комментарием к ней, живопись тем не менее отражала картину мира свободного римлянина – как минимум его чувство гармонического единения с природой. Она возводила видимый мир в ранг эстетической ценности, делала его предметом, достойным изображения. И это уже немало, потому что легло в основу того, что по сей день называется понятием «м месис», то есть подражанием действительности. Искусство, основанное на подражании видимой реальности, не обязательно строго реалистическое, называют поэтому миметическим. Схожим образом и знакомые тогда всем со школьной скамьи мифологические, литературные сюжеты, трактованные в традиции греческого натурализма и греческого же пафоса, могли восприниматься не только как декор, но и как назидательные аллегории. Таков смысл росписи I века до н. э. на так называемой Вилле мистерий, посвященной, видимо, инициации в культ Диониса (илл. 121).

121. Росписи на северной и восточной стенах зала инициаций. Вилла мистерий. Середина I века до н. э. Помпеи
Однако союз видимой, чувственной реальности и духовной красоты в античном искусстве был не повсеместным даже в эпоху расцвета, а в III столетии показал очевидные признаки умирания. Постепенно из этих масштабных метаморфоз возникло совершенно новое искусство христианского Средневековья. Но еще до того, как оно стало служить нуждам новой религии и новых обществ, в нем можно было наблюдать отказ от прежних визуальных ценностей, будь то иллюзионистическое пространство, телесность, индивидуальные черты лица или плотность материи. Находит ли такой грубо зримый «откат назад» параллели в философии того времени?
Целый ряд высказываний в «Эннеадах», главном сочинении величайшего неоплатоника III века Плотина, говорит о том, что его взгляд на произведение искусства во многом предвещает взгляд средневекового христианина. В четвертой «Эннеаде», посвященной душе, он пишет: «По-моему, древние мудрецы, создававшие храмы и статуи и чаявшие присутствия в них богов, узрели природу мироздания и поняли, что мировую душу легко привлечь и тем легче удержать, создав произведение, способное принять ее влияние и вместить ее в себя. Ведь изображение всегда расположено к тому, чтобы испытывать влияние модели, оно как бы зеркало, способное явить ее облик»[395]395
Плотин. Четвертая Эннеада. IV, 3, 11. СПб., 2004. С. 107–108. Мой перевод здесь и далее немного расходится с переводом Т.Г. Сидаша (Там же. С. 49–50).
[Закрыть]. Я выделил ключевые слова, связывающие эту мысль со стоическим учением о мировой «симпатии», чувственной связи всех вещей. Чувственный мир одушевлен, в нем присутствует высшее связующее начало – Ум, следовательно, этот мир ценен для философа, потому что через его познание мы можем продвигаться к познанию Ума. Вместе с тем только отражение этой высшей реальности, слабое, затененное, и есть единственное реальное в материи, все остальное – мрак. Поэтому и произведение искусства, подобно зеркалу, должно стремиться отразить в материальной форме то, что так или иначе способно вести нас к единению с Умом. В этом – единственный смысл существования искусства для мыслящего человека.
Нетрудно себе представить, что такой ход мысли в конечном счете мог отучить художников и их заказчиков смотреть на окружающий их мир с маломальски эстетическим чувством. Вместе с тем знакомый с мистическими восточными культами философ, как мы только что видели, вовсе не отрицает присутствия божества в статуе и понимает, что зрительный контакт между верующим (в особенности – мистом) и статуей способен реально соединить его с божеством. Но недоверие Плотина к материи – косной и темной – столь сильно, что он переосмысляет и традиционные формы изображения реальности, в том числе пейзажа. Во второй «Эннеаде», в основном натурфилософской по содержанию, Плотин задается вопросом, почему удаленные предметы кажутся меньше. Он опирается на развитую традицию изучения проблем оптики и теорию экстрамиссии, согласно которой взгляд испускается глазом и, натолкнувшись на предмет, «охватив» его, возвращается. Анализ зрительного акта подсказывает ему, что истинные размеры и цвет искажаются по мере удаления от глаза: «Когда предмет находится близко, мы знаем то, как он окрашен, когда же он удален, – лишь то, что он вообще обладает цветом»[396]396
Плотин. Вторая эннеада. II, 8, 1. С. 281 (греческий текст), 287 (пер. Т.Г. Сидаша).
[Закрыть]. Истинные качества предмета видны, только если приблизить его к зрачку, уничтожить дистанцию.
Плотина волнуют истинные размеры, истинное расстояние, истинный цвет. И все это познаваемо, говорит он, лишь в четко выявленных деталях. Идеальный план для такого созерцания, безусловно, не воздушная перспектива, хорошо знакомая его современникам по живописи, а плоскость, на которой фигуры, дома, холмы выстраиваются в шеренгу. Это не значит, что в мире он видит лишь тьму, но его мир как бы прозрачен, если не призрачен. В такой картине мира художественный материальный образ должен исключить и глубину пространства, и плотность материи, две важнейшие эстетические ценности античного искусства, если он, образ, рассчитан на умное зрение и на умного зрителя, ищущего невыразимого словами контакта с Умом, с Единым. Плотиновское созерцание предполагало и особое физическое зрение: «Чтобы настроиться на созерцание, нужно, чтобы глаз уподобился рассматриваемому предмету. Глаз никогда не увидит солнца, если не станет похожим на него, и душа не узрит красоты, если не будет прекрасной. Поэтому пусть всякое живое существо сначала станет божественным и прекрасным, если оно хочет созерцать Бога и Красоту»[397]397
Плотин. Первая эннеада. I, 6, 9. С. 256 (в переводе Т.Г. Сидаша и Р.В. Светлова слово «бога» трактуется как «благо». Там же. С. 240).
[Закрыть]. Очевидно, что настоящую красоту можно узреть лишь внутренним, а не телесным зрением – и этот опыт философ мог почерпнуть совсем не в философии, а в практиках мистов, например, служителей Изиды и Осириса[398]398
Grabar A. Les origines de l’esthétique médiévale. P., 1992. P. 52–53.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































