Текст книги "16 эссе об истории искусства"
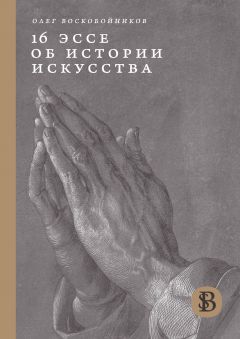
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
До той поры профильные портреты, пусть не лишенные схожести с моделью, все же воспринимались как составляющие каких-то более крупных художественных комплексов, например, династических «портретных галерей» или погребений. В донаторских изображениях, повсеместных на протяжении всего Средневековья, донаторы могли формально смотреть на зрителя, но всякий зритель понимал, что разговаривает изображенный скорее не с ним, а с божеством. Он предъявляет не свое лицо, а имя и достоинство, общественный статус. Например, масштаб фигуры по сравнению с масштабом стоящих по бокам писцов, тонзура, епископский посох в руке и белая лента, паллий, указывают нам вместе с надписью, что перед нами – архиепископ Трира Эгберт (977–993), один из просвещенных оттоновских меценатов. Но вся фигура, включая лицо, сугубо типизирована и никакого диалога со зрителем не предполагает.
То же относится к позднесредневековым скульптурным надгробиям. В виде барельефов они распространились уже в XI столетии. Постепенно эти лежащие фигуры, фр. gisants, все более уплотнялись, превращаясь в горельеф. Уже во второй половине XIII века, в Италии и Германии, явно проступает желание заказчиков и скульпторов отразить индивидуальные черты лица, причем иногда с акцентом на следах старости или болезни. Параллельно с роскошью погребальных комплексов развивались и обряды похорон[249]249
Эта связь детально прослеживается Домиником Олариу: Olariu D. La genèse de la représentation ressemblante de l’homme. Reconsidérations du portrait à partir du XIIIe siècle. Bern etc., 2014.
[Закрыть]. Поэтому важно понимать, что при всей генетической связи индивидуального портрета с этими очень важными физиогномическими опытами функция их принципиально отличается. Надгробия были рассчитаны на прямой, фронтальный диалог не с земным зрителем, но со взглядом Отца, Судии, встречающего душу на пороге вечной жизни. Зритель же был призван на почтительном расстоянии молиться об усопшем, а monumentum, согласно принятой с VII столетия от Исидора Севильского этимологии, должен был monere mentem, то есть «побудить душу вспомнить усопшего».
Наконец, Джотто, величайший новатор рубежа XIII–XIV веков, изобразил своего богатого падуанского заказчика, Энрико Скровеньи, в сцене Страшного суда (1303–1305) в профиль, но с явно индивидуализированными чертами лица (илл. 82). Скровеньи тянется рукой к ангелам, указывая на построенную на его деньги капеллу. Он не боится предстать перед Богом в эсхатологическом времени таким, каков он на Земле, в полный рост. И это – первый точно зафиксированный индивидуальный портрет, важнейшее событие в истории европейской живописи того времени[250]250
Эта мысль впервые возникла у Буркхардта на склоне дней. См.: Seiler P. Giotot als Erfni der des Porträts // Das Porträt… S. 153–172.
[Закрыть]. Но это портрет в церковном пространстве, созданный для решения религиозной задачи – примирения ростовщика и его семьи с церковью и с небесами.

82. Джотто. Страшный суд. Фрагмент фрески (Энрико Скровеньи в сцене Страшного суда). 1303–1305 годы. Падуя. Капелла Скровеньи
Когда фронтальность от иконы была перенята сугубо светским изображением индивидуального лица, тогда на севере Европы и родился современный портрет. Именно фронтальность придала написанному на доске лицу силу присутствия здесь и сейчас, перед глазами зрителя, помогла ему заполнить собой исключительно для него – лица – выделенное пространство: фон. Присутствие «в образе», in imagine, стали воспринимать как присутствие «в теле», in corpore.
Почему так важна фронтальность? Ведь уже в портретах XV века она совсем не строгая, напротив, предпочитали три четверти, да и профиль не исчез. Престиж профильного изображения поддерживался и античным наследием, и медалями, которые заказывали лучшим художникам и скульпторам по особым случаям, для особого подарка и увековечивания памяти. Свадебный парадный портрет четы Монтефельтро Пьеро делла Франческа, настоящая жемчужина в творчестве мастера и в коллекции флорентийской галереи Уффици, показывает, что профиль, в глазах просвещенного итальянского зрителя Кватроченто, по-прежнему отражал личность не менее просвещенного заказчика.
Отчасти дело во взгляде. Лицо с ренессансного портрета не просто зряче, оно именно смотрит, а быть зрячим и смотреть – не одно и то же. Римский скульптор, естественно, изображал человека с открытыми, иногда даже широко распахнутыми глазами. Но даже настоящий, «всамделишный» взгляд римлянина или римлянки на самом деле сохранял дистанцию между образом и зрителем, а значит, указывал скорее на отсутствие портретируемого, а не на присутствие. Здесь же взгляд – посредник, средство самовыражения субъекта, его диалога с миром. Доска с изображением лица – предмет, вещь, лишенная жизни. Лицо, глядящее с доски XV века, что-то рассказывает о себе, претендует на настоящую жизнь, даже когда не смотрит нам в глаза.
Таким фронтальным изображением лица (как и с поворотом в три четверти) полностью овладели фламандцы: Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Петрус Кристус. Они же научились сочетать лицо с интерьером и пейзажем в окне, затем (Мемлинг) – с полностью открытым пейзажем, соединив индивидуальный образ с окружающей природой, с земным миром. Однако самые живые и характерные лица фламандцев всегда либо очень сосредоточены, либо утонченно аристократичны (например бургундские герцоги). И то и другое указывает на дистанцию между зрителем и героем. Сицилиец Антонелло да Мессина, многому у северян научившийся, пошел дальше и ввел в портрет мимику, поэтому в его работах диалог между зрителем и моделью вышел на новый уровень. С помощью взгляда наискосок, едва уловимых движений губ, слегка измененного поворота головы Антонелло научился выражать темперамент и характер изображаемых: любопытство, отрешенность, надменность, жесткость, скепсис, жизнелюбие, внимание. За этими лицами, как никогда, хочется видеть реальных людей итальянского Возрождения[251]251
Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. С. 158–159.
[Закрыть].
Эффект присутствия его героя, даже безымянного, прямо перед зрителем невероятно силен даже сейчас, несмотря на серьезные утраты живописного слоя, которые понесли его портреты 1465–1476 годов. Фламандской поэтикой мельчайшей детали он овладел не хуже северных мастеров – это видно по его сюжетным работам, всегда станковым и обычно небольшого формата. Но фламандские портреты хочется разглядывать в лупу, от частного восходя к общему и смакуя каждую морщинку и каждый волосок. Антонелло к этому не располагает, даже если иные детали, какую-нибудь трехдневную щетину на щеках, разглядишь не сразу. Судя по всему, он шел противоположным – итальянским – путем, от общего к частному. Фламандскому принципу непрерывного развертывания мира бесконечно малых величин, заключенного в раму картины, он противопоставил стереометрическую обобщенность форм, объемно-пространственную замкнутость образа[252]252
Гращенков В.Н. Указ. соч. С. 241.
[Закрыть]. Этой замкнутости подчиняется лаконичный набор использованных художником приемов. Глаза он обрисовывает довольно ровными дугами, в сравнении с ван Эйком – даже схематично. Антонелло убирает все атрибуты и детали, отвлекающие от лица, даже руки, но подписывается на клочке пергамена, cartellino, прикрепленном к парапету внутри портрета, опять же, как нотарий, обращаясь к зрителю от лица картины: «Антонелло Мессинец меня сделал». А заодно оставляет небольшой, но хорошо заметный шрам на губе своего героя (илл. 83). Или награждает незнакомого нам современника такой ухмылкой, что становится не по себе: неслучайно кто-то когда-то расцарапал эту замечательную картину из Чефалу. Перед нами, за три десятилетия до «Джоконды», – первая портретная улыбка, придавшая модели ни много ни мало – характер. Даниэль Арасс почему-то недолюбливал этот портрет, и эту улыбку называл rictus, то есть «оскалом», «гримасой»[253]253
Arasse D. Op. cit. P. 35.
[Закрыть]. Все же перед нами – важнейшее событие в истории лица, даже если мессинский мастер «подглядел» мотив в архаической греческой пластике, в готических статуях или в книжной миниатюре, вернувших улыбку на лица около 1200 года.

83. Антонелло да Мессина. Кондотьер. 1475 год. Париж. Лувр
Дело не в мотиве, а в том, как и зачем он применен. Портреты Антонелло многое взяли от скульптурного портрета, распространившегося в Италии в те же годы. Едва ли не главное отличие бюста Кватроченто от древнеримского, как заметил Ирвинг Лавин, в том, что бюст портретируемого обрезан четко по грудь и не ставится на постамент[254]254
Lavin I. On the Sources and Meaning of the Renaissance Portrait Bust // Teh Art Quarterly. 1970. Vol. XXXIII. No. 3. P. 208.
[Закрыть]. Его можно вообразить и над дверью дома или зала, и на каком-нибудь сундуке или комоде. Учитывая, что скульпторы масштаба Донателло, Лаураны и Росселлино (илл. 84) соревновались с художниками в правдивости передачи индивидуальных черт заказчиков, ясно, что эффект присутствия здесь и сейчас был важен и в живописном, и в скульптурном портрете. Сохранились эпиграммы, в которых бюсты обращаются к зрителю от первого лица, указывая на свою идентичность с тем, кого они изображают.

84. Антонио Росселлино. Портрет Джованни Келлини. 1456 год. Лондон. Музей Виктории и Альберта
Погрудную обрезку итальянцы унаследовали от средневековых реликвариев. Это важно, потому что реликварий головы призван был средствами искусства продемонстрировать реальное присутствие в предмете частицы мощей, причем самой важной. Он был их художественной, рукотворной метафорой. А мощи, в свою очередь, были метонимией святого, некогда жившего на Земле, а теперь – живущего на небесах, но зримо присутствующего на Земле и активно участвующего в земной жизни своих почитателей. В основе этого культа – принципиальный реализм религиозного сознания, в особенности средневекового христианского сознания. При обмирщении его, когда, по словам Ле Гоффа, система ценностных ориентаций европейцев спустилась с небес на Землю, портрет не святого, а живого, но не простого и не бедного человека перенял часть функций такого реликвария. Неслучайно молодому Донателло принадлежит удивительно «портретный» бронзовый реликварий св. Луксория, созданный им в 1424–1427 годах, до распространения бюстов. Если не знать, кто это, его можно было бы принять за какого-нибудь итальянского князя или за гуманиста, задумавшегося над трудным местом у Платона… Вполне вероятно, что перед нами что-то вроде криптопортрета, когда портретируемый не назван, но явлен инкогнито под чужим обличьем и именем[255]255
Ladner G.B. Die Anfänge des Kryptoporträts // Von Angesicht zu Angesicht. Porträtstudien. Festschrift für Michael Stettler. Bern, 1983. S. 78–97.
[Закрыть]. Но важно и то, что голова древнеримского солдата-мученика только что была куплена заказчиками – флорентийскими монахами из церкви Оньиссанти. Им хотелось, чтобы реликварий был максимально «настоящим», глубоко человеческим.
Флорентийцы безусловно ценили схожесть изображения с оригиналом, но опять же дело не только в ней, а в трудно выразимом и малопонятном нам желании присутствовать в виде портрета, живописного, скульптурного, одиночного или коллективного, в церкви рядом с божеством, во дворце у союзника, в опочивальне возлюбленной. Представим себе, что во Флоренции с XV по XVIII век в церквях стояли восковые куклы в рост, одетые по последней моде и – опять же – с портретным сходством на лицах. Эти «приношения», voti, изготавливались во множестве во времена Медичи семейством Бенинтенди, этих мастеров называли fallimmagini, «изготовителями изображений». Сам просвещенный Лоренцо Великолепный, избежав смерти во время заговора Пацци в 1478 году и потеряв брата Джулиано, выставил три таких статуи в благодарность за спасение. Поветрие распространилось так широко, что статуи стали подвешивать к балкам, чтобы всем желающим нашлось место. Подобный языческий фетишизм может удивить и резонно удивлял, например, Варбурга. Найти «загадочному организму флорентийца эпохи Медичи» какое-то четкое определение, конечно, невозможно[256]256
Варбург А. Великое переселение образов. Исследование по истории и психологии возрождения античности / пер. Н. Булаховой, Д. Захаровой. СПб., 2008. С. 62. (Художник и знаток).
[Закрыть]. Но существование таких магических по сути дела практик все же нельзя игнорировать, если мы хотим понять историю человеческого лица и человека вообще в Новом времени.
Того же эффекта присутствия, телесного самоутверждения индивида в пространстве, который давала пластика, добивался наш мессинский мастер. Неслучайно складки какой-нибудь скромной куртки его персонажей так подчеркнуто пластичны, трехмерны, даже монументальны. Отсюда же – мягкость линий, контуров, напоминающих полированный мрамор, который так ценился в эпоху Кватроченто. Но масляная живопись, в особенности технически сложная, как у нашего мессинского мастера, давала картине особую жизненную силу. В результате даже на его моленном образе, фактически «иконе», Спаситель словно выглядывает из картины, чуть ли не касаясь лица молящегося рукой. Он настолько с нами, у нас дома, что контакт с божеством принципиально меняется. И в этом эффекте заключен еще один важный для истории искусства процесс: родившись из средневекового христианского образа богочеловека, homo celestis, ренессансный портрет земного человека, homo terrestris, изменил отношения верующего с Богом, придав им новую задушевность, сократив дистанцию между небом и землей.
Икона, с которой портрет связан и генетически, и в какой-то степени идеологически, совсем не лишена взгляда. Как не лишен взгляда и способности к диалогу и римский портрет. Но диалог может быть разным. С иконой как предметом контакт мог быть очень интимным, даже телесным, потому что икону можно взять в руки, прижать к сердцу, «облобызать». Но здравомыслящему христианину не придет в голову разговаривать на равных со святым, тем более с Богом. Смотревший с иконы Бог приглашал, звал в свой мир, но также предостерегал и грозил. Взгляды, которыми обменивались в этом задушевном разговоре изображенный и зритель, были взглядом Творца на творение и творения – на Творца. Поэтому в иконе Бог остается всегда равным себе, даже меняя «выражение лица». Согласимся, что Он смотрит на верующего по-разному в «Новгородском Спасе» XII века, в «Спасе Ярое Око» XIV столетия и в «Спасе» из Звенигородского деисусного чина начала XV века. В любом случае, это взгляд Всевидца[257]257
В том, что лик с иконы смотрит на зрителя, не сомневались ни на Востоке, ни на Западе. В середине XV века Николай Кузанский, как мы скоро увидим, специально анализировал этот вопрос в пространном трактате, но о связи боговидения с образом Бога, созданным художником, он рассуждал и в других сочинениях, иногда называя Бога собственно «ви́дением» или «созерцанием». См., например: Николай Кузанский. Об искании бога / пер. В.В. Бибихина // Его же. Сочинения: в 2 т. / сост. В.В. Бибихин. Т. 1. М., 1979. С. 292, 294, 302–303. (Философское наследие).
[Закрыть].
Мы бы сегодня назвали такой взгляд гипнотическим, чарующим. На средневековом Западе его силу хорошо знали, и художники им пользовались. Отсюда – огромные выразительные глаза Христа в романской живописи, например, в Каталонии или в Сант-Анджело-ин-Формис в Кампании. В начале XI века небольшая, но очень почитаемая статуя-реликварий св. Веры в городе Конк, в центральной Франции, произвела на паломника Бернара Анжерского такое сильное впечатление, что чудесам, совершавшимся этой святыней, он посвятил целое пространное сочинение: «Чудеса святой Веры»[258]258
Характерно, что образованный паломник сразу относился к славе реликвария довольно скептически, о чем и рассказывает в начале книги (Liber miraculorum sanctae Fidis / ed. L. Robertini. Spoleto, 1994. Р. 74–75. (Biblioteca di “Medioevo latino”; 10)).
[Закрыть]. Само обилие этих чудес многое говорит о том, какие великие надежды христиане того времени возлагали именно на предмет. Статуя-реликварий сохранилась по сей день, заслуженно знаменита и, кстати, по-прежнему никого не оставляет равнодушным (илл. 85). Видевший рождение портрета Николай Кузанский, подарив монахам аббатства Тегернзее икону Спасителя, рассуждал в связи с этим, как икона способна смотреть одновременно на всю братию и на каждого в отдельности. В сочинении «О видении Бога, или Об иконе» 1453 года он четко разделял «абсолютный взгляд», visus abstractus, подобающий Богу, и «ограниченный взгляд», visus contractus, на который может рассчитывать человек[259]259
Nicolaus de Cusa. De visione Dei sive De icona. IV, 19 / ed. H.D. Riemann. Hamburg, 2000. S. 13; Marion J.-L. Seeing, or Seeing Oneself Seen: Nicolas of Cusa’s Contribution in De visione Dei // Journal of Religion. 2016. Vol. 96. No. 3. P. 305–331; Wohlfart G. Mutmaßungen über das Sehen Gotet s. Zu Cusanus’ De visione Dei // Philosophisches Jahrbuch. 1986. Bd. 93. Nr. 1. S. 152.
[Закрыть]. Замечательный философ суммировал тысячелетнюю, пропитанную неоплатонизмом «Ареопагитик» традицию христианских размышлений о природе зрения, по-латыни visio или visus. А новоевропейские языки зафиксировали связь «лица» и «взгляда» в итальянском viso и во французском visage, по глубинному смыслу схожие с уже знакомым нам древнегреческим prósopon.

85. Реликварий св. Веры. Фрагмент. До 1000 года. Конк. Церковь Сент-Фуа
Важно понимать, что в изображении человека искусство раннего Нового времени опередило дискурсивную мысль и литературу. Если мы станем искать литературные параллели Антонелло, Дюреру или Рафаэлю в новеллистике или трактатах того времени, то вряд ли найдем что-то большее, чем клише. Дальше пошел Монтень. Берясь в 1570 году за «Опыты», он решил написать серию собственных портретов, буквально – описать свои «лица», visages, понимая, что любой единичный портрет не может раскрыть его изменчивое «я». Его произведение, как известно, стало важной вехой в истории новоевропейской субъективности, но субъективности литературной, возможно, подготовленной субъективностью визуальной.
В поиске собственного изменчивого, но и портретного «я» Монтень оказался, сам того не зная, предшественником не только первой реальной литературной портретной галереи – «Характеров» Лабрюйера (1688), – но и Рембрандта, который из такого же серийного автопортрета сделал чуть ли не дело всей жизни[260]260
Paris J. Tel qu’en lui-même il se voit // Brion M. et al. Rembrandt. P., 1965. P. 97–98.
[Закрыть]. Причем, глядя на десятки этих опытов мастера, никогда нельзя быть уверенным, где перед нами реальная интроспекция, самоанализ, а где физиогномический эксперимент, «портрет» определенного настроения, характера или темперамента, надетого, словно маска, на собственное лицо. В Голландии его времени этот последний жанр называли «тронье», по-нидерландски «лицо», а собственно портрет конкретного человека – conterfeytsel, термином, пришедшим из романских языков и тогда еще не означавшим подделку. Тронье создавали едва ли не все крупнейшие фламандские и голландские художники XVII века. Современники вроде бы хорошо чувствовали разницу, но в категорию тронье могли записать и образ Христа, и «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера (1665), и «Автопортрет» Рембрандта, и даже натюрморт[261]261
Общий обзор жанра: Gottwald Fr. Das Tronie. Muster – Studie – Meisterwerk: die Genese einer Gattung der Malerei vom 15. Jahrhundert bis zu Rembrandt. München, 2011.
[Закрыть]. Знали они и то, что твое лицо в зеркале – тоже лишь одно из твоих лиц, роль, поза, если не маска.
Рембрандт не отказывался играть роли и позировать – себе и другим. Но на склоне дней его сомнения в собственных силах возрастали и парадоксальным образом отчасти изменили характер творчества. Там, где ранее было желание с помощью пера, резца или кисти проанализировать, скажем, улыбку, восторг или удивление, теперь выступил внутренний мир немолодого человека, причем выступил с невиданной прежде силой, с не знающей пощады самоиронией (илл. 86). Но намерен ли этот ироничный и очень умный мастер впустить нас в свой мир? Или неприкрытый самоанализ – тоже маска, тоже роль? Лучше многих до и после него он знал, что портрет без загадки – уже не портрет, а лишь констатация факта. И мало кто решался на такой бескомпромиссный самоанализ с помощью кисти и красок, даже если среди предшественников можно назвать Дюрера, а среди потомков – Ван Гога, Сезанна и Пьера Боннара.

86. Рембрандт. Автопортрет. 1659 год. Вашингтон. Национальная галерея искусства
Резонно видеть в возрождении индивидуального портрета одно из «открытий» Ренессанса, даже если сам Якоб Буркхардт в специальном эссе 1885 года отдавал пальму первенства ван Эйку и бургундскому двору, то есть заальпийскому северу, а не его любимому югу – Италии. Резонно связывать способность различить и изобразить кистью или резцом неповторимые, изменчивые черты с новой способностью европейца вообще наблюдать окружающий мир со зрительным любопытством. В этом смысле сотня узнаваемых цветов, плодов и трав в боттичеллиевской «Весне» (1482) – тоже «портрет» природы, который зритель умел по достоинству оценить. Но не будем забывать, что лицо – «поверхность», лат. facies, за которой скрыта невидимая глазу суть человека. Виртуозность в изображении деталей, доходящая у лучших мастеров до грани невозможного, – необходимая предпосылка для создания портрета.
Не менее важен и тот особый умственный и душевный настрой, который я бы назвал интроспекцией и который свойственен был не только художникам. В культуре «осени Средневековья» он сформировался не столько в художественных мастерских, сколько в толще религиозной и культурной жизни. Трактаты итальянских гуманистов о природе человека выразили этот настрой в такой же мере, в какой и многочисленные религиозные сочинения, так называемая мистика, поэтические и схоластические сочинения о соотношении души и тела, о бренности всего и вся, о посмертном воздаянии, эсхатология. Вопрос о том, каким именно, в каком облике каждый из нас предстанет в момент смерти или в конце времен перед Всевышним, вовсе не был праздным. И даже если не все мастера обладали эрудицией Яна ван Эйка, Боттичелли или Дюрера, настоящий художник в любые времена отличался от ремесленника чуткостью к вопросам своей эпохи и к ожиданиям своих клиентов и зрителей.
Уже некоторые епископы, кардиналы и папы рубежа XIII–XIV веков заказывали весьма натуралистические надгробия, видимо, навязывая скульпторам узнаваемость черт лица погребаемого. В этом новшестве одновременно говорили о себе новое самосознание индивида, облеченного властью, и новая религиозность, сознание личной ответственности перед Богом. Однако, когда иное высеченное в мраморе лицо на надгробии кажется нам индивидуализированным, не стоит тешить себя мыслью, что мы увидели лицо реального человека, более или менее такое, каким оно было при жизни. Понятия «модели», с которой работает «портретист», тогда не существовало. Зато был запрос на похожесть, а крупный мастер, скажем, Арнольфо ди Камбио, искал в своем словаре форм, в доступном ему античном наследии и в памятниках XIII века новые выразительные средства, в том числе для передачи разнообразной мимики[262]262
Keller H. Die Entstehung des Bildnisses am Ende des Hochmitet lalters // Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte. 1939. Bd. 3. S. 282.
[Закрыть]. В 1282 году он не посчитал зазорным украсить заказанную ему усыпальницу кардинала Гийома де Брэ в Орвието античной статуей, которую он просто слегка «подтесал» под Деву Марию. Но и полноватое, курносое лицо покойного не назовешь типичным или идеализированным.
Светские государи не отставали и обставляли свои похороны с блеском, не укладывающимся в рамки (привычного нам) разумного. Бургундский двор конца XIV–XV веков в плане хитрой на выдумки роскоши был притчей во языцех. Она в красках и саркастично описана сто лет назад Хёйзингой. Но уже он резонно отмечал, что религиозная и светская стороны этого придворного жизненного уклада не отделимы друг от друга[263]263
Хёйзинга Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах: соч.: в 3 т. / пер. Д.В. Сильвестрова. Т. I. М., 1995. С. 50.
[Закрыть]. Тому сохранилось множество больших и малых свидетельств в мире искусств, некоторые из них касаются и интересующей нас сейчас темы.
Одно из них – так называемый колодец Моисея в Дижоне. Это монументальная «Голгофа», созданная на рубеже XIV–XV веков голландскими скульпторами Клаусом Слютером, его племянником Клаусом ван де Верве и фламандским художником Яном Маалвалом (фр. Жан Малуэль) на территории картузианского монастыря Св. Троицы в Шанмоле, где герцог Филипп Смелый решил устроить усыпальницу для своего дома. То, что сейчас, на территории больницы, можно видеть через окна специального музейного павильона – благородное воспоминание о былом величии. Памятник воспринимался настолько чудодейственным, благородным и спасительным, что с 1418 года папство неоднократно гарантировало индульгенцию паломникам. Вода, бившая фонтаном, считалась целебной, отсюда современное название. Все это неспроста: за роскошью герцогского двора, как и за всей вполне земной бургундской политикой, стояло неподдельное благочестие, в чем-то схожее с рыцарским благочестием крестоносцев, в чем-то намного более эстетское, по сути, ренессансное, но не итальянское, а «заальпийское». На христианские реликвии не жалели средств. Третья жена Карла Смелого Маргарита Йоркская покровительствовала реформированным монастырям Фландрии, Беатриса ван Равенстейн, одна из первых дам двора, под платьем носила власяницу, аскеты не избегали общения с властителями. Настоящее Новое благочестие, конечно, развивалось за границами репрезентации власти и вообще без помпы. Но оно влияло и на повседневную религиозную практику вполне искренне верующих государей, нуждавшихся в союзе с небом не меньше, чем в союзе с Англией и в примирении с парижскими Валуа.
У подножия мраморной «Голгофы», разрушенной еще до Революции 1789 года, стояли шесть пророков – и они, по счастью, хорошо сохранились: уже в 1840 году эти скульптуры вошли в первый список культурного наследия французской нации. Это – шедевры двух Клаусов. Моисей, Давид, Иеремия, Исайя, Даниил и Захария возвестили о смерти Христа, что и объясняет их присутствие в программе. Каждый наделен глубоко индивидуальными, величественными чертами лица, которые подчеркнуты как работой резца, так и полихромией (за которую, кстати, платили не меньше, чем за резьбу). Но все одеты по последней бургундской моде и стоят так, как положено было стоять сеньорам.
Сегодня, повторю, их можно видеть только через стекло, что, к сожалению, резко снижает достижимость того реального диалога со зрителем, на который они рассчитаны. В образе Иеремии иногда даже видят криптопортрет герцога, что вполне вероятно, но, как и положено криптопортрету, не принципиально. Принципиально то, что их лица, выражающие одновременно молитвенное сосредоточение и божественное, пророческое вдохновение, обращаются к зрителю с прежде невиданной непосредственностью. Она подчеркивается разнообразием поз, основанных на законе контрапоста, и таким же разнообразием мимики, наклонов головы, жестов рук. И при этом парадоксальным образом они сохраняют свое достоинство, свою стать, осанку. Здесь говорит пафос дистанции, подобающий подданному по отношению к сеньору, а слушающему – по отношению к вещающему. Они – посредники между нами, живыми, и умирающим на кресте, между Марией и Иоанном, между землей и небом. То, что они говорят с нами, подчеркивается надписями на свитках, филактериях. Например Исайя (илл. 87): «Как овца, ведомая на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен и не отверзает уст своих» (Ис 53: 7). Ему вторит Даниил: «И отвесят мзду мою тридцать сребренников» (Зах 11: 12). Между этими ветхозаветными провозвестниками спасительной жертвы, стоящими на консолях, как в соборе, парят поющие (с раскрытыми ртами) ангелы, сложив руки ровно так, как складывали их монахи-картузианцы во время богослужения. Их – монахов – задача состояла в том, чтобы молиться за правящий дом. Ангелы подсказывали им, как это делается. Пророки, удивительно похожие на бургундских знатных богомольцев, показывали им, кто платит за их молитву. А гербы всех герцогских владений, украшавшие не только пьедестал, но даже крылья креста, не оставляли сомнений в том, для кого возведен этот необычный по роскоши исполнения памятник.

87. Клаус Слютер, Клаус ван де Верве. Пророк Исайя. Деталь колодца Моисея. Около 1400 года. Дижон. Бывший картузианский монастырь Шанмоль
Казалось бы, скульпторы скованы выполнением довольно прагматичной задачи, поставленной спесивым заказчиком. Хёйзинга, утрируя жесткость церковного диктата и груза иконографического канона, парадоксальным образом почти отказывал им в свободе[264]264
«Ведь именно в деталях художник совершенно свободен. Что касается основного замысла, воплощения священного сюжета, он связан строгой условностью; всякое произведение, предназначенное для церкви, имеет свой иконографический канон, никакое отклонение от которого недопустимо» (Хёйзинга Й. Указ. соч. С. 281). Такой упрощенный взгляд на идеологический диктат Церкви в области искусства сегодня глубоко устарел. Но во фразе есть и внутреннее противоречие: «основной замысел» всякого произведения как раз и вырастает из деталей, в которых мастер «абсолютно свободен».
[Закрыть]. Между тем без Слютера не было бы и фламандского чуда, не было бы великих миниатюристов – братьев Лимбургов, племянников Маалваала. Не было бы, наверное, даже «Портрета четы Арнольфини», потому что он – в чем-то антипод придворного искусства, он написан для друзей, пусть не бедных, но все же не властелинов Европы, для которых даже Слютер и Ян ван Эйк – не более чем камердинеры, valets de chambre. Для сильных мира сего иногда, когда у тех находились деньги и было настроение подписать долгосрочный контракт, создавали шедевры, но в основном для них расписывали гербы, платья, паруса, устраивали бутафорские празднества. Впрочем, тем же зарабатывал во Флоренции Филиппо Брунеллески, создатель самого красивого ренессансного купола и «изобретатель» перспективы[265]265
Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. Творческая личность в контексте ренессансной культуры. М., 1991. С. 172–188.
[Закрыть].
Слютер, де Верве и их последователи не создавали портретов. Они соединяли мир живых и мертвых – в угоду живым. Дижонские герцогские погребения в этом плане выполняли ту же функцию, но и они важны для истории лица, причем в большей степени значимы некрупные, около сорока сантиметров, алебастровые статуэтки плакальщиков, а не gisants, по-своему, конечно, тоже замечательные, но скорее спокойным величием, чем физиогномикой[266]266
Подробное описание см.: Jugie S. Les pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne. Dijon, 2010.
[Закрыть]. Эти плакальщики, старофр. plourants, примостившись под готическими аркадами постамента, должны были увековечить тех клириков и мирян, взрослых и детей, которые реально сопровождали торжественную похоронную процессию, зафиксированную в памяти знати хронистами. Камень призван был воплотить ежедневную молитву шанмольских монахов-картузианцев, придать живым уверенности в том, что их не слишком безгрешные предки если не в раю, то хотя бы в чистилище. Потому что смерть правителя, увековеченная церемонией и памятником, была такой же инсценировкой власти, как коронация, свадьба или военный триумф.
Для нас же плакальщики примечательны тем, что их лица должны были выразить физиогномически всю палитру скорби подданных усопшего государя – примерно так же, как инсценировка погребения выразила ее единожды в реальном времени. Первой гробнице и ее плакальщикам подражали на протяжении всего XV века: Хуан де ла Уэрта и Антуан ле Муатюрье, следуя образцу и поэтому в суховатой, схематичной манере, создали гробницу Жану Бесстрашному и Маргарите Баварской (1443–1470). Их пощадили иконоборцы всех последующих веков, их недавно отреставрировали, пронумеровали с 1 по 80 и показали на выставках в 2010–2012 годах в Европе и в США. Лишь несколько фигурок оказались в частных руках и в Художественном музее Кливленда в США, поэтому ансамбль можно считать относительно сохранившимся и локализованным in situ. Для истории же искусства поразителен тот простой факт, что плакальщики оказались чуть ли не важнее, чем изображения всесильных герцогов – это заметил еще Стендаль в начале XIX века. Но есть в этом и своя логика, своя правда: они, а не gisants, общаются со зрителем, они своими позами и выражениями лиц призваны настроить его на молитвенный лад. И с этой задачей плакальщики прекрасно справляются, даже с лицами, наглухо прикрытыми капюшонами: редкий случай, когда закрытое лицо так красноречиво.
Таков религиозно-культурный фон, на котором возник один портрет, рассказом о нем хотелось бы завершить этот экскурс в историю лица. Речь идет о небольшом поясном бюсте неизвестного мужчины, задумчиво облокотившегося правой рукой на левую (илл. 88). Это лучшая работа Николая Лейденского, замечательного нидерландского скульптора, жившего в 1460-е годы в Страсбурге, тогда культурной метрополии долины Рейна, свободном имперском городе. И знать, и богатые бюргеры с удовольствием заказывали скульпторам не только надгробия, но и бюсты, помещавшиеся в оконные проемы, поэтому такие лица часто смотрят на нас как бы со второго этажа, облокотившись на подоконник, что сближает их с некоторыми итальянскими живописными портретами того времени. Эти двойники своих заказчиков наблюдали за происходящим на улице, навязчиво предъявляя себя прохожим. Образцы этой специфической, относительно мобильной пластики, выставленные в местном музее собора, свидетельствуют о живом интересе к индивидуальной физиогномике, включая различные аномалии и гримасы (илл. 89).

88. Николай Лейденский. Бюст мужчины. 1463 год. Страсбург. Музей собора Нотр-Дам

89. Группа вокруг сотника Лонгина из скульптурной композиции Распятия. 1460-е годы. Страсбург. Музей собора Нотр-Дам
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































