Текст книги "16 эссе об истории искусства"
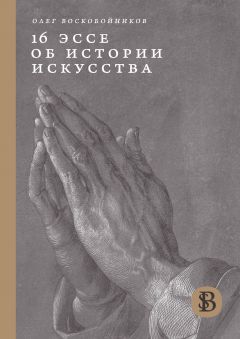
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Если верить Порфирию, верному биографу Плотина, один ученик попросил у него портрет, но тот категорически отказал: «Не довольно ли того, что приходится носить облик, данный нам природой?» Иногда это место трактовали так, что Плотин-де стеснялся собственного тела – с этого, собственно, начинается жизнеописание. Но не стоит спешить с диагнозом. Важнее другое. Увековечивать конкретную личность – не задача для настоящего искусства, ведь и Фидий «не избрал никакой конкретной модели, но вообразил себе Зевса таким, каким он был бы, если бы согласился предстать нашим взорам»[399]399
Плотин. Пятая эннеада. V, 8, 1. С. 243 (пер. Т.Г. Сидаша: с. 212).
[Закрыть]. Чтобы научиться смотреть внутренним зрением, следует очистить зрение телесное, потому что бесполезно приступать к созерцанию «с гноящимися глазами». А значит, труд художника может быть символом поиска истинного «я»[400]400
Адо П. Плотин, или Простота взгляда / пер. Е. Штофф. М., 1991. С. 15.
[Закрыть]. «Как же можно увидеть красоту благой души? Загляни в себя и, если ты еще не видишь внутренней красоты, делай, как скульптор: он отсекает, шлифует, полирует и обтачивает, пока лицо не станет прекрасным. Так и ты избавляйся от лишнего, выпрямляй искривленное, верни блеск замутненному, ваяй без устали своего кумира, пока не воссияет в божественном блеске добродетель»[401]401
Плотин. Первая эннеада. I, 6, 9. С. 255–256 (пер. Т.Г. Сидаша и Р.В. Светлова: с. 239).
[Закрыть].
Истинное лицо человека – не в его морщинах, разрезе глаз, рисунке губ или бородавках (их мы видели на древнеримских портретах). Истинное лицо – внутри. Это не значит, что реалистический портрет, возникший из республиканского культа предков, не отражал внутреннего мира гражданина или подданного, магистрата или императора. Но он стремился вывести душу на поверхность, доверяя этой самой поверхности. Более того, характерные черты, в том числе неправильности, признаки болезни или старости, могли восприниматься как своеобразные знаки социального достоинства, то есть опять же превращать индивидуальный, интимный портрет в нечто большее, в воплощенный образ гражданственности или имперской власти. Портретист времен Плотина мог использовать реалистические приемы по привычке, следуя конкретному замысловатому заказу какого-нибудь высоколобого сенатора, жившего среди древних бюстов. Но реализм в передаче индивидуальных черт лица или фигуры перестал быть законом и превратился в опцию.
На плоском лице III–VI веков, естественно, все на месте, все читаемо, но выражение лица скрадывается, уходит как нечто эфемерное, ненужное. Правая и левая стороны, в жизни никогда не идентичные, трактуются с минимальными отклонениями, морщины теряют выразительность, становясь намеками, «знаками». Волосы превращаются в орнаментальную разметку, слитую с черепом, голова удлиняется, усиливая ощущение отстраненности изображенного человека. В таких портретах индивидуализация как эстетическая ценность уступает место тяге к абстракции. Судя по всему, такое обобщение вошло в моду: портрет дамы, возможно, из семейства императора Феодосия I (илл. 122), с ее весьма условным головным убором, абсолютно гладкой, чуть ли не мертвой кожей и вообще отсутствующим выражением лица, был поручен профессиональному мастеру своего времени. Просто в его время, на рубеже IV–V веков, сама индивидуальность уже выражалась на другом, неклассическом языке. Как верно заметил Андре Грабар, скульпторов, конечно, не волновали ни «Эннеады», ни проповеди Отцов Церкви, но лишь вкусы заказчиков. А вот вкусы действительно формировались не без влияния словесности и философских идей: учтем, что к Плотину можно было зайти прямо с улицы и что многие аристократы Империи эпохи упадка считали своим долгом упражняться в мудрости. Ничего другого эпоха упадка им не оставляла.

122. Бюст женщины, возможно, из семейства императора Феодосия I. Из раскопок виллы Шираган. 390–420-е годы. Тулуза. Музей Сен-Ремон
Приведу характерную параллель. Около 402 года просвещенный епископ Сульпиций Север попросил Павлина Ноланского, в будущем святого и не менее просвещенного епископа, прислать ему в Галлию свой портрет, чтобы в знак дружбы и уважения поставить его рядом с образом св. Мартина во вновь выстроенном баптистерии в Примулиаке. Тот отвечал: «Заклинаю тебя нашим глубоким чувством: каких утешений истинной любви ты ищешь в безжизненных формах? Чьего изображения ты ждешь от меня? Земного человека или небесного? Знаю, что ты жаждешь того нетленного образа, который в тебе возлюбил Царь Небесный. Ведь тебе не нужен никакой иной образ кроме того, по которому ты сам сотворен, благодаря которому ты любишь ближнего своего, как себя самого, в котором ты никогда не захочешь возвыситься надо мной так, чтобы мы в чем-либо оказались неравными. Но я нищ и убог, ибо по сей день скован грубостью земного образа, а своими плотскими чувствами и земными деяниями похожу более на первого, нежели на второго Адама. Как же я отважусь изобразить себя для тебя, когда я осужден отрицать небесный образ своим земным несовершенством? Стыд подступает ко мне с двух сторон: я стыжусь изобразить себя таким, какой я есть, и не решаюсь изобразить таким, каковым не являюсь; ненавижу то, что я есть, и не есть то, что люблю»[402]402
«Quid enim tibi de illa petitione respondeam, qua imagines nostras pingi tibi mittique iussisti? obsecro itaque te per viscera caritatis, quae amoris veri solatia de inanibus formis petis? qualem cupis ut mittamus imaginem tibi? terreni hominis an caelestis? scio quia tu illam incorruptibilem speciem concupiscis, quam in te rex caelestis adamavit. Neque enim alia potest tibi a nobis necessaria esse quam illa forma, ad quam ipse formatus es, qua proximum iuxta te diligas nulloque te nobis excellere velis, ne quid inter nos inaequale videatur. Sed pauper ego et dolens, quia adhuc terrenae imaginis qualore concretus sum et plus de primo quam de secundo Adam carneis sensibus et terrenis actibus refero, quomodo tibi audebo me pingere, cum caelestis imaginem infitiari prober corruptione terrena? Utrimque me concludit pudor: erubesco pingere quod sum, non audeo pingere quod non sum» (Paulinus Nolanus. Epistula XXX. Cap. 2 // Idem. Epistulae / ed. G. de Hartel. Wien, 1894. P. 262–263).
[Закрыть].
Очевидно, что епископ Нолы относится к своему портрету (и законному «праву на портрет», ius imaginis) примерно так же, как его далекий языческий и, скорее всего, ему не знакомый предшественник – Плотин. Влияние неоплатонизма на нарождавшуюся христианскую философию давно известно. Отразилось оно, видимо, и на отношении к искусству, которого тот же св. Павлин вовсе не был чужд. Все это проистекало, как отмечал еще в начале XX века Макс Дворжак, из одной и той же новой, не античной жизни чувств и представлений, самым важным признаком которой было отрицание благ этого мира и сосредоточение мыслей на потустороннем[403]403
Дворжак М. История искусства как история духа / пер. А.А. Сидорова и др. СПб., 2001. С. 26. (Мир искусств).
[Закрыть]. Основные проблемы античного миросозерцания, касавшиеся земного бытия и становления человека, утратили силу, их место заняла проблема предначертанного человечеству искупления, Спасения. Вместе с нею возникли новые чувства и убеждения, которые глубокой пропастью были отделены от старых идеалов – натуралистических, ограничивавшихся влиянием лишь сил природы. Так, во всяком случае, хочется думать любому, кто предпочитает четкие границы между историческими эрами. В искусстве и философии всё, как мы видели, сложнее.
Средневековое искусство на Западе, как и античное, настоящей теории не выработало. Интеллектуалы периодически вспоминали и Апеллеса, и Витрувия, напрочь забыли Плотина, но иногда вспоминали Платона. Поскольку всплеск интереса к платоновской космологии «Тимея» можно констатировать в Шартре в первой половине XII века, то историки искусства периодически связывают расцвет философско-литературной Шартрской школы с возведением там же знаменитого собора, с его порталами и витражами середины XII – первой половины XIII века[404]404
Katzenellenbogen A. The Sculptural Programs of Chartres Cathedral. Christ, Mary, Ecclesia. N.Y., 1959. P. 19–20.
[Закрыть]. Один из лидеров этой школы, Теодорих Шартрский, действительно вдумчивый читатель «Тимея», был около 1140 года канцлером собора и действительно мог повлиять на иконографическую программу, если таковая вообще существовала. Неслучайно милые его сердцу свободные искусства оказались впервые включенными в историю спасения человечества на одном из трех западных порталов. Однако не платонизм и не шартрцы XII века взрастили готику и выстроили великие соборы.
Первым сопоставил готику и схоластику, видимо, Кант, увидев в готике «гримасу» (нем. Fratze) архитектуры, а в схоластике – «гримасу» философии. Бытовала и другая точка зрения. Около 1800 года Шатобриан в масштабном апологетическом «Гении христианства» красиво озвучил одну из витавших в его время в воздухе идей – об «органическом» происхождении зодчества: «Галльские леса, в свою очередь, передали свой облик храмам наших предков, и поэтому наши дубовые рощи сохранили свой священный ореол. Своды, украшенные каменной листвой, столбы, поддерживающие стены и неожиданно обрывающиеся, подобно срубленным стволам, прохлада святилища, сень алтаря, сумрачные приделы, тайные ходы, низкие двери – все в готическом храме воспроизводит лабиринт лесов, все внушает священный трепет, все исполнено таинственности и напоминает о Боге»[405]405
Шатобриан Ф.Р., де. Гений христианства / пер. О.Э. Гринберг // Эстетика раннего французского романтизма… С. 190.
[Закрыть]. С таким же энтузиазмом юный Гёте в 1771 году трактовал фасад Страсбургского собора, в его время – самой высокой церковной постройки Европы: «Приблизьтесь же и познавайте самое глубокое соотношение правды и красоты, которое было явлено сильной, суровой германской душой на тесной, мрачной арене ханжеских medii aevi»[406]406
Гёте И.В. О немецком зодчестве // Его же. Об искусстве. С. 71.
[Закрыть]. Так рождался романтизм.
Те, кто разрабатывали подобные параллели в XIX столетии, настаивали ровно на противоположном: рационализме. Готическая постройка, утверждал Эжен Виолле-ле-Дюк, абсолютно логична в каждой своей детали, даже когда она скрыта под декоративным покровом. Третьи настаивали на иррационализме готики и схоластики, потому что и там, и там мысль стремилась в горние выси, не считаясь ни с какими препятствиями, будь то косная материя камня или непознаваемость божества. Влиятельный ученый, романтик Эрнест Ренан видел их родство в том, что их крупнейшие памятники, собор и «сумма» (т. е. свод знаний), никогда не достигали завершения: собор вечно достраивали и перестраивали, схоластическая «сумма» тоже словно напрашивалась на постоянное пополнение, дописывание, переписывание и часто была делом коллективным. В самом конце XIX века замечательный эрудит Эмиль Маль описал религиозное искусство Франции XIII века, то есть расцвет той самой готики, как иллюстрацию энциклопедических знаний, воплотившихся в самом большом своде того времени – четырех «зерцалах» Винсента из Бове[407]407
Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции / пер. А. Пожидаевой, Д. Харман. М., 2009. С. 61–64. (Bibliotheca Ignatiana: Богословие. Духовность. Наука).
[Закрыть]. Вскоре после Второй мировой войны Эрвин Панофский доказывал, что дело не в незаконченности, а в общем принципе внутреннего развития: архитектор А начинает постройку в одном стиле, следующий за ним архитектор B продолжает в другом, архитектор C приводит их начинания к новому синтезу. Точно так же Фома Аквинский, разбирая конкретный вопрос, приводит аргументы за, аргументы против и делает на их основе собственный вывод. Подобно схоластической «сумме», заключает автор, собор стремился к «тотальности»[408]408
Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика / пер. Л.Н. Житковой. СПб., 2004. С. 251. (Художник и книга).
[Закрыть]. Хитрость, правда, в том, что Аквинат (и с ним схоластика) далеко не часто сводит противоположные аргументы к синтетическому единству, но рассуждает следующим образом: А не прав, В не прав, С не прав, D прав, я следую за D.
Комментируя строение тимпана над порталом и порядок схоластического дискурса, Панофский разыскивал некий общий «умственный настрой» эпохи (англ. mental habit). В этом он следовал одновременно и своему учителю Аби Варбургу, и Йохану Хёйзинге, автору знаменитой книги «Осень средневековья», тоже представлявшей собой развернутый комментарий к искусству братьев ван Эйков. Параллельно Панофский всерьез занимался творчеством французского аббата Сугерия, который в первой половине XII века перестроил базилику королевского аббатства Сен-Дени. Поскольку тот оставил после себя интересные сочинения, историк искусства нашел в них реминисценции из великого философского сочинения раннего христианства – «Ареопагитик». Их автор, на самом деле неизвестный, резонно отождествлялся с патроном аббатства, естественно, этим текстам здесь придавался особый авторитет. Историкам средневековой философии хорошо известно, что глубоко пропитанное неоплатонизмом богословие «Ареопагитик» оказало сильнейшее влияние на средневековую картину мира; Панофский пошел несколько дальше и попытался доказать, что и сугериевский хор Сен-Дени (илл. 123), с его абсолютно новой для своего времени системой освещения и формирования алтарного пространства как бы без помощи материи, непосредственно связан с тем, как именно Сугерий читал Псевдо-Дионисия.

123. Хор и неф королевского аббатства Сен-Дени. Вторая четверть XII века, 1230–1240-е годы. Париж
Комментируя подобные поиски общего историко-культурного знаменателя, неотомист Этьен Жильсон, один из крупнейших историков средневековой философии, писал (в одном частном письме), что «схоластика» вообще очень размытое понятие, что он сам не смог бы дать ей определение и что поиск параллелей годен лишь для риторического упражнения[409]409
В специальном исследовании, опираясь в одинаковой мере на Аристотеля и на Фому Аквинского, Жильсон отстаивал свое глубокое убеждение, что искусство внеположено познанию (Gilson É. Introduction aux art du Beau. P., 1963. P. 9).
[Закрыть]. Правда, желание идти против всеобщего увлечения, обострившегося после войны, заставило его опровергнуть и очевидное: готика, пишет он, достигла апогея в тот момент, когда схоластика была еще ребенком. Но если считать «зрелостью» великие соборы Северной Франции середины XIII века, то в «детях» окажутся тот же Фома, Альберт Великий и Бонавентура. В критике Жильсона есть бравада мэтра, верного сына Католической церкви, будто слегка недовольного успехом «безбожника», варбургианца Панофского, великого эрудита, но все же в первую очередь ренессансиста, а не медиевиста[410]410
Его эрудиция, впрочем, вызывала такое уважение в принстонском Институте перспективных исследований, что в кругу друзей помимо уменьшительно-ласкательного Пан за ним закрепилось немного устрашающее прозвище Удав (Boa Constrictor).
[Закрыть]. Оба его эссе о готике подвергались и более основательной критике, в том числе в наши дни[411]411
Традиция изучения этого вопроса изложена в кн.: Хрипкова Е.А. Базилика Сен-Дени аббата Сугерия. М., 2013. С. 26–41, 203–215.
[Закрыть]. Однако само представление о неразрывных связях между искусством эпохи готики и мыслью позднего Средневековья благодаря научно-популярной литературе закрепилось как в науке, так и в более широкой культурной среде[412]412
Дюби Ж. Время соборов. Искусство и общество. 980–1420 / пер. О.Е. Иванова, М.Ю. Рожнова. М., 2002. С. 126–128.
[Закрыть].

124. Рогир ван дер Вейден. Алтарь семи таинств (центральная панель). Фрагмент с изображением таинства Евхаристии и демонстрации гостии. 1445–1450 годы. Антверпен. Королевский музей изящных искусств
Споры о соборе и его мировоззренческих и философских основаниях не утихают и вряд ли утихнут, периодически они складываются в новые синтетические концепции. Популярно объяснение этого художественного комплекса через усложнение религиозности, в частности, литургии с новым обрядом демонстрации гостии, то есть Тела Христова (илл. 124), возрождение оптики, называвшейся тогда неслучайно латинским словом perspectiva, возникновением профессии архитектора. Добавлю к этому, что в чем-то антиклассическая готическая архитектура с 1200 года украшалась скульптурой, ориентировавшейся на античную пластику: контрапост шартрских фигур, о которых я говорил ранее, не внес в «тело» огромного храма стилистического диссонанса. Еще через два десятка лет на стенах Реймсского собора появились так называемые маски, о функциях которых историки спорят, но всем очевидно, что они представляют собой своеобразные физиогномические опыты[413]413
О значении контрапоста для готической пластики, его связи с интересом к античной скульптуре, в частности, в Реймсе, см.: Wirth J. La sculpture de la cathédrale de Reims et sa place dans l’art du XIIIе siècle. Genève; P., 2017. P. 27–36, 162–166. (Ars Longa; 6).
[Закрыть] (илл. 125).

125. Голова мужчины. Нижний угол оконного проема верхнего яруса югозападной башни Реймсского собора. Около 1225 года. Реймс
Возвращение тела и лица в западноевропейскую пластику такого значения, как Реймс и Шартр, может объясняться не в последнюю очередь и возрождением культуры тела, cura corporis, как ее называли, хорошо заметным в произведениях литературы того времени, как художественной, так и специальной, будь то литература по медицине, астрологии или физиогномике. Интерес к человеку, микрокосмосу, сопровождался, естественно, и интересом к макрокосмосу, иллюстрацией чему в какой-то степени могут служить как растительные мотивы капителей, вся эта «готическая флора», так и некоторые иллюстрированные рукописи, в которых художники пытались следовать не только заранее заданным моделям, но и эмпирическим реалиям. Характерный тому пример – «Искусство соколиной охоты» Фридриха II, иллюстрированное в Южной Италии около 1260 года для его наследника – короля Манфреда. И конечно, важнейшим катализатором этого открытия природы и человека послужили перевод и активная рецепция естественнонаучных трудов Аристотеля, его комментаторов и произведений античной и арабской медицины, трудов по астрономии и астрологии[414]414
Воскобойников О.С. Литературные истоки готической физиогномики // Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе / отв. ред. М.А. Бойцов, О.С. Воскобойников. М., 2021. С. 136–164. (Polystoria). О Фридрихе II и «Искусстве соколиной охоты»: Его же. Душа мира. Наука, искусство и политика при дворе Фридриха II. 1200–1250. М., 2008. С. 139–203.
[Закрыть].
Как можно видеть, историки искусства, трактуя изображения и постройки, любят искать опору в текстах. Это особенно привлекательно, когда такие тексты есть, когда легко или трудно различимые нити протягиваются от них к образам, когда выстраиваются относительно надежные или гипотетические причинно-следственные связи. Возрождение в Европе породило и великое искусство, и великую философию, создало во многом новую картину мира, унаследованную и нами. Называть ее научной в отличие от предшествующих, «ненаучных», представляется мне анахронизмом, к тому же мало что в культуре Возрождения объясняющим. Тем не менее мы не можем отрицать, что Альберти был в одинаковой мере философом, писателем и художником, что Леонардо как художник немыслим без Леонардо-естествоиспытателя, экспериментатора и анатома, что юный Микеланджело сформировал свой талант около 1490 года в кругу Лоренцо Великолепного и пользовавшихся его покровительством неоплатоников, умнейших людей своего времени. Чуть позднее из Умбрии во Флоренцию приехал и Рафаэль.
Флоренция XV века действительно стала той средой, в которой теоретические и практические идеи обсуждались уже не только на ученой латыни, но и на понятном художникам вольгаре (ни Мазаччо, ни Леонардо, ни Микеланджело, ни Рафаэль латыни не знали). В мастерской Боттичелли, как свидетельствует один хронист, собирались всякие «бездельники» (scioperati) и вели беседы на разные темы. Этот художник слыл умником и склонным к рассуждениям о словесности – не зря он иллюстрировал «Комедию» Данте, и это его произведение, естественно, – одно из самых сложных. Границы между позитивными знаниями, философской рефлексией и художественным их воплощением легко преодолевались. Поэтому то, что рекомендуется, например, в небольшом сочинении «О живописи» Альберти (1435), воспринималось не только как конкретный прием, но и как новая художественная и мировоззренческая парадигма: «Сначала там, где я должен сделать рисунок, я черчу четырехугольник с прямыми углами, такого размера, какого я хочу, и принимаю его за открытое окно, откуда я разглядываю то, что на нем будет записано, и здесь я определяю рост человека, нужный мне для моей картины, и делю рост этого человека на три части, каждую из которых я для себя принимаю пропорциональной той мере, которая называется локтем»[415]415
Альберти Л.Б. Три книги о живописи / пер. А.Г. Габричевского // Его же. Десять книг о зодчестве. Т. II. С. 36.
[Закрыть]. Это не значит, что всякая картина того времени – «окно». Но к Альберти прислушались, а предложенный им прием непосредственно связан с развитием так называемой прямой, или итальянской, перспективы с ее единой точкой схода. Его дело продолжил Пьеро делла Франческа, снискавший себе в 1470-е годы славу короля живописцев Италии вне Флоренции, причем в большей степени благодаря своим трактатам по прикладной математике, чем картинам и фрескам[416]416
Field J.V. The Invention of Infinity. Mathematics and Art in the Renaissance. Oxford, 1997. P. 62.
[Закрыть].
Значение открытия перспективы и золотого сечения для истории науки и искусства хорошо известно, цепочка экспериментов, идущая от опытов Брунеллески к телескопу Галилея, в большой степени сформировала современную картину мира[417]417
Edgerton S. The Mirror, the Window, and the Telescope: How Renaissance Linear Perspective Changed Our Vision of the Universe. Ithaca; L., 2009.
[Закрыть]. Современники восприняли изложенные и продемонстрированные Брунеллески и Альберти принципы как науку об изображении предметов на плоскости в соответствии с законами зрительного восприятия. Эта perspectiva, не раз описывавшаяся теоретиками того времени (Тосканелли, Пьеро делла Франческа, Дюрер), принципиально отличалась от той perspectiva, которая разрабатывалась в древности, затем арабами (Ибн аль-Хайсам) и западными схоластами XIII века (Витело, Роджер Бэкон, Иоанн Пекхэм). А картина, написанная по геометрически и математически точным правилам перспективы, стала, как говорил о. Павел Флоренский, «формулой бытия», принципиально отличающейся от иконы. Ни перспектива, ни точка схода не стали обязательными условиями существования живописи – уже Леонардо они волновали мало, о чем свидетельствует, например, миланская «Тайная вечеря». Но все же это – изначально научное – открытие дало художникам возможность, как сказал бы Уильям Блейк, «в одном мгновенье видеть вечность». Художник, облачившись в одежду ученого, обрел к 1500 году совершенно новую независимость – независимость поэта с его особой «психологией» и заботами, недоступными простым смертным, авторитет жреца муз, который творит, задействуя все силы своей души, парящей над условностями[418]418
Шастель А. Указ. соч. С. 410–417.
[Закрыть].
В одной рукописной заметке Леонардо записал: «Кто рисует лицо, но не может им стать, не сможет его исполнить»[419]419
«Chi pinge figura, se non può esser lei, non la può porre» (запись в рукописи Ashburnham I. Fol. 33v). Цит. по: Шастель А. Указ. соч. С. 93–94.
[Закрыть]. В этой короткой просторечной фразе можно видеть отголосок философствования его старшего современника Марсилио Фичино, переводчика и великого знатока Платона, на тему того, что душа художника действует в унисон с душой мира. Но Леонардо скорее всего ориентировался на более ранний, но не менее авторитетный для итальянца источник – третью канцону дантовского «Пира», где сказано, что «не написать лицо / тому, кто прежде им себя не сделал». После разговора о Плотине нам нетрудно назвать неоплатоническим этот принцип мистического слияния художника и со своим предметом, и с душой мира. Правда, Данте был скорее аристотеликом, чем платоником, не был он и теоретиком изобразительного искусства, а рассуждал в этой канцоне об истинном и ложном благородстве[420]420
«Poi chi pinge figura / Se non può esser lei, non la può porre». Рус. пер.: Данте Алигьери. Пир. IV, X, 11 // Его же. Малые произведения / изд. подготовил И.Н. Голенищев-Кутузов. М., 1968. С. 226. (Литературные памятники).
[Закрыть]. В Италии до начала XVI века его еще читали и почитали ровно так же, как великих философов древности. Его трактовали живописцы масштаба Боттичелли, Синьорелли и Микеланджело. Как раз тема благородства и привлекла внимательного, но чуждого платонизму Леонардо, потому что вопрос о статусе живописи в познании мира был для него принципиальным и очень личным. К его времени математика, пристальное вглядывание в мельчайшие детали окружающего мира и даже, как мы видели, в рассеченный труп стали законом для настоящего художника. Наука, риторика и философия служили его работе идейно-словесным обрамлением, а картине – даже самой загадочной – дали методичный, ясный, рациональный строй. Зодчим тоже предлагалось что-то вроде «платонической парадигмы архитектора», ведь Платон сближал зодчество с музыкой и арифметикой[421]421
Платон. Филеб. 56b—c / пер. Н.В. Самсонова // Его же. Сочинения. Т. 3. Ч. 1. М., 1971. С. 72.
[Закрыть].
Ренессанс пропитан философскими исканиями настолько, что не обнаружить их в изобразительном искусстве фактически невозможно. Вазари, кое-что напутав, видел в рафаэлевской Stanza della Segnatura, «Комнате подписи», историю, в которой богословы свели к согласию философию, астрологию и богословие. В наши дни Сэмюэл Эдгертон показал, что на самом деле удивительно продуманная программа этого шедевра – последняя попытка изобразить традиционную, аристотелевско-птолемеевскую, то есть докоперниканскую, вселенную, попытка средствами перспективного пространства воссоздать «геометрическую модель средневековой теологии». Вполне логичное решение для украшения комнаты, предназначавшейся изначально для личной библиотеки Юлия II, понтифика, не чуждого интеллектуальных претензий. Этот философский настрой Рафаэль, выходец из Умбрийской школы, приобрел, конечно, в контакте с Флоренцией. Однако не следует забывать, что расцвет флорентийского гуманизма завершился глубоким кризисом 1490-х годов. Савонарола, отразивший интеллектуальный раскол своего времени на языке проповедей, призывал художников к христианской ответственности, напоминая им, что их картины прямо выражают нравственный облик их душ. Так или иначе, философские споры затихли, как умолкли и некоторые художники.
Собственно, уже Леонардо жонглировал расхожими гуманистическими словами и максимами так, как ему хотелось. Его знаменитая «дымка», sfumato, была прежде всего техническим приемом, она позволяла обозначить контуры, не прибегая к жесткой линии, то есть решить проблему равновесия графического и живописного, подчеркнуть непрерывность и гладкость форм в композиции. Однако, осмыслив находку, художник прибегает к платонической лексике своего времени: «Тень происходит от двух вещей, несходных между собою, одна из них телесная, другая – духовная. Телесной является затеняющее тело, духовной – свет. Следовательно, свет и тело суть причины тени»; «Тень есть отсутствие света и лишь противодействие плотного тела световым лучам»[422]422
Леонардо да Винчи. Фрагменты 552 и 554 / пер. В.К. Шилейко // Его же. Суждения о науке и искусстве. С. 428–429.
[Закрыть]. Художник настаивал на том, что в картине должны присутствовать и свет, и тьма, потому что это понравится всякому заказчику: для достижения такого эффекта явно недостаточно наивного «сияния» или «свечения». Повторим, Леонардо не зачитывался философами и сам философом не был. Но в жизни он видел непрерывную череду загадок и любил загадывать их сам, о чем прекрасно знали и современники. «Дымка» стала одним из главных тому подспорий, которое он довел до совершенства и которое у эпигонов превратилось в манеру. А тень внутри картины, в свою очередь, стала одним из сильных – и по определению загадочных – выразительных средств, в особенности в Новое время[423]423
Стоикита В. Краткая история тени / пер. Д.Ю. Озеркова. СПб., 2004. (Новая оптика); Гомбрих Э. Тени в западном искусстве / пер. Л. Эбралидзе. М., 2019.
[Закрыть].
Авторитетные историки искусства, например, Шарль де Тольнай, сходились на том, что Микеланджело воплотил платонизм времени своей молодости в зримой форме. Эрвин Панофский пошел еще дальше, считая, что он воплотил платонизм даже более последовательно, чем флорентийские неоплатоники, насельники виллы Кареджи. Чтобы доказать это, он исследует и стилистические приемы скульптора и живописца, и его поэзию, и тексты, которые он мог читать сам или обсуждать как в юности, так и в зрелые годы. Загвоздка в том, что письма Микеланджело не говорят почти ничего о его теоретических воззрениях, а никаких произведений, написанных в жанре трактата или вообще исследования, он не оставил. Прибегают к его поэзии:
Когда скалу мой жесткий молоток
В обличия людей преображает, —
Без мастера, который направляет
Его удар, он делу б не помог,
Но божий молот из себя извлек
Размах, что миру прелесть сообщает,
Все молоты тот молот предвещает,
И в нем одном – им всем живой урок[424]424
Микеланджело. Сонет 38 // Его же. Стихотворения. С. 117.
[Закрыть].
Одни находили в этом сонете влияние платоновского «Кратила», другие – Данте, которого Микеланджело знал досконально и в многочисленных комментариях, включая самый авторитетный в его время комментарий члена флорентийского кружка Кристо́форо Ландино. Не менее резонно, однако, видеть здесь и развитие темы из пророка Иеремии (23: 29): «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Библию Микеланджело знал тоже очень хорошо, о чем свидетельствует как минимум Сикстинская капелла. Красота для него – безусловно духовная величина, а весь смысл творчества – выявление этой духовной, невидимой сущности в каменной глыбе, желание разбудить в ней богов. Но попытка выявить в его поэзии стройную теорию искусства или красоты, как и точные отсылки к философским текстам или конкретной философской системе, обречена на неудачу, предупреждает нас профессиональный историк философии, кстати, флорентиец[425]425
Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения: Избранные работы / пер. М.А. Юсима и др. М., 1986. С. 318.
[Закрыть].
Панофский предложил неоплатоническое прочтение двух важнейших скульптурных комплексов Микеланджело: гробницы Юлия II в Риме и капеллы Медичи во Флоренции. Первая была задумана в 1505 году как отдельно стоящий памятник с овальной погребальной камерой внутри, украшенный более чем сорока статуями (илл. 126). После смерти понтифика мегаломанский проект был забыт несмотря на авторитет Микеланджело, который тридцать лет пытался спасти в нем хоть что-то. Но, если бы проект осуществился, Юлий II ушел бы в иной мир как победитель, провожаемый Скорбью и встречаемый Радостью. Фигуры Павла, Моисея, Побед и Пленников виделись современникам не только в их буквальном значении, но и как нравственно-философские аллегории. Например, рабы олицетворяли человеческие души, скованные природными желаниями плоти, тюрьмы, в которую они оказались заключены. Фигура Раба из Лувра задумывалась в сопровождении обезьяны: ее морда прочитывается в едва обработанной мраморной массе. Этот «атрибут» – одновременно намек на живопись, подражающую природе, «обезьянничающую», и на низменное, похотливое и жадное начало, которым отягощен человек, живущий на грешной земле. Очевидно, что Победы призваны были указать на то, что человек может совладать со своими бедами и страстями, вознестись в небесные чертоги, пройдя жизнь как очищение. В таком прочтении понтифик, в замысле скульптора, являл собой квинтэссенцию всего человечества: его бренное тело лежало бы внутри «мавзолея» (попахивавшего, впрочем, язычеством при соотнесении проекта с предшествовавшей погребальной традицией), а наверху помещался лицом к зрителю лежачий «портрет» усопшего в полный рост, так называемый gisant. Это – не только политический манифест, утверждает Панофский, не только христианский дискурс, но и духовный триумф в соответствии с философией, которая наделила все зримое трансцендентальным смыслом. Аллегории и персонификации подчинены здесь программе, озвученной, например, в «Платоновской теологии о бессмертии души» Марсилио Фичино, для которой главным было полное «согласие Моисея и Платона»[426]426
Панофский Э. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения / пер. Н.Г. Лебедевой. СПб., 2009. С. 320–321. (Художник и знаток).
[Закрыть].

126. Микеланджело. Проект гробницы папы Юлия II. 1505 год. Реконструкция Ф. Руссоли 1952 года
Осуществленный десятилетия спустя комплекс не оставил, грубо говоря, камня на камне от этой прекрасной мечты, платонической или иной – не важно. Гробница стала одной из трагедий в истории искусства, превратившись из памятника Возрождения в памятник Контрреформации. Но философское – или, осторожнее говоря, мировоззренческое – богатство творчества Микеланджело хранят и отдельные фигуры, и другие произведения живописца, будь то томящиеся в своих каменных темницах «рабы» и «пленники», погребальный комплекс Медичи или замечательный и загадочный рисунок «Сон», подаренный в 1533 году пятидесятивосьмилетним мастером двадцатитрехлетнему Томмазо де Кавальери. Безусловно это во всех смыслах законченный, «совершенный» рисунок, дар любви, аллегорический портрет прекрасного юноши, которого влюбленный художник попросту боготворил. Но это и наставление, призывающее спящего проснуться на зов небесной трубы, отвлечься от земных условностей (театральные маски в ящике) и воспарить.
* * *
Вернемся в более близкое нам время. В середине XIX века в отдельное течение с собственной принципиальной позицией оформился реализм, сначала во Франции в творчестве Курбе и Милле, немного позднее – в движении русских передвижников. Напрашивается аналогия с популярностью, с одной стороны, материализма, а с другой – позитивизма в мыслящих и во многом фрондёрских кругах обеих стран, в особенности среди разночинцев, этих героев Тургенева, Гончарова и Достоевского. То, что лучшие русские художники постоянно общались с лучшими русскими писателями, прислушивались к их оценкам, говорит само за себя. И те и другие метили в духовные наставники своей страны и искали общий язык с литературой. С приходом Александра II, во время Великих реформ, распространилась «эстетика пользы», «утилитарная эстетика», а решение «вопросов жизни» средствами живописи стала такой же повесткой для художников кисти, как и для художников слова[427]427
Алленов М.М. Русское искусство XVIII – начала XX века // История русского искусства: в 2 т. Т. 2. М., 2008. С. 286–290.
[Закрыть]. В этом смысл русского реализма.
Футуристы, выступившие в Италии и в Париже около 1910 года, в принципе не нуждались в какой-либо философии, чтобы подкрепить свои основные постулаты: скорость, жизненную силу, агрессивность, доходившую до прямой пропаганды войны, взгляд в будущее при условии принципиального разрыва с прошлым. Их время словно подсказывало им все, что провозглашали один за другим их хлесткие манифесты[428]428
Наиболее полный, комментированный свод программных выступлений футуристов в переводах с итальянского и французского см.: Итальянский футуризм. Манифесты и программы. 1909–1941: в 2 т. / пер.; сост. Е. Лазаревой. М., 2020.
[Закрыть]. Их творчество – в живописи, скульптуре и архитектуре – должно было наконец-то, как они уверяли, дать современному обществу современное же, а не загнивающее в тенетах прошлого искусство. Однако известно, что они штудировали Анри Бергсона. Он близок им своим интересом ко времени и изменению как метафизическим категориям, связанным с приматом жизненного, органического начала и воли, не ко времени часов и расписаний, а к тому, которое сам он называл durée, «длительность». Целый ряд картин футуристов посвящен развитию формы в пространстве и времени, скорости, движению, причем не в традиционном смысле движущегося тела как композиционной задачи. Умберто Боччони изображает бегущего человека на квадратном полотне и называет его «Динамизм футболиста» (1913). Его сюжет – движение, футболист же – повод для выражения своего рода натурфилософии в красках. Вместе с тем Бергсон по духу эволюционист, футуристы – революционеры. Вряд ли его приводил в восторг рев мотора спортивного болида, в котором Маринетти слышал лучшую музыку своего века.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































