Текст книги "16 эссе об истории искусства"
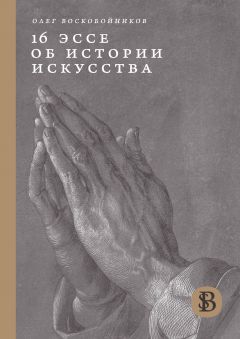
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Многолетний поиск Мисом ван дер Роэ органической связи между внутренним пространством постройки и внешней средой дал свои результаты, его влияние на зодчество второй половины XX – начала XXI века трудно переоценить[296]296
Это признавал уже его младший современник Зигфрид Гидион, отдавая именно Мису ван дер Роэ пальму первенства (Гидион З. Пространство, время, архитектура / сокр. пер. М.В. Леонене, И.Л. Черня. 3-е изд. М., 1984. С. 337–338). Впрочем, схожие вопросы волновали и других крупных зодчих его времени, в особенности Фрэнка Ллойда Райта.
[Закрыть]. Оказавшись на Манхэттене, глядя на штаб-квартиру крупной алкогольной компании, важно понимать, что непосредственные предки этой архитектуры – в готической Европе. Причем в США об этом помнили и помнят, поэтому во всех крупных городах нетрудно встретить настоящие неороманские и неоготические церкви, отражающиеся в окнах соседних офисных центров, словно в зеркалах. Разница, однако, в том, что небоскреб снизу доверху абсолютно функционален, ибо снизу доверху заселен людьми, а собор – балдахин над грешной землей. Готический собор стоил очень дорого, фирма «Сигрем» тоже не пожалела средств – это был весьма дорогостоящий даже для Нью-Йорка небоскреб. Но, если в соборе деньги воплощались в гигантскую коллективную молитву, то в Сигрем-билдинге – в рабочие места для обслуживания межконтинентальной торговли. Тем не менее иррациональная идеологическая цель первого (стать молитвой в камне) и функциональность второго не противоречат присутствию в обоих интересующей нас с самого начала эстетической функции.
Как и в Св. Софии, пространство готического собора иррационально для классического глаза. Соотношение вертикали и горизонтали в нефах достигает 1:7, ордерные горизонтальные членения сводятся к минимуму и очевидным образом подчиняются вертикальным тягам, откуда появляется всем известный эффект «вознесенности», или «парения». Колонна в романской церкви часто делилась на полуколонны, в Бурже любая опора – целый пучок из торусов и валиков, зачастую замысловатого профиля. Романский оконный проем XII века нередко оформлялся историзованным витражом: эта «светящаяся» живопись начала заменять фреску, но зрительно все же оставалась «картиной» на стене. В большом соборе XIII века витражные окна уже преобладают над стеной, и она, чтобы скрыть самое себя, покрывается рисунком, имитирующим кладку (к сожалению, почти нигде не сохранившимся). В Сент-Шапель принцип витражного остекления доведен до логического завершения – буквального уничтожения стены. Масштабная, из-за этого фактически нечитаемая священная история, рассказанная в сотнях сцен, в невидимых без бинокля деталях, явилась здесь драгоценным (в прямом смысле) «покровом» для семьи Людовика Святого и монументальным реликварием для великой святыни – Тернового венца, вывезенного из Константинополя в 1239 году.
Эта стеклянная оранжерея, конечно, – памятник особенный. Для него не пожалела средств самая богатая династия Европы. И все же он воплотил искания нескольких поколений зодчих, заказчиков, широкого круга ценителей среди клириков и мирян. Результатом этих исканий опять же явилось пространство, лишенное стен, но все же замкнутое. В отличие от греков, западные строители не знали слова «пространство». Что поразительно, они не оставили ни одного мало-мальски значимого, осмысленного описания своих удивительных построек. Мы не знаем, что чувствовали прихожане Амьена, даже если понимаем, что им, как и нам, приходилось сильно задирать голову, чтобы почувствовать, как далеко от них небо – свод, паривший на сорокаметровой высоте (илл. 96). Скорее всего, большинство не понимало довольно витиевато рассказанных на витражах историй, а свести к единой иконографической программе Сент-Шапель, Бурж или Шартр не представляется возможным[297]297
Сохранилось характерное свидетельство кардинала Эда из Шатору, который в преклонном возрасте вспоминал, как однажды в Бурже какой-то мирянин, разглядывая витраж хора и ничего не поняв, жаловался на клириков, запутавших ясный рассказ Писания (Kemp W. Sermo corporeus. Die Erzählung der mitet lalterlichen Glasfenster. München, 1987. S. 96).
[Закрыть]. Более лаконичные, но не менее торжественные византийские росписи и мозаичные циклы в этом смысле намного системнее, хотя и более консервативны. Только Палеологовский ренессанс, начавшийся на рубеже XIII–XIV веков, сделал православную храмовую декорацию более разнообразной и многословной.

96. Свод Амьенского собора. Около 1230 года
Складывается впечатление, что на Западе, при всем вкусе к рассказу и бесконечным типологическим сопоставлениям двух Заветов, ни художники, ни соборные капитулы, ни епископы не в состоянии были вложить в декор одного масштабного храма какую-то руководящую идею. Ничто не доказывает, что проповедники обращали внимание на витражи, поучая паству, повествуя о каком-нибудь святом или истолковывая то, как Ветхий Завет типологически предвещает Новый Завет и историю Спасения человечества. Молчание современников о чуть ли не величайшем достижении их эпохи обескураживает: они почти ничего не рассказали нам ни о витражах, ни о пластике, ни о своем понимании языка архитектуры. Однако мы можем констатировать ряд конструктивных особенностей, которые говорят сами за себя: всё, от профилировки поверхностей и максимального увеличения оконных проемов, от усложнения внешней пластики здания до его плана, говорит о том, что главной архитектурной задачей в готическую эпоху стала система визуальных эффектов.
С начала XIII века по всей Европе распространилась литургическая практика демонстрации гостии (т. е. хлеба, пресуществленного в Тело Христово) пастве перед причастием. Евхаристия – центральный момент богослужения, а вера в то, что гостия есть истинно Тело Христово, реально присутствующее в пресуществленном хлебе, – одно из основных требований, предъявляемых христианину, закрепленное IV Латеранским собором (1215). Очевидно, что эта практика ответила на запрос, возникший в глубинах народной религиозности, и закрепила его. Резонно предположить, что и монументальное искусство должно было идти в ногу со временем и наглядно показать верующему все, на что он должен обратить внимание в своей религиозной жизни[298]298
Sedlmayr H. Die Entstehung der Kathedrale. Zürich, 1950. S. 312; Рехт Р. Верить и видеть… С. 83–88.
[Закрыть].
Так обстоит дело, например, с культом мощей. Именно в XII столетии их стали выносить из полумрака крипт в светлое пространство хора и выставлять на всеобщее обозрение и поклонение: например, в Сен-Дени аббат Сугерий ради этого построил во второй четверти XII века новый хор, считающийся не без оснований, но и не без некоторой доли условности, первым памятником готического стиля. К этому же времени относится огромное количество роскошных реликвариев, которые сейчас можно встретить во всех европейских музеях. Их пластика построена таким образом, что иногда невозможно определить, где в реликварии, собственно, находится объект поклонения – его функции все больше и больше принимает на себя само произведение искусства, становящееся предметом культа. Главное здесь – тот самый визуальный эффект, передача верующему зрительного впечатления от скрытой – точнее, приоткрытой – в реликварии святыни, самой по себе, естественно, невзрачной.
Расширив угол зрения и поменяв масштаб, то же самое можно сказать и об архитектуре. Готический храм и сейчас, потеряв свою первоначальную расцветку, поражает артикулированностью, филигранностью, расчлененностью всех своих форм, от самых крупных до мельчайших. Эта филигранность нарастала к концу Средневековья, в так называемой пламенеющей готике, где архитектурный орнамент, по сути, выстраивал пространство, как в XVIII столетии, в стиле рококо. Узорочью стен и колонн вторят витражи огромных оконных проемов. Если учесть, что все эти членения были выделены еще и цветом, можно себе представить, какое сильное воздействие должно было оказывать готическое пространство на зрителя, любившего яркие цвета намного больше, чем мы. Такая архитектура предполагала не уход в себя, не внутреннее сосредоточение монаха, явно навязываемое строгой оттоновской и цистерцианской архитектурой, а скорее активное, динамичное созерцание верующего мирянина. Взгляд верующего (не всякого, конечно, но настоящего ценителя) заострялся, а вместе с ним оттачивались и эстетическая изощренность, и взыскательность заказчика. Он требовал от художников, скульпторов, резчиков, ювелиров, иллюстраторов рукописей все большей изобретательности и, в конечном счете, внутренней свободы.
В то же время храм по-прежнему призван был вести человека к диалогу с божеством, наставлять в молитве, сосредоточивать на надмирных ценностях. Приняв человеческое тело, Бог как бы благословил зрение, дал видеть Себя человеку. Всеобъемлющее искусство собора, искусство последних веков Средневековья мыслимо именно в рамках истории Спасения, которую следовало рассказать и укоренить в сердцах людей. Храм стал «театром памяти»[299]299
Рехт Р. Верить и видеть… С. 219–231.
[Закрыть], в котором взгляд христианина, уже доверяющий своей физической, земной природе, прежде чем вступить на путь постижения реального мира, обратился к глубокому анализу его художественного образа. Это новое миров дение сочеталось с религиозностью, человека одинаково волновало видимое и невидимое. Лучшей метафорой такого парадокса служит утверждение знаменитого интеллектуала XIII столетия Роджера Бэкона, по мнению которого гостия для веры обладает той же подтверждающей силой, что и оптика – в области физического.
Если бы у нас была возможность мгновенно перенестись из Буржского собора во флорентийскую базилику Святого Духа, Санто-Спирито (ок. 1434–1487), мы бы моментально почувствовали разницу между гениальными готическими мастерами и не менее гениальным, но совершенно другим по духу Филиппо Брунеллески. Ренессансная архитектура Тосканы возникла, естественно, не на пустом месте, и впитала опыт предшествующих столетий, но в Италии заальпийскую готику нигде не восприняли в полном объеме, как в Кентербери или в Кёльне. Остановимся исключительно на занимающей нас здесь проблеме пространства. В базилике Святого Духа (илл. 97) почему-то сразу чувствуешь себя как дома, чего никак не скажешь ни о Св. Софии, ни о Буржском соборе. Это ощущение связано с тем, что пространство здесь считывается глазом как проекция тебя самого, земного человека из плоти и крови. Эта проекция основана на простых математических соотношениях, она измерима и ясна сразу, а не в результате сложных интеллектуальных упражнений. Высота нефа равняется двум его ширинам, клеристорий равен первому, колонному ярусу. В основе всех главных членений – квадрат. Это подчеркивается даже древним, отсылающим к первым базиликам плоским потолком. Чистая коринфская колонна и аскетичная двухцветность вместо готической пестроты довершали дело. Простая прогулка по нефу навевала ощущение упорядоченного покоя, даже если прихожанин не умел считать и не считывал пропорции глазом[300]300
Pevsner N. Op. cit. P. 178–180.
[Закрыть].

97. Интерьер базилики Санто-Спирито (Святого Духа). Архитектор Филиппо Брунеллески. Около 1434–1487 год. Флоренция
Никто не ставил здесь задачи мистически озарить душу прихожанина прикосновением к надмирным сущностям. Но и приземленной или обыденной эту архитектуру не назовешь. Человеческий масштаб Парфенона (который Брунеллески, на самом деле, не видел ни вживую, ни на рисунке) удивительным образом вернулся и воплотился здесь в интерьере, сформировав не только пластическую массу, объем, но и пространство, пустоту. В древней базилике и в готическом соборе постройка диктовала человеку его место внутри себя. В Санто-Спирито этот закон едва ли не перевернут с ног на голову: человек самим своим присутствием здесь и сейчас диктует правила архитектуре[301]301
Zevi Br. Saper vedere l’architettura… P. 78.
[Закрыть]. Флорентиец того времени с такой же страстью пытался овладеть пространством, как и человек XX века, с той, однако, разницей, что первый (во всяком случае в церкви) создавал идеальное пространство, а не материальное, насущно необходимое. Неслучайно рационализация архитектурного пространства и архитектурной формы в целом совпала по времени и месту с приходом прямой перспективы в живопись и отчасти в пластику[302]302
«Троица» Мазаччо в церкви Санта-Мария-Новелла 1426 года, «Райские врата» Лоренцо Гиберти для Флорентийского баптистерия 1425–1452 годов.
[Закрыть].
В плане Санто-Спирито представляет собой латинский крест, с нефами, средокрестием и трансептом. Однако Брунеллески выстроил его таким образом, что в любой точке ощущается тяготение к центрическому плану, действует центростремительная сила. В этом – одна из характерных черт ренессансного архитектурного мышления. В начале XVI века папа Юлий II согласился на замену древней и, следовательно, очень авторитетной, почтенной базилики Св. Петра на новый собор, доверив дело Донато Браманте. Зодчий предложил гигантскую строго центрическую церковь в форме равностороннего греческого креста с величественным полуциркульным главным куполом и четырьмя малыми. Этот проект воплотил бы в себе все самые прогрессивные устремления Ренессанса, причем в нечеловеческом масштабе. Но брамантовский замысел пережил столько изменений, что в храме, слывущем главной церковью католического мира[303]303
Формально Ватиканская базилика – вторая по достоинству после Латеранской, «матери и главы всех церквей города и мира».
[Закрыть], слились искания нескольких поколений понтификов и архитекторов – от Высокого Возрождения (Браманте) и маньеризма (Микеланджело, Фонтана, делла Порта) до барокко (Бернини) и даже Новейшего времени (пластика Манцу). Купол уже у позднего Микеланджело обрел вытянутую, «готическую» форму, равносторонний греческий крест сменился более вместительной, но и более «средневековой» базиликой, расширенной Карло Мадерно. От берниниевского алтарного балдахина Микеланджело, скорее всего, пришел бы в ужас. В начале XVII века с использованием так называемого колоссального ордера выстроили фасад. Стоя перед ним, зритель уже не чувствовал единства архитектурного тела с куполом, зато фасад стал прекрасным «задником» для «сцены» – «лоджии благословений», – с которой понтифик обращался к городу и миру.
В 1920-е годы Ле Корбюзье попросту назвал постмикеланджеловские модификации Сан-Пьетро преступлением против великой архитектуры, в котором повинно варварское тщеславие пап. Все, что было задумано как гармоничное единство пластической формы, увенчанной невиданным стотридцатиметровой высоты куполом, и пространства, скрылось за фасадом. Св. София, покрывшая семь тысяч квадратных метров, – для него «триумф», Ватиканская базилика, покрывшая в два раза бо́льшую площадь, – полный провал. Чтобы увидеть купол внутри, нужно пройти через стометровый «туннель», снаружи, за фасадом, не видно не только всей пластики купола, но и, собственно, микеланджеловского «тела» собора, соразмерного, несмотря на гигантские размеры, и человеку, и Колизею, которому апсиды равны по высоте. Конечно, историк не имеет права выносить приговоры, а должен искать объяснения: младший современник Ле Корбюзье и тоже архитектор Бруно Дзеви уже намного более аккуратно анализирует изменения в плане, именно как историк архитектуры[304]304
Le Corbusier. Op. cit. P. 158; Zevi Br. Saper vedere l’architettura… P. 37–41.
[Закрыть].
Однако факт остается фактом. Многие великие искания и начинания Возрождения либо остались на бумаге, либо не были закончены (как гениальный храм Малатеста, возведенный Альберти в Римини), либо достраивались поколениями мастеров, следовавших изменившимся вкусам и потребностям. В трансформации изначального замысла Ватиканской базилики, помимо вкусов и воли курии, не стоит сбрасывать со счетов тот простой факт, что Микеланджело, живому классику, конечно, хотелось сделать все не так, как планировал Браманте. Задолго до этого, в 1420-е годы, новаторская, даже революционная для своего времени «Троица» Мазаччо с ее прямой перспективой «прорезала» стену готической доминиканской церкви. Купол Брунеллески увенчал готический собор и, может быть, поэтому получил эллиптический силуэт. Считать ли его символом Возрождения и выражением нового, гуманистического духа флорентийцев? Или «вызовом небесам», как предлагала Ирина Данилова[305]305
Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция… С. 170.
[Закрыть]? Но тогда странно, что современники об этом «вызове», долгожданном и дорогостоящем, толком ничего не сказали, хотя им запомнились торжества по случаю открытия собора. Возможно, лучше не абсолютизировать новизну этого самого гуманистического духа, а вместе с ним – и «нового» европейца.
Самая совершенная в своей законченности ренессансная постройка, открывшая XVI век, – так называемый темпьетто, буквально «храмик», поминальная церковка на месте распятия апостола Петра, построенная Браманте. Храмик задумывался включенным в небольшой круглый, как он сам, дворик, и тот, видимо, должен был служить пространственной рамой для храма-образа, храма-памятника. Внутри он так же совершенен, как снаружи, но понимание того, что это и есть квинтэссенция Высокого Возрождения, несколько обескураживает. Сам масштаб этой на редкость гармоничной постройки поучителен при общем взгляде на историю искусства: не все самое главное воплощается в самых главных памятниках. Темпьетто, конечно, стоит на особом месте, поэтому поручен был лучшему зодчему, работавшему тогда в Риме, городе пап, кардиналов и олигархов, стремившемся перехватить пальму культурного первенства у Флоренции. Но храмик стал и для архитектора, и для пап пробой сил. На главный храм Запада жизней «ренессансно» мысливших понтификов и художников не хватило.
Это не значит, что искания эпохи Возрождения в области архитектуры окончились бесславно. Те, кого числят в маньеристах, в середине и во второй половине XVI века продолжили эти искания вполне творчески и закрепили находки на века. Принципиальный классицист Андреа Палладио всю жизнь строил дворцы, виллы и церкви в родной Виченце и немного – в соседней Венеции. Но для искусства он важен не только тем, что досконально изучил язык античной архитектуры, дойдя до самой ее сути. Он нашел и воплотил нечто очень важное для зодчих XVI века и одновременно судьбоносное для будущего: новое чувство объема, статическое равновесие масс. Архитекторы Кватроченто выразили пространство в числах, но мыслили они векторами, силовыми линиями, которые упорядочивали движение, но не гасили его. Как и христианская базилика. Как и София. У Палладио движение полностью остановлено – ради абсолютного покоя, симметрии, выявленной и выставленной напоказ плотности материи, весомости целого. Но в палладиевых массах нет ничего инертного, косного, неживого – в этом и загадка, и залог бессмертия его находок.
Видимый издалека невооруженным глазом и подтверждаемый при ближайшем рассмотрении парадокс состоит еще и в том, что созданная им вилла всегда особым образом соединена с окружающим природным ландшафтом. Вилла Капра, она же Ротонда (1567–1605), находящаяся рядом с Виченцей, симметрична в плане, абсолютно все соотношения в ней выверены по трем пропорциям, декор сведен к минимуму. Это подчеркнуто рукотворное жилище среди живописной природы (илл. 98). Но эта рукотворность не противоречит природе, а фасады виллы слегка отличаются друг от друга, как бы вторя асимметричности, царящей вокруг. Когда же по всей Европе, в особенности в Англии, затем в России, этой вилле стали подражать, то палладиевскую постройку старательно вписывали в нерегулярный английский парк. Таковы Чизик-хаус в пригороде Лондона того времени и русский Павловск.

98. Вилла Альмерико Капра Ла-Ротонда. Архитектор Андреа Палладио. 1567–1605 годы. Близ Виченцы
В городской среде чувство пространства Палладио проявлялось посвоему. В палаццо Кьерикати того же времени он верен брамантовским ордерам, над ними – строгий прямой антаблемент, но там, где в Риме ждешь замкнутого в себе фасада, он выводит наружу легкий портик внутреннего двора. Глухая плоскость ограничена пятью пролетами, а торцы здания разомкнуты глубокими портиками с широко расставленными колоннами. Внутреннее пространство дворца словно выплеснулось наружу, не боясь нарушить столь важные для архитектора ощущение устойчивости и чувство достоинства[306]306
Аркин Д.Е. Указ. соч. С. 29–31.
[Закрыть]. Поэтому, когда конструктивисты XX века решили выдвигать в городскую среду остекленные торцы своих построек, выставлять на всеобщее обозрение интерьер, взрывая привычную тектонику зданий вместе с классицизмом, они могли опереться на все тот же классицизм.
* * *
В постройках Палладио и в других великих виллах и резиденциях XVIXVII веков диалектика внутреннего и внешнего, интерьера и окружающей среды, рукотворного и природного вышла на новый уровень. В эпоху барокко эти искания продолжились. И здесь пора вернуться к тому, с чего мы начали, – к римской церкви Сант-Иво алла Сапиенца. Когда входишь в созданный Джакомо делла Порта в конце XVI века внутренний двор дворца Премудрости (Palazzo della Sapienza), колыбели нынешнего университета, сразу ощущаешь удивительно органичное единство ансамбля (илл. 99). Франческо Борромини, уже заработавшему репутацию крупного зодчего созданием церкви Св. Карла Борромео (Сан-Карлино), пришлось вписать капеллу в законченный комплекс дворца. Однако и в этих строгих рамках он создал едва ли не самую оригинальную из всех своих построек.
Когда в 1662 году сняли леса, открыв невиданный купол в виде улитки, в адрес зодчего посыпалась критика. Он ответил сухим отчетом, что, мол, как и положено архитектору, он гарантирует устойчивость здания в течение пятнадцати лет. Дело было, конечно, не только в странном завершении здания, но и в том, что классическому глазу постройка представлялась чем-то вроде триумфа пиротехники, застывшим в камне фейерверком. На это указывают не только факелы и огненная корона под сплетенным из прутьев куполом, но и вся внешняя структура. Она представляет собой череду выпуклых и вогнутых масс, и этот ритм последовательно проводится на всех уровнях: от противопоставления основного объема храма экседре внутреннего двора до отдельных элементов. Отказавшись от задуманного предшественниками простого круга, архитектор добился абсолютно новой динамики. Улитка оказалась логичным завершением этого плана: иконографически она могла отсылать, конечно, к Вавилонской башне, но воспринималась, видимо, и как метафора самой жизни. Неслучайно в домашней коллекции всяких «диковин» у Борромини были и разные морские раковины, он даже сделал из них что-то вроде безделушки на бронзовой подставке.
Внешне церковь Сант-Иво одновременно и удивительно тактично вписалась в дворцовый комплекс, входивший в сферу интересов нескольких понтификов, и бросила вызов силуэту города. Мы, естественно, воспринимаем купол и его фонарь-улитку как пластическую форму, но фонарь мыслился и как пространственная составляющая: по узкой лестнице можно (конечно, не туристу) подняться под крест, и оттуда понимаешь, что прямо напротив – купол Пантеона, недалеко – купол базилики Св. Петра. И тогда, среди окружающих тебя окаменевших языков пламени, осознаёшь всю степень новаторства мастера. Для Альберти лестницы и вообще любые динамические формы были проклятием архитектора: «Конечно, правы те, кто называет лестницы нарушительницами порядка в доме»[307]307
Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. IX, 2. Т. I. С. 309.
[Закрыть]. Борромини же принял вызов. Купола Брунеллески и Микеланджело «занавесами» спускаются по мощным «ребрам». У Борромини «ребра» и заполняющие их «занавесы» живут самостоятельной жизнью в пространстве, они словно представляют разные агрегатные состояния одного и того же вещества, возможно, лавы, способной растекаться и застывать. Века спустя то же мы найдем у Антони Гауди и, в наше время, у Захи Хадид. Визуальный и конструктивный парадокс заключается в том, что эти зримые центробежные силы не дают постройке рассыпаться. Потому что за тектонически смелым проектом стояла скрупулезная работа бывшего каменщика, невероятно дотошного как в расчетах нагрузки, так и в деталях.
Пространство церкви Сант-Иво логически связано с ее экстерьером. В плане это равносторонний треугольник, форма для архитектуры редкая, но не уникальная. Однако относительно простая фигура усложнена тем, что стороны рассечены посередине полукруглыми углубленными апсидами, а углы, эти глухие зоны, срезаны мягко выступающими внутрь вертикалями, которые заполнены нишами и гигантскими оконными проемами. Эта оболочка геометрически, мягко говоря, замысловата, но – опять же парадоксально – она моментально считывается, как только заходишь внутрь. Алтарь, естественно, является смысловым ориентиром, навязывает горизонтальную ось. Взгляд зрителя блуждает по неровным, все время прерывающимся поверхностям и линиям, но мозг осознаёт целостность и, что очень важно, динамическую целостность пространства уже на первом, подкупольном ярусе. Второй же ярус (купол и высокий фонарь) ведет взгляд поднявшего голову зрителя в небесные чертоги, где тот обретает полный покой (илл. 99). Хор шестикрылых херувимов подсказывает нам, что они – в мире, где нет места метаниям, их хоровод, идеально круглый, как подкупольный «глаз», oculus, говорит, что движение здесь завершается. Тот же, кому посчастливилось бы посмотреть на храм сверху, из небольшого помещения внутри «улитки», мог бы увидеть эту метаморфозу глазами ангелов. Представим себе, что у Борромини такая возможность была по определению.

99. Подкупольное пространство церкви Сант-Иво алла Сапиенца. Архитектор Франческо Борромини. 1642–1662 годы. Рим
Храм Сант-Иво не имел росписи и не был под нее рассчитан. Значит ли это, что он ничего не хотел сказать, кроме того, что он – капелла для университетских профессоров? Вряд ли. Великая заслуга гениального зодчего – в том, что его архитектура «разговорчива», то есть способна чисто архитектурными средствами выражать нечто большее, чем назначение постройки. Дело не только в деталях вроде вездесущих в то время ангелов и папской геральдики семейств Киджи и Памфили: первые – функциональны, вторые – дань этикету. Прежде всего напомним, что храм посвящен Премудрости Божией, как и средневековые софийские соборы. Фризы украшены соответствующими надписями: «Премудрость построила себе дом» (Притч 9: 1), «Начало премудрости – страх Господень» (Пс 110: 10). Осмысляя капеллу как «дом Премудрости», зодчий, конечно, следовал старой традиции. Но, читая Книгу Екклесиаста, Книгу премудрости Соломона, Книгу притчей Соломоновых, он обдумывал и то, как обновить образ христианского храма. Из христианской экзегетики этих сложных ветхозаветных книг он мог почерпнуть идею, что мудрость выражается и в Троице, отсюда повторение троичных фигур и ритмов в интерьере. Отсылку к символике мудрости могли видеть и в сочетании треугольника с кругом, о которой я сказал вначале. Наконец, исследователи различают в плане намек на древний христологический знак – хрисмон, соединение первых двух букв слова «Христос»[308]308
Portoghesi P. Borromini. Architecture, langage. P., 1969. P. 160–161.
[Закрыть].
Подобные иконологические прочтения довольно традиционны для особо значимых и новаторских построек. Если вжиться в Сант-Иво, прочувствовать ее почти не воспроизводимое на фотографии пространство, вдуматься во все детали его убранства, а затем прочесть упомянутые учительные книги Ветхого Завета, действительно можно представить себе, как именно вдохновлялся ими зодчий. «Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает» (Прем 7: 24). Этой фразы нет среди надписей, ничто не иллюстрирует ее буквально. Но велик соблазн объяснить ею то, что резонно называют динамическим пространством Борромини. Такие объяснения возможны, но их нельзя превращать в ярлыки. На протяжении всего самостоятельного творчества, в 1630–1660-е годы, Борромини занимался тем, что неустанно расплавлял массы и пространство с помощью бесконечно изменчивых ключевых мотивов. У него в голове возникала геометрическая концепция, и ей он подчинял каждую, даже самую малую деталь. В этом культе детали с ним не мог сравниться даже Бернини, гениальный скульптор, но более осторожный архитектор. Если ренессансный мастер мыслил массами и модулями, Филебовыми телами, то Борромини делал акцент на функционально, динамично и ритмически значимом «скелете». Достаточно взглянуть на некоторые его замысловатые, изрезанные фигурными кессонами своды. Как верно заметил Рудольф Виттковер, в этом он вернулся к готике через поколения соотечественников, ведь готический собор действительно строился на ребрах, на скелете, как и современные железобетонные дома[309]309
Witkt ower R. Art and Architecture in Italy, 1600 to 1750. Harmondsworth, 1978. P. 49.
[Закрыть].
Однако метод Борромини не предполагал возврата к средневековому пониманию архитектуры. Не был он и воплощенной в камне Контрреформацией, в отличие от главной церкви иезуитов – Иль-Джезу (1568–1584) Виньолы, по-своему замечательной и очень значимой. «Прихоти» Борромини доходили, с точки зрения современников, до грани возможного и дозволенного, а для многих, в том числе для сторонников Бернини, эту грань переступали, разрушая самоё архитектуру. Добавим: как Караваджо, с точки зрения некоторых, «уничтожил» живопись. Но Борромини, неуравновешенный, болезненный мастер, вовсе не был «варваром», более того, он умел представить свои идеи в очень четких проектах, о чем свидетельствуют замечательные рисунки и чертежи. Он одинаково чтил Микеланджело, эллинистическое наследие и антропоморфные основания классического зодчества. Разругавшись со всеми, включая всемогущую курию, 2 августа 1667 года Борромини покончил с собой, проткнув себя шпагой[310]310
Смертельно раненный, он в полном сознании сам продиктовал и подписал протокол о происшедшем, получил миропомазание и был по его просьбе похоронен рядом с учителем и другом – Карло Мадерно (Witkt ower R., Witkt ower M. Born under Saturn. Teh Character and Conduct of Artists: A Documented History from Antiquity to the French Revolution. L., 1963. P. 142).
[Закрыть]. Он не оставил учеников.
Неуравновешенностью характера, зафиксированной свидетельствами современников, Ганс Зедльмайр, в молодости увлекшись гештальт-психологией, пытался объяснить зодчество этого классика римского барокко, как ею же периодически объясняют живопись Караваджо. Он пришел к выводу, что искусство Борромини – шизотимическое, за ним стоит «картезианский» образ мира, в свою очередь тоже «типично шизотимический»[311]311
Sedlmayr H. Die Architektur Borrominis. Berlin, 1930. Отдельные фрагменты доступны в переводе: Зедльмайр Х. Искусство Борромини / пер. С.С. Ванеяна // Архитектура… Кн. II. С. 113–125. Ср. критические замечания Витковеров: Witkt ower R., Witkt ower M. Op. cit. P. 286–287.
[Закрыть]. Исторический смысл барокко и его творцов, конечно, – не в этих трагических судьбах и индивидуальных темпераментах, даже если сбрасывать их со счетов истории культуры не следует. Борромини открыл зодчеству новую дорогу, по которой Рим не пошел, уступив роль столицы европейской архитектуры Парижу. Он ввел в жизнь постройки движение, творчески интерпретировав традиционные формы. Его ангелы и кариатиды намного более живые и поэтому более разговорчивые, чем у предшественников и современников. Это тоже неслучайно, учитывая, как тщательно он продумывал каждую линию скульптурного декора. Ему хотелось, чтобы каждая постройка говорила на новом языке, выражавшем его собственные духовные искания. С помощью специфического синтаксиса ему удалось создать свой язык, а на этом языке – выразить единство внутреннего и внешнего пространства. В этом, как показал Зигфрид Гидион, его творчество – важнейшее звено в еще не разорванной цепи[312]312
Гидион З. Указ. соч. С. 93.
[Закрыть]. Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке (1943–1959), построенный Фрэнком Ллойдом Райтом, – развитие темы улитки Сант-Иво в новой функции, перевернутой с ног на голову, в новом масштабе и на другом континенте. Но цель Райта, к тому времени уже корифея архитектуры, была в чем-то схожей: борьба с привычными системами культурных координат.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































