Текст книги "16 эссе об истории искусства"
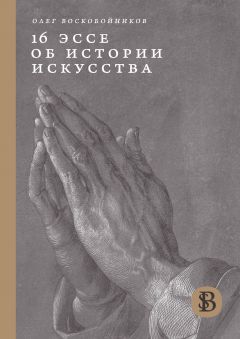
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
Для иллюстрации ряда своих положений Беньямин обратился к примеру, который в его время был в новинку, а впоследствии вошел в историю искусства. Представитель течения «Новая вещественность» Август Зандер (1876–1964), настоящий фотоисторик немецкого народа эпохи страшных потрясений, в 1920-е годы задумал монументальный свод о людях своего времени, «Облик времени» («Antlitz der Zeit»). Все возрасты, профессии и сословия были представлены физиогномическими типажами, на первый взгляд схваченными в естественных, но на самом деле с немецкой аккуратностью продуманных, инсценированных ситуациях[516]516
В его проекте резонно видят попытку разрешения социального кризиса среднего класса времен Веймарской республики (Jones A. Reading August Sander’s Archive // Oxford Art Journal. 2000. Vol. XXIII. No. 1. P. 1–22).
[Закрыть]. Зандеру удалось опубликовать лишь первый том, потому что пришедшие к власти нацисты сразу почувствовали идеологическую опасность проекта[517]517
Sander A. Antlitz der Zeit: sechzig Aufnahmen deutscher Menschen des 20. Jahrhunderts / mit einer Einl. von A. Döblin. München, [1929].
[Закрыть]. Самим своим гуманизмом он противоречил расовой идеологии национал-социализма – и тем самым обвинял. Сын художника был арестован уже в 1934 году, почти все фотоматериалы были физически уничтожены, а мастер надолго ушел в пейзаж и фабричную тему. В 1944 году десятки тысяч негативов Зандера погибли в Кёльне во время бомбежек. Фотография столкнулась с настоящей цензурой, с ужасами войны и тоталитаризма, но проект вошел в ее историю даже не будучи до конца осуществленным, а фотоискусство показало свою силу, которую уже никогда не потеряет. Катаклизмы XX века, большие и малые, сделали профессию фотожурналиста одновременно опасной и гуманистической. И каждый такой фотограф понимал и понимает, что художественность в его работе – непременное условие эффективности послания миру. Даже там, где формально вся суть дела внеположена художественному и не имеет никакого отношения к красоте.
Возьмем хрестоматийный пример. Во время Афганской войны, в 1984 году, репортеру журнала National Geographic Стиву МакКарри удалось проникнуть на афгано-пакистанскую границу. Во время короткой, в несколько минут, сессии он сделал едва ли не самый знаменитый свой кадр, портрет маленькой Шарбат Гулы, потерявшей родителей во время атаки советских вертолетов. Что у него получилось, фотограф не знал до возвращения в США, где пленки были проявлены. Когда фотография попала на обложку, имя девочки годами никого не интересовало. Тем не менее пронзительность взгляда живой жертвы войны, конечно, никого не оставила равнодушным, и «Афганская девочка», попав в 1985 году на обложку июньского выпуска журнала, стала одновременно мощным антивоенным – и антисоветским! – манифестом и вехой в истории фотографии. Нетрудно догадаться, что сила международного воздействия такой фотографии в таком издании не могла не приблизить окончание этой бесславной войны и начало разрядки международных отношений. Точно так же, как фотография «Атака напалмом во Вьетнаме» Ника Ута (1972), опубликованная в США во время войны во Вьетнаме[518]518
Brothers C. War and Photography: A Cultural History. L.; N.Y., 1997. P. 178–185; Burke P. Eyewitnessing… P. 150–151.
[Закрыть].
Согласимся также, что по целому ряду признаков, по набору выразительных средств подобные снимки можно сравнивать с «Герникой» Пикассо. Но особенность – если не чудо – фотографии в том, что такой манифест, знаковый, эпохальный фотообраз рождается благодаря случайности, длящейся секунды. В «Афганской девочке» этих «случайностей» множество: резкий поворот головы «дикарки», согласившейся снять паранджу, да еще и при чужаке, откликнувшейся то ли на щелчок затвора, то ли на голос фотографа, твердый, недетский беспощадно проникающий в душу любого зрителя взгляд зеленых глаз, правильная экспозиция, стопятимиллиметровый, то есть длиннофокусный, объектив, позволяющий фотографу снимать модель не совсем в лоб, качественная пленка, по счастью уцелевшая во время опасной командировки. Крупный план, прямой взгляд модели в камеру – эти приемы активно использовались и ранее, например Дианой Арбус: ее герои не выхвачены из потока жизни, а напротив, остановились, понимают, что перед ними – камера, и смотрят так серьезно, словно только что вкусили плод с древа познания добра и зла[519]519
Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / пер. Г.Е. Крейдлина. М., 1994. С. 119–141. Нечто похожее мы найдем и сегодня – в портретах Филиппа Базена (Bazin Ph. La radicalisation du monde. P., 2009).
[Закрыть]. Но нужно увидеть и то, что за кадром: война, у которой, по идее, не женское и не детское лицо, военная граница, противостояние ядерных держав и, конечно, выучка мастера, его «слитость» с камерой. Картье-Брессон не раз говорил о любви к своей миниатюрной, издалека не заметной камере, он надолго замирал с пальцем на спусковой кнопке в ожидании нужной расстановки фигур и светового режима. Но он в неменьшей мере любил и знал геометрию картины, отсюда – неповторимая геометрия и, следовательно, неповторимость, вневременная ценность его снимков. Далеко не все фотографы (как и художники) – знатоки истории искусства. Они не обязаны ими быть. Однако в некоторых случаях совершенство «схваченной» композиции конкретного снимка объясняется как раз такой укорененностью фотографии в тысячелетней истории образов.
На самой знаменитой фотографии Уинстона Черчилля, сделанной Юзуфом Каршем в Оттаве в 1941 году, премьер-министр угрожающе смотрит в камеру (илл. 145). Но, если верить фотографу, ему удалось задержать политика для съемки лишь на две минуты; набравшись смелости, он отнял у него сигару (!) – и реакция не замедлила себя ждать. Мы считываем ее на раздраженном лице, но в 1941 году человечество, конечно, увидело в нем совсем не забавную, почти комичную ситуацию, а грозный взгляд непримиримого врага нацизма. Ведь оно, человечество, не знало, что у лидера Великобритании какой-то мальчишка только что отнял самое дорогое.

145. Карш Ю. Рычащий лев. Портрет Уинстона Черчилля. Оттава. 1941 год
В определенной степени фотограф – режиссер. Он должен суметь сделать постановочный кадр так, чтобы «режиссурой» не пахло. Точно так же, добавим, как актер не должен «играть». Неслучайно, рассуждая о том, как рождаются такие «случайные» шедевры, фотографы и критики часто говорят, что быстрота создания фотообраза компенсируется годами напряженной работы, знанием опыта других фотографов. Эти знания и навыки и делают возможным успех. Но есть в работе фотографа аналоговой эры и радость открытия на отпечатке того, что в видоискателе он мог и не заметить; он всегда готов к такому открытию. Микеланджело Антониони даже снял об этом целый фильм, «Фотоувеличение» («Blow up», 1966), формально – детектив, а на самом деле – киноразмышление о природе творчества фото-и кинохудожника. Это творчество может разоблачить преступление, а может открыть красоту. А иногда – и то и другое.
Почему нам важны подобные детали? Почему именно эти имена? Конечно, список великих фотографов нетрудно было бы продолжить. Как нетрудно найти эпохальные обложки глянцевых журналов XX–XXI веков, которые должны быть в фокусе зрения историков искусства. Художественные достоинства снимков первых фотографов, скажем, портретов Надара, – зачастую побочный эффект «героического» периода исканий, рождения искусства в недрах технологии. Фотографы искали верность натуре и поэтому в основном не давали воли субъективной фантазии. Это нисколько не принижает талантов первопроходцев. Кроме того, слишком велики были еще технические сложности, чтобы говорить о том, что фотохудожник мог осуществить любой свой замысел. Техническое оснащение после 1900 года, даже до того, как широко распространилась цветная фотография, уже дало фотографу примерно то же, что классическому художнику – масло и холст.
Невозможно представить себе Родченко и Картье-Брессона без Leica в руках. То, что камера есть продолжение ума, сердца, глаза и руки фотографа, трюизм, – непременное условие профессии. Более того, и не зная этого трюизма, мы чувствуем такое единение индивидуальной художественной воли и машины, глядя на фотографию, будь то фотография постановочная, студийная, смонтированная, пикториальная или снимок, схваченный в бою, в пустыне или посреди океана. Сегодня, когда десятки и даже сотни снимков ежедневно попадают в поле зрения любого из нас, фотография – это среда, в которой творится, в том числе, искусство. Поэтому оно не теряет того значения, которое приобрело в эпоху отцов-основателей.
Кинематограф и некоторые особенности киноанализа

Генетическая связь кинематографа с фотографией очевидна. Однако сегодня два этих вида искусства идут различными путями и, естественно, обладают собственными выразительными средствами. Более того, пути их разошлись уже в начале XX века, и Зигфриду Кракауэру, влиятельному теоретику кино, в 1960 году понадобилось специально описать «фотографическую природу» фильма, а свое исследование начать с краткого разбора языка фотографии[520]520
Кракауэр З. Указ. соч. С. 19.
[Закрыть]. Кинематограф родился из желания технически запечатлеть движение жизни, то есть документальность заложена в его природе и роднит его с фотографией не меньше, чем некоторые технические и творческие приемы: человек с камерой, оптика, крупный план, размывка, двойная и многократная экспозиция. Другие средства, напротив, отличают кинематограф от «прародительницы»: монтаж, наплыв, движение камеры и, конечно, звук, будь то музыка, речь или шум. Велика разница в процессе создания произведения: фильм сразу стал сложным коллективным творением, подобным театральной постановке. И не менее велика разница в демонстрации произведения и в его рецепции, восприятии как индивидуальным зрителем, так и публикой, даже в эпоху масштабных фотовыставок. Ранний этап истории киноиндустрии хорошо описан в «Записках кинооператора Серафино Губбьо» Луиджи Пиранделло[521]521
Пиранделло Л. Записки кинооператора Серафино Губбьо: роман / пер. В. Лукьянчука. М., 2011. (Неизвестные страницы мировой классики). (Квадрат; 41).
[Закрыть]. На связь молодого кинематографа с театром указывали уже тогда, когда он назывался «Великим Немым». Полемизируя с этим расхожим «кислым комплиментом», Юрий Тынянов писал тогда же, что «кино – искусство абстрактного слова»[522]522
Тынянов Ю.Н. Кино // Его же. Поэтика. История литературы. Кино / предисл. В. Каверина. М., 1977. С. 322, 327.
[Закрыть]. Тот же роман Пиранделло как раз фиксировал, среди прочего, и отход кинематографа от театра, обретение им собственного языка.
Фиксируя движение, а не отдельные его фазы, раннее кино опережало фотографию в создании эффекта реальности. Однако довольно скоро камера «ожила», начала двигаться, и тогда движение в фильме из объективной данности превратилось в субъективное переживание зрителя. Мы воспринимаем движущийся мир, двигаясь сами, поэтому, смотря фильм, помимо своей воли отождествляем себя с камерой. Поэтому и создатели фильмов стали задумываться над основными принципами своей работы. Возникли две тенденции, при всех метаморфозах сохранившиеся по сей день, – реалистическая и формотворческая. Одна следовала за эмпирической данностью, ища в ней самой правду и красоту, другая стремилась преобразить эту данность, сконструировать ее с помощью доступных технических средств. Выражаясь словами одного из художниковпостановщиков «Кабинета доктора Калигари» (1920), фильмы должны были быть «ожившими рисунками». Немецкий экспрессионистский кинематограф тех лет, иногда очень «дорогостоящий», но действительно весьма «живописный», «художнический», полностью этому принципу соответствовал.
Как и в случае с фотографией, сразу встал вопрос об отношениях кино с другими видами искусства, о его специфической художественности. И сегодня совсем не всегда легко определить, что в конкретном фильме 1920 или 2020 года от искусства, а что – от коммерции, от искусности, от технического оснащения, от долга камеры перед реальностью. На протяжении истории кинематографа, начиная с первого кинопоказа братьев Люмьер в 1895 году, споры о специфике искусства в рамках кинематографа не утихают. Теория кино как область знания встала на ноги уже в 1910-е годы и сама по себе делится на целый ряд течений, описанных, например, Томасом Эльзессером и Мальте Хагенером[523]523
Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело / пер. С. Афонина, И. Кушнаревой. СПб., 2016.
[Закрыть]. Резонно считать условием искусства художественную переработку действительности выразительными средствами кинематографа. Но тогда за рамками нашего предмета окажутся и документальное кино, и те художественные фильмы, которые сознательно погружены в реальность, вроде «Земляка» Роберто Росселлини (Paisà, 1946), шедевра итальянского неореализма, родившегося на руинах войны.
Документальный жанр вовсе не отнимал и не отнимает у его создателей права на художественное отношение к документируемой действительности. Нарочитая бесхитростность стиля, работа с непрофессиональными актерами, людьми «с улицы» (у неореалистов, Брессона и Пазолини), отказ от спецэффектов – такие же распространенные художественные приемы в кинематографе, как типологически схожая с ними «простота» в других видах изобразительного искусства. Более того, эти приемы нередко становились стилем конкретных мастеров и целых направлений, а реально воплотить их на съемочной площадке совсем не просто, даже если не требует миллионных вложений. Вместе с тем куда отнести иные дорогостоящие, с отличным актерским составом, мастерски срежиссированные оскароносные фильмы, не претендующие, однако, ни на принадлежность к интеллектуальному артхаусу, ни на судьбоносную идейность своего воззвания к человечеству? Наличие американского «Оскара», каннской «Пальмовой ветви», венецианского «Золотого льва» или коммерческого успеха – это всегда показатель принадлежности фильма к большому искусству? Или по большей части, но все же не всегда? Или многомиллионные бюджеты, сорванные на всех континентах кассы, рукоплескания миллионов вообще не имеют отношения к Искусству, а судить следует знатокам, руководствуясь некими заданными киноведением критериями? И наоборот, коммерческий провал гарантирует фильму забытье? Как и с другими видами искусства, всё намного сложнее.
Список таких вопросов нетрудно продолжить. Поэтому, определяя, что в кинопродукции от искусства, а что – для развлечения, следует нюансировать понятие искусства, сообразуясь с природой кино как средства коммуникации. Возможно, лучше говорить об особом киноискусстве, о кинематографической красоте, о киноген и, как сто лет назад предложил Юрий Тынянов по аналогии с фотогенией. «Метрополис» Фрица Ланга (1927), «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса (1941), «Сталкер» Андрея Тарковского (1979), «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы (1979), «Мертвец» Джима Джармуша (1995), «Трудно быть богом» Алексея Германа (2013) – очень разные и очень красивые фильмы (из которых последний как раз оказался убыточным). Во всех есть сцены, завораживающие именно красотой, воздействующие сугубо эстетически. Но согласимся, что тема этих фильмов – не красота как таковая: и люди, и предметы в них, напротив, зачастую подчеркнуто некрасивые, даже уродливые, отталкивающие. Кинематограф Питера Гринуэя тоже подчеркнуто живописен и театрален, говорит на языке барокко, в том числе в музыке («Дитя Макона», 1993). Но он называет все вещи своими именами: очень красивая сцена может изображать коллективное изнасилование, длящееся минут десять. Это совсем не тот вымысел, над которым станешь обливаться слезами. «Сало, или 120 дней Содома», последняя работа Пьера Паоло Пазолини (1975), фильм со сложной судьбой, в некоторых странах запрещенный к показу, местами очень красив. Но одновременно это фильм-кошмар, фильм-приговор, порнография, основанная одновременно на произведениях маркиза де Сада и Данте. Эстетика в нем поставлена с ног на голову, красота здесь что-то вроде антитекста, пощечина фашизму, если не всякой власти вообще[524]524
Пазолини П.П. Теорема: сценарии, роман, повесть, рассказы, статьи, эссе, интервью / пер.; сост. Н.А. Ставровской. М., 2000. С. 565–569.
[Закрыть]. И все же суд признал этот фильм произведением искусства.
Кинематографическая красота – не в красивости сюжета, предмета или лица, а в том, как конкретная ситуация снята, как она увидена режиссером и его командой, в том, насколько убедительно звучит послание фильма. Ответ на этот парадокс, возможно, – в двойственности эстетического переживания при контакте с произведением искусства, в частности, с фильмом: только глядя на экран, мы одновременно забываем и не забываем об условности происходящего, ужасаемся злодейству и восхищаемся красотой его изображения. Однако в какой-то степени то же можно сказать и о других видах искусства: такие монументальные полотна, как триптих Отто Дикса «Война» (1929–1932), «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Ильи Репина (1883–1885), сознательно показывают то, что мы предпочли бы не видеть. Норвежец Эдвард Мунк и бельгиец Джеймс Энсор редко уделяли внимание чему-то положительному и приятному для взгляда. Дадаизм и поп-арт в уходе от красоты видели вообще основной принцип искусства. Живопись и скульптура XX века сделали очень много для того, чтобы отделить красивое в жизни от красивого в искусстве.
У профессионалов и ценителей с 1920-х годов закрепилось трудноопределимое слово «кинематографичность»: в нем есть что-то и от красоты, и от верности натуре, и от понимания целей и аудитории фильма. Такие понятия эволюционируют вместе с кинематографом и вкусами публики подобно тому, как эволюционирует сама эстетика. Как и фотография, кинематограф – среда, в которой среди прочего творится и высокое искусство, причем едва ли не самое сложное для Новейшего времени. Наша задача – в том, чтобы стать умными зрителями, научиться вычленять собственно художественное и анализировать его исторически, то есть учитывая обстоятельства, оставшиеся за кадром, вне экрана, то недосказанное, которое волнует нас и в поэзии, и в живописи. Только тогда фильм станет для нас произведением искусства в полном смысле слова.
Этому учит самостоятельная дисциплина – киноведение. Оно родилось в рамках кинематографа как форма саморефлексии, но постепенно от него отделилось. Киновед – совсем не обязательно работник киноиндустрии, но знает ее кухню. Внутри киноведения, дисциплины междисциплинарной по определению, иногда выделяют теорию, критику, историю. К 1960-м годам сложился киноанализ с конкретными приемами описания произведения, графической и словесной фиксации всех его элементов, без которой невозможно его научное понимание. В общих чертах такой системный киноанализ воспринят как семиотикой, так и киноведением[525]525
Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973; Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана: сб. ст. / сост. К.Э. Разлогов. М., 1985; Корте Г. Введение в системный киноанализ / пер. М. Юдсон, М. Смирновой. М., 2020. (Исследования культуры).
[Закрыть]. Киноведение влияло и влияет на практиков – режиссеров и, в меньшей степени, актеров, причем влияет больше, чем искусствознание на художников. Многое роднит киноведение с искусствознанием, но последнее все же изучает не только модерн, не только XX век, но и далекое прошлое, эта хронологическая дистанция существенна для выбора инструментария искусствоведа. История искусства как научная дисциплина предлагает собственные описательные категории и исследовательские приемы для понимания прошлого, но не имеет возможности побеседовать запросто с Леонардо или Фидием. Историки старого искусства довольно редко брались и берутся комментировать кино: неудивительно, что Эрвин Панофский сравнивал фильм, произведение многолюдное, со средневековым собором[526]526
Панофский Э. Стиль и медиум в кино / пер. А. Дорошевича // Мир образов. Образы мира… С. 148.
[Закрыть]. Киноведение же сформировало свой понятийный аппарат, что называется, в гуще событий, между съемочной площадкой и кинозалом. Среди его классиков не только – и даже не столько – кинематографисты, но и представители фактически всех гуманитарных наук XX–XXI веков, включая философию[527]527
Делёз Ж. Кино / пер. Б. Скуратова. М., 2004.
[Закрыть]. Это говорит о том, что кинематограф – искусство поистине синтетическое.
Если вспомнить двойную классификацию всех искусств, предложенную в 1766 году Лессингом («Лаокоон, или О границах живописи и поэзии»), кинематограф можно отнести к обеим ветвям. К пространственным искусствам – потому что он, подобно живописи или рельефу, развертывает рассказ в пространстве, на экране, в кинозале или в комнате. К временн м, словесному и музыкальному, – потому что повествование его длится во времени. В обоих этих измерениях кино, по сути своей, – искусство гибридное и развивается по сей день.
Анализируя конкретный фильм, мы должны понимать, что он обращается к зрителю в определенном кинематографическом пространстве. Его просмотр конкретным зрителем – тоже историко-художественное событие, которое должно включаться в наш анализ. Показ фильма может быть тривиальным, а может быть политическим актом: прокат спилберговского «Списка Шиндлера» (1993) начался с официальных показов в присутствии глав государств (США, Израиля, Франции, ФРГ). После этого президент США Билл Клинтон официально призвал всех смотреть эту голливудскую ленту о Холокосте, руководствуясь прежде всего этическими, воспитательными соображениями. Дальнейший успех ленты и ее место в истории кинематографа отчасти обусловлены и этими обстоятельствами. Реакции зрителей были разными, но все почувствовали, что голливудская драма впервые заговорила о таких серьезных вещах и показала то, что показывали нечасто[528]528
Корте Г. Указ. соч. С. 283.
[Закрыть].
Фильмы десятилетиями смотрели в кинотеатрах, поход в «киношку» мог и может быть делом коллективным, дружеской вылазкой, дыркой в рутине, ритуалом, а может – синефила-одиночки или профессией. Кинотеатр в Латинском квартале – не то же, что в провинциальном американском городке: один и тот же фильм Годара или Трюффо, вестерн или голливудская мелодрама в 1960-е годы смотрелись в них по-разному. И тем более по-разному – полвека спустя. В центре Москвы в зрелище скотобойни в эйзенштейновской «Стачке» (1924) публика увидела метафору жестокости и смерти, а на рабоче-крестьянской окраине, в Симоновке, подумали о говядине и котлетах. Подобная разница в реакции на сцены фильма, пусть далеко не всегда научно верифицируемая, важна для киноанализа, потому что любой чуткий режиссер всегда следил и следит за реакцией публики, даже если заявляет об обратном.
В кинозале фильм по определению буквально обволакивает зрителя, его воздействие – психосоматическое, поэтому популярны психологические и психоаналитические подходы к киноискусству[529]529
Арнхейм Р. Кино как искусство / пер. Д. Соколовой. М., 1960; Метц К. Воображаемое означающее: Психоанализ и кино / пер. Д.Я. Калугина, Н.С. Мовниной. СПб., 2010. (Территория взгляда; вып. 1).
[Закрыть]. Фильм воздействует на все органы чувств, включая желудок (откуда, видимо, и пришедшая из США «культура» коллективного поедания попкорна). На «прорыв» плоскости экрана с целью вовлечения зрителя в действо десятилетиями работала не только режиссерская мысль, начиная со знаменитого люмьеровского паровоза, но и технология – от вполне привычного сегодня пространственного звука, изобретенного Dolby в 1970-е годы, до 3D, с которым в США экспериментировали уже в 1950-е годы. Именно кинотеатр, как отмечал еще Панофский, восстановил тот динамический, живой контакт между созданием произведения искусства и его потреблением, который в других видах искусства прервался вовсе или переведен в музей. Кинематограф обрел свое уникальное пространственно-временное воплощение, свой хронотоп. Согласимся, что фильм – все что угодно, но не музейный экспонат. Хранящаяся на полке бобина ценна, иногда даже бесценна: пленка со «Страстями Жанны д’Арк» (1928), шедевром Карла Теодора Дрейера, уцелела и найдена была чудом – и это событие в истории кинематографа. Но фильм без зрителя – нонсенс, а «Джоконда» и в закрытом Лувре остается «Джокондой».
После войны фильм пришел в дома, и его создатель уже мог рассчитывать на интимный, но одновременно и более широкий контакт со зрителем. Наконец, в наши дни фильм оказался на расстоянии вытянутой руки, на компьютере, и даже, собственно, в руке, на экране смартфона. Между тем дистанция по отношению к экранному действу так же важна, как в театре граница между зрителем и сценой. Как важна и темнота кинозала, зримо ослабляющая память об обыденном, оставшемся там, снаружи. Кинотеатр не исчез, но пространственные координаты киноискусства принципиально изменились с приходом сначала пульта дистанционного управления, затем – тачпада. Атмосфера кинозала, воздействуя на тело зрителя, одновременно развивает гаптическую функцию зрения, то есть способность глаза не просто смотреть, но на расстоянии «ощупывать» (от греч. hapto) видимые предметы. Важность такого визуального осязания в кинематографе заметила в свое время теоретик кино Лора Маркс. Оно принципиально важно и при анализе живописи, еще важнее – при контакте со скульптурой. На обыденном языке мы нередко говорим, что «вжились» в образ. Способность же и готовность вжиться, сопереживать действию, разворачивающемуся на экране, войти в него, стать соучастником напрямую связаны не только с внутренними качествами фильма, с его конструкцией, но и, как в театре, с внешними, привходящими обстоятельствами. Чтобы действительно увидеть фильм, нужна эмоциональная и физическая настройка нашего глаза. Неслучайно в зарубежном киноведении отличают просто взгляд, look, от взгляда пристального, gaze, проникающего за поверхность видимого, в суть вещей[530]530
Эльзессер Т., Хагенер М. Указ. соч. С. 173.
[Закрыть].
Резонно сравнивать кино и со словесностью. Как литературное произведение немыслимо без читателя, а не только без автора, так и фильм – без зрителя. Речь – неотъемлемая часть кинематографической образности, а значит, ее можно и нужно анализировать средствами наук о языке и литературе. Фильм всегда основывается как минимум на письменно зафиксированном сценарии, часто экранизирует литературное произведение. Но вдумчивая экранизация – всегда диалог двух великих видов искусства. Неслучайно в киноведении прижились и предложенная русскими формалистами поэтика кино, и терминология общей риторики, ведь фильм говорит с нами с помощью метафор, литот, анафор[531]531
Бордвелл Д. Поэтика кино / пер. Л. Мезеновой // Киноведческие записки. 2011–2012. № 100–101. С. 130–185.
[Закрыть]. Наконец, он по определению что-то рассказывает, создавая собственное – фильмическое – пространство и время. В нем, как в драме или эпосе, разворачивается действие.
Точно так же собственное пространство и собственное время мы найдем как в современном романе, так и в древнем эпосе. Диалектическое единство этих двух важнейших категорий в литературном произведении Михаил Бахтин называл «хронотопом». Есть он и у кино: фильмический хронотоп. Эпос, Библия или современный роман в одинаковой мере могут в нескольких фразах уместить многомесячный переход, могут на одной странице перепрыгнуть из будущего в прошлое или смешать их. Характерный тому пример – «Я исповедуюсь» каталонца Жауме Кабре́ (2011). То же самое вполне доступно фильму с помощью целого ряда выразительных средств – визуальных, звуковых, сюжетных. Расхождение «фильмического», изобразительного времени со зрительским, с временем, текущим в кинозале, налицо. Но к этим двум временны́м потокам следует добавить третий: поток реальных событий, о которых идет рассказ. Этот третий поток можно для удобства назвать временем истории. Встреча этих трех временны́х потоков и есть фильм, и она объединяет его с эпосом и драмой[532]532
Мукаржовский Я. Указ. соч. С. 396–419.
[Закрыть].
Если мы констатируем обусловленность кинематографа литературой, можно ли сравнивать фильм, скажем, с поэзией или с прозой? Вполне. Пазолини, режиссер, теоретик и поэт, писал о «поэтическом кино». Поскольку фильм длится, он предполагает просмотр и, следовательно, прочтение, порядок которого задан так же жестко, как синтаксис фразы или структура книги. Фильм выстраивается из сменяющих друг друга кадров, иногда коротких, иногда длинных монтажных единиц, но мы видим эти границы подобно тому, как видим их в обрывающихся строчках поэмы. Кадры связаны друг с другом, каждый сохраняет замкнутую в себе ценность, несет собственное содержание, играет свою четкую роль в построении целого. Но в каждом кадре есть нечто показанное и есть литота, нечто, оставшееся за кадром, не схваченное камерой, а для зрителя – за черной полосой, обрамляющей экран.
Хороший фильм – всегда только фрагмент реальности, нечто недосказанное. Как хорошее стихотворение – читателя, фильм заставляет вдумчивого зрителя достроить мир за пределами кадра. И способность на такое достраивание равнозначна пониманию кинематографа как искусства. И наоборот: если достраивать нечего, если сказано все – перед нами не искусство. Короткий, но кульминационный кадр в фильме может значить для его фабулы больше, чем несколько длинных, – опять же, как и в поэзии. Как в киноведении, так и в литературоведении для научного анализа целого произведения требуется максимально детальное протоколирование всех смысловых составляющих. Наконец, мы обнаружим в фильме и ритмы, и «рифмы», но не столько словесные, сколько визуальные. Рифмуются взгляды, которыми обмениваются герои, красноречиво молчащие предметы, пейзажи.
Нетрудно возразить, что и в фильме, и в стихотворении эти «скачк», замкнутость строки или монтажного плана на самих себе не мешают восприятию целого. Однако нужно учитывать, что до начала 1930-х годов кинематограф был немым, то есть выводившиеся на экран реплики делали восприятие картины по определению дискретным, ритмизованным. Сама эта ритмическая расчлененность киноповествования отличает жизнь «сыгранную» от обыденной, фильмический мир – от эмпирического. Такая расчлененность – тоже суть художественности. Потому что реальная жизнь протекает перед нами без пауз, единым потоком, а искусство расчленяет и тем самым анализирует реальность.
Появление возможности включать речь в фильм обогатило выразительность кино, по мнению многих, дало ему полную свободу. Но кажущееся нам сегодня само собой разумеющимся не было очевидным для современников: в связи с приходом звука режиссеры масштаба Сергея Эйзенштейна и Чарли Чаплина высказали свои опасения о судьбе киноискусства. Влиятельный итальянский критик и писатель Массимо Бонтемпелли резонно предупреждал в статье «Кинематограф» (1931): «Нельзя забывать, что всякое искусство подвергается тем большим опасностям, чем большими возможностями воспроизводить реальную действительность оно обладает»[533]533
Цит. по: Тынянов Ю.Н. Указ. соч. С. 355.
[Закрыть]. Знатоки видели, что первые звуковые фильмы, talkies с синхронной фонограммой, в художественном плане заметно хуже немых. Но после войны телевидение увлекло миллионы людей из кинотеатров в гостиные, и экономический интерес поставил точку в спорах эстетов. Многие мастера стали экспериментировать с асинхронизацией звукоряда по отношению к изображению («Пепел и алмаз» Анджея Вайды, 1958; «Хиросима, моя любовь» Алена Рене, 1959).
В 1960 году, когда слияние звукового и иконического образов в кинематографе уже было свершившимся фактом, Канэто Синдо снял черно-белый «Голый остров», хронику жизни бедной японской семьи, где нет ни одного диалога. На протяжении полутора часов муж и жена возят на лодке пресную воду, под палящим солнцем таскают ее наверх, поливают свой иссушенный ветрами и солнцем участок земли, собирают урожай, радуются детям, хоронят сынишку, снова таскают воду, снова поливают… Одна и та же меланхолическая мелодия в сочетании с величественным пейзажем создает у зрителя настроение лирической грусти, моно-но аварэ, укорененной в тысячелетней японской культуре. Режиссер называл свой фильм «кинопоэмой, которая пытается изобразить жизнь людей, борющихся с силами природы, словно муравьи». Добавлю: кинопоэмой без слов. В «Четырежды» Микеланджело Фраммартино (2010) жизнь бедной калабрийской деревушки тоже показана без значимых реплик, обрывки речи сливаются с блеянием коз, ветром, тарахтением мотора грузовичка. Подобное красноречивое молчание, что называется, режет слух, воспринимается как осмысленный сдвиг, антинорма, минус-прием[534]534
Лотман Ю.М. Семиотика кино… С. 39.
[Закрыть]. Оно способно превратить рассказ о самом обыденном в настоящую притчу, и оба этих фильма – тому свидетельства. Они показывают, что для режиссера соответствие или несоответствие звукового и визуального образов – его художественное решение, а не дань, заплаченная «тирании слов» или правде жизни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































