Текст книги "16 эссе об истории искусства"
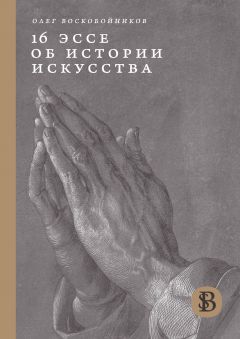
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Такие бюсты делал и Николай Лейденский, но интересующий нас сейчас отличается от остальных. В левой руке портретируемый держал какойто предмет, возможно, циркуль или молоток, – тогда перед нами портрет архитектора. За левое плечо откинут капюшон куртки довольно свободного и грубоватого покроя. Никаких иных атрибутов и идентифицирующих признаков не найти. Но главное, что этот облокотившийся (как и все вокруг) на что-то человек ни на кого не смотрит, не приглашает к разговору, даже если подходишь к нему совсем близко, что, по счастью, возможно. Голова довольно сильно склонилась, а подпирающая подбородок правая рука изогнулась под ее тяжестью, что очевидно благодаря тонко прочерченным складкам кожи и венам. Такая поза восходит к античному образу меланхолии или траура, в Средние века она могла ассоциироваться с пороком уныния (греч. и лат. acedia), нередко бичевавшимся в монашеской среде.
Поскольку меланхолия как особый темперамент «детей Сатурна» уже начинала восприниматься как профессиональная болезнь творческой личности, художника, в искусствоведении возникла точка зрения, что перед нами – автопортрет[267]267
Различные точки зрения освещены в каталоге выставки: Recht R., Dupeux C., Roller St. Nicolas de Leyde, sculpteur du XVesiècle. Un regard moderne. Strasbourg, 2012. P. 155–156.
[Закрыть]. В такой логике знаменитая дюреровская «Меланхолия I» – тоже «автопортрет». Действительно, нетрудно себе представить художника, поэта, писателя, пребывающего всегда наедине с собой или с музой. Таков ушедший в себя Эразм Роттердамский на ксилографии Дюрера (1526), Пушкин у Кипренского (1827), с его отведенным взглядом и сложенными на груди руками, Достоевский у Перова (1872), напряженно обдумывающий «Бесов» и вообще «достоевские» вопросы бытия[268]268
Надписи на гравюре как бы спорят друг с другом: на латыни Дюрер утверждает верность портрета тем, что изображение сделано «по живому облику», ad vivam efifgiem, Эразм отвечает ему по-гречески, что больше о нем можно узнать по его сочинениям. Капризный Наставник Европы остался портретом не доволен, что немаловажно, учитывая роль гравюр в имидже того времени. Жена Достоевского Анна Григорьевна утверждала, что Василий Перов передал тот момент, когда писатель «смотрит в себя», но современники резонно сопоставляли портрет с «Христом в пустыне» Ивана Крамского (1872). Творчество писателя не только влияет на восприятие его живописного портрета читателями, но и в какой-то степени может определять его форму.
[Закрыть]. Спрятанные глаза действительно могли и могут означать дистанцирование «творца» от публики. Николай Лейденский мог изобразить не только себя, а кого-то из коллег по цеху, но сделал это с такой интимной теплотой, что идея автопортрета напрашивается сама собой. Тем не менее, строго говоря, бюст остается возвышенной загадкой, а изображенный – незнакомцем.
Бюст выполнен из «неблагородного» материала – местного розового песчаника, который в Страсбурге видишь повсюду. Полировкой здесь ничего не добьешься, хотя камень относительно податлив. Прическа довольно проста – котелок, передана крупными локонами. Сзади скульптура обработана слабо, значит, она была рассчитана на рассматривание спереди и немного снизу, но с небольшого расстояния, учитывая, с какой тонкостью передана поверхность кожи. Совсем не проста мимика лица, лаконичная, неброская, но сознательно загадочная: лицо безусловно задумчиво, глаза почти закрыты, брови, едва намеченные, слегка приподняты у переносицы, что традиционно передавало эмоциональное напряжение, то, что мы назовем «переживанием». Но здесь нет пафоса, а лишь глубокая психологическая концентрация, отрешенность, лишенная, однако, признаков религиозной экзальтации или неприятия окружающего мира. Это глубоко светское произведение, хотя созданное Николаем Лейденским монументальное распятие, стоящее в церкви в Баден-Бадене, показывает, что и в этом традиционном жанре скульптор достиг высот гуманизма и психологизма. Как мы уже видели, рассуждая о теле Христа, патогномика «Страстей» волновала зрителей и художников. А когда нужно было изобразить реакцию на лицах тех, кто присутствовал при казни, у распятия, – здесь-то и начиналась работа физиогномиста, способного наблюдать и за проявлениями страданий, болезней, физиологических аномалий, душевных расстройств. Тот же Николай Лейденский на одном из бюстов не побоялся изобразить частичный паралич лица.
Присмотримся к мастерски переданному сложному повороту фигуры. Скрученная в своеобразную пружину, она таит в себе спящую энергию, которую мы угадываем как в лице, так и в обеих руках. Обратим внимание, что мужчина облокотился не на парапет, а на собственную руку, держащую за рукоятку какой-то направленный вниз инструмент. Это тоже усложняет ракурс и словно заставляет человека удерживать шаткое равновесие. Относительная (в сравнении с другими) хрупкость телосложения вторит хрупкости лица, на котором выделяется лишь крупный нос с горбинкой, впрочем, излюбленный элемент в физиогномике того времени. Несмотря на сложную спираль модели, с какой точки ни посмотреть, ясно, что скульптор полностью владеет окружающим пространством, подчиняет его своему герою. Именно это завораживает зрителя по сей день и должно было завораживать современника. По анатомической точности этот бюст ничем не уступает лучшим работам Возрождения и барокко. Все резонно восхищаются тем, как умел передать в мраморе мягкость кожи Бернини, в частности, показывая прикосновение руки к телу («Аполлон и Дафна», 1622–1625). Но и здесь этот эффект одушевления камня достигнут с помощью того же приема, для портрета, однако, не свойственного, к тому же в зернистом песчанике, а не в полированном мраморе. Рука, скрывшая всю нижнюю часть лица, только прибавила драматизма композиции, усложнив рисунок плотно сжатых губ и, как ни странно, открыв путь к душе. Ритм тщательно высеченных и расставленных пальцев вторит замысловатой светотени на складках куртки и шарфа. Эту сложную светотеневую игру лишь условно можно назвать позднеготической, потому что достигаемый с ее помощью психологический эффект выходит за рамки привычных ярлыков.
«Психологический строй» страсбургского бюста действительно слишком своеобразен, чтобы можно было безболезненно вписать его в какое бы то ни было течение, в какой-то стиль. Николаю Лейденскому много подражали как в религиозном, так и в портретном искусстве. Он руководил довольно успешной мастерской и получал престижные заказы, его выпрашивал ко двору император Фридрих III, и около 1470 года скульптор выполнил для него в Вене великолепное надгробие. Его современники и потомки бывали хорошими физиогномистами, они умело сочетали отдельные формы и приемы. Их лица обеспечивали искомый заказчиками эффект присутствия, тот же, которого искали флорентийцы. В техническом плане Тильман Рименшнайдер не уступал, пожалуй, ничем, но «психологом» он не был. Только у понастоящему великого мастера интроспекция, взгляд внутрь человеческого естества, жизнь души воплощаются на поверхности камня.
Латынь архитектуры

Колонна с лежащим на ней антаблементом, несущим крышу, в какой-то момент стала, по выражению Джона Саммерсона, грамматикой европейской архитектуры, ее латынью[269]269
Summerson J. The Classical Language of Architecture. L., 2012. P. 7.
[Закрыть]. Почему? И если стала грамматикой, то стала ли и языком? Или только одним из способов выражения ее нужд, «письменностью», если угодно?
Произошло это довольно поздно, если отсчитывать от начала истории зодчества. Сверстник Микеланджело Себастьяно Серлио, следуя как опыту своих дней, так и теоретикам прошлого, от Витрувия до Альберти, в 1537 году свел правила и обычаи возрожденной древности в учебник, ставший на века настольной книгой архитекторов и их заказчиков. Она начинается с рассказа о действующих лицах – пяти ордерах. Это сделано специально, в подражание драме тех лет, когда «характеры» и «роли» описывались в предисловии, чтобы почтенная публика не запуталась в истории. То же у Серлио. Его колонны и антаблементы представлены так, чтобы зритель научился смотреть на постройку с такой же точностью, с какой он читал латинский текст: бесполезно браться за него, не зная четырех спряжений глагола.
Непреложность некоторых правил словно помещена в основу архитектуры. Любые отклонения от них как минимум должны были вызывать вопросы, а то и такое же возмущение, какое вызывает неграмотная речь. В середине XVII века Франческо Борромини, один из самых экстравагантных гениев экстравагантного барокко, развернул внутрь листья аканфа на коринфской капители, да еще врезал в них человеческие лица (что само по себе было известно с древности). Это могло восприниматься как бестактность, нарушение порядка, оскорбление святыни. Однако в рамках архитектуры, отрицающей очень многое в традиционном порядке, например, в церкви Сан-Карло у Четырех Фонтанов, в университетской церкви Сант-Иво алла Сапиенца (1642–1662), в колокольне Сант-Андреа-делле-Фратте (1653–1658), этот «беспорядок» в листве уже выглядит упорядоченным, ибо звучит в унисон с общими принципами постройки. А ученый зритель XVII века вполне мог прочитать этот ход мысли как риторическую анастро́фу, то есть просто обратный порядок слов.
В Новое время ордер стал сутью архитектуры, квинтэссенцией мудрости древних, и не только строительной. К XX веку латынь подзабыли, но черчение и рисование колонн осталось в программе подготовки архитекторов. Когда в 1930-е годы возвращение к классицизму в советской архитектуре стало реальностью, Всесоюзная академия архитектуры выпустила книги целого ряда классиков архитектурной мысли, которые в перерывах между сидками и допросами переводил для академии Александр Габричевский. Сама теория классических архитектурных форм была представлена добротным учебником, следовавшим западноевропейским образцам[270]270
Михайловский И.Б. Теория классических архитектурных форм. М., 1937.
[Закрыть]. Учившиеся по ним молодые архитекторы в 1930-е годы создавали тот респектабельный стиль комфортного тоталитаризма, который у нас, по-моему, не слишком удачно, называют сталинским классицизмом[271]271
Тамара Гейдор и Игорь Казусь выделяют сталинский ар-деко и сталинскую неоклассику (Гейдор Т.И., Казусь И.А. Стили московской архитектуры. М., 2014. С. 278–423). Сталин по понятным причинам был интересным собеседником для архитекторов – вникал, правил, предлагал, назначал, подписывал. Но он все же не создавал построек.
[Закрыть].
В основе классического европейского ордера – колонна, унаследованная греками от Древнего Египта и Критского царства. Именно египтяне сделали ее неотъемлемым атрибутом храма, хотя принцип выделения ритуального пространства с помощью балок и опор – как один из возможных – известен уже по Стоунхенджу. Египетская колонна, например в Луксоре, изображает связку папируса или священный цветок лотоса (илл. 90). Этот цветок распускается у нас на глазах, а балка, которую вроде бы колонна должна держать, словно парит над ним. Это связано с тем, что между капителью-бутоном и балкой лежит каменный блок, зримо разрывающий связь между вертикалью и горизонталью. Столь же иррациональна и антиорганична колонна Кносского дворца, набирающая толщину по мере роста: она не каменная и представляет собой перевернутый ствол местного кипариса. В греческом ордере такая иррациональность невозможна, и это отличие принципиально: египетская колонна, с ее религиозно-символическим значением, как верно выразился Николай Брунов, изобразительная, а греческая – тектоническая[272]272
Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры: в 2 т. М., 2003. Т. 1. С. 250; т. 2. С. 65–71.
[Закрыть]. Конструктивно обе несут тяжесть, но художественно, визуально эту свою задачу они отражают по-разному, поэтому и создаваемые такими колоннами архитектурные образы отличаются по историко-культурному значению.

90. Молельня Фиванской триады (Амон-Ра, Мут, Хонсу) во дворе Рамсеса II. XIII век до н. э. Луксорский храмовый комплекс
Колонны Луксорского храма Амона-Ра неслучайно изображают лотос и папирус. Вместе они символизируют единство Верхнего и Нижнего Египта. Кроме того, лотос египтяне наделяли целым рядом мифологических и символических характеристик, из которых едва ли не важнейшая связана с магией оживления. В изобразительном искусстве Египта не найти развернутой композиции, в которой бы не фигурировал один из трех видов этого цветка. В некоторых вариантах космогонии он стоял у истоков мироздания, считался колыбелью солнечного бога Хора. Он участвовал и в многочисленных ритуалах. Ничего удивительного, что именно он призван был зримо воплотить идеальную модель космоса, соединить землю и небо[273]273
Померанцева Н.А. Указ. соч. С. 77–78.
[Закрыть].
В основе греческого храма – другое архитектурное мышление. Три греческих типа колонны – дорический, ионический и коринфский – уже Витрувий сравнивал соответственно с мужчиной, женщиной и девушкой[274]274
Витрувий. Указ. соч. IV, 3–8. С. 74–75.
[Закрыть]. Однако те же греки выстроили в дорическом ордере Парфенон – храм, посвященный деве-воительнице[275]275
Эллинистический поэт Каллимах написал гимн «На омовение Паллады» на «мужественном» дорийском диалекте древнегреческого языка, так что описываемое здесь «гендерное» распределение ордеров вполне вписывалось в культуру в целом (Каллимах. На омовение Паллады / пер. С.С. Аверинцева // Александрийская поэзия / сост. М. Грабарь-Пассек. М., 1972. С. 122–126. (Библиотека античной литературы)).
[Закрыть]. Таким образом, и греки, и последовавшие за ними римляне воспринимали колонну не только технически, тектонически, но и символически, изобразительно. Продолжая в том же метафорическом духе, но уже в совсем другом мире, Серлио рекомендовал первую колонну для постройки храмов в честь святых мужского пола, вторую – для храмов в честь святых жен и (почему-то) святых учителей, богословов, третью – для храмов в честь дев, в особенности Девы Марии. Естественно, подобные советы принимались не всегда и не везде. Не в любой дорической колонне веками видели воина, а в коринфской – хрупкую девушку. Новое время зафиксировало пять ордеров, прибавив к трем первым тосканский и смешанный, композитный. Иногда за выбором ордера стояли чисто финансовые соображения: дорический и тосканский – самые дешевые в исполнении, коринфский и композитный – самые дорогие, потому что требовали более тонкой резьбы. «Простота» и «роскошь» постройки – не только описательные категории, но и эстетическое выражение культурных, религиозных и политических ценностей. Следовательно, выбирая ордер, один из пяти с XVI века, заказчик и архитектор выбирали настроение и статус, которые постройка призвана была выразить.
Древние греки и римляне, скорее всего, видели в колонне суть архитектуры, ее достоинство, «стать». Именно колонна превращала постройку в произведение искусства. Поэтому поколения зодчих выработали те пропорции колонны, которые постепенно стали эталоном, вдохнули в нее самостоятельную жизнь. Характерное легкое, до пяти сантиметров, утолщение дорической колонны на одной трети высоты снизу, энтазис, и следующее за ним легкое сужение давали и дают зрительное ощущение пульса, мышечного напряжения «тела» под давлением несомой им на «голове» (капители) тяжести – антаблемента и крыши. Вертикальные желобки, покрывавшие ее сверху донизу, каннелюры, подчеркивали вертикаль и одновременно напоминали складки одежды (вспомним «Дельфийского возничего»).
Колонна воспринималась как метафора человека, а использование монументальных кор и куросов, то есть кариатид и атлантов, вместо колонн, например, в афинском храме Эрехтейон и в Сокровищнице сифносцев в Дельфах, показывает, что скульптор и архитектор сближали тело и колонну даже функционально. Эта «статность» храма прививала свободному гражданину полиса чувство собственного достоинства, а не страх перед божествами или обожествляемой властью. И в этом «внутреннем воздействии на зрителей средствами чисто архитектурно-художественной композиции», как всерьез писал в свое время Николай Брунов, – «значение периптера в классовой борьбе»[276]276
Брунов Н.И. Указ. соч. Т. 2. С. 100.
[Закрыть]. Добавим к этой несколько старомодно звучащей, но совсем не бессмысленной фразе, что конкретно Парфенон в неменьшей степени был еще и манифестом мощи Ахейского союза, на деньги которого этот памятник победе и был возведен.
Нужно понимать, что стена (не важно, фасадная или иная) и колоннада выполняют разные архитектурные задачи. Колоннада превращает постройку в памятник, придает ей достоинство, стена делает открытую площадку надежным укрытием. Но они соединились – ведь уже древним стало ясно, что колонна может сочетаться со стенами и проемами. Колонна может встать непосредственно перед стеной, но самостоятельно, например, сформировав портик или галерею, может «окрылить» целлу храма и сделать его периптером, как в Парфеноне[277]277
Периптер значит буквально «с крыльями вокруг» или попросту «оперение», потому что колонны стоят по всему его периметру.
[Закрыть]. Без этой целлы не было бы храма. В гигантском храме Зевса в Акрагасе (нынешний Агридженто) на Сицилии промежутки между внешними колоннами, интерколумнии, были заложены и в монументальные ниши были выставлены статуи атлантов. Они помогали дорическим колоннам нести антаблемент, высота которого равнялась их росту. Можно было, наконец, сделать периптер не прямоугольным, а круглым, как в Эпидавре (IV в. до н. э.).
Открыв для себя к концу VII века до н. э. периптер, греки постепенно, к V веку, научились формировать образ храма из нескольких основных составляющих: учитывались пропорции колонн, их ритм, положение по отношению друг к другу и к стене целлы, пластическое убранство, цвет и расположение по отношению к природному или рукотворному ландшафту. Вариации здесь едва ли не равнялись количеству памятников – они только на первый взгляд кажутся одинаковыми. «Генетически» периптер возводят к мегаронам микенской цивилизации и храмам-дворцам Крита, то есть ко II тысячелетию до н. э. Но классический греческий храм – отдельно стоящая постройка и эту свою автономию всячески подчеркивает, в том числе в рамках ансамбля, как на афинском Акрополе, в Олимпии или в Пестуме (Великая Греция, современная Кампания). Его ступенчатый постамент, креп дома, делившаяся на стереобат внизу и стилобат вверху, формально лишь выравнивала площадку под зданием, но заодно служила для него такой же «рамой», какой служил для статуи пьедестал. Храм не может просто стоять на дороге, площади или холме, как не может «встать» где угодно статуя Зевса. Любой из нас, видевший более или менее сохранный античный храм, знает, как хорошо он вписывается в окружающий ландшафт, тем не менее никогда в нем не теряясь (илл. 91).

91. Дорический храм в Сегесте. 420-е годы до н. э. Сицилия
Важно понимать, что вся каменная конструкция, от стереобата до кровли и акротериев по ее углам, работала на создание этого парадоксального эффекта включенности и исключительности. Рукотворность храма – манифест, но он не бросает вызова ни окружающему миру, ни божеству, а пытается организовать пространство вокруг себя. В этом – залог его специфической органичности. Чего никак не скажешь, например, о египетском храмовом комплексе в Дейр-эль-Бахри: при всей масштабности усыпальница царицы Хатшепсут (1478–1458 гг. до н. э.) полностью подчинена окружающим скалам – границе с Сахарой. И он, и пирамиды рассчитаны на осмотр издалека, с почтительного расстояния. Даже если приближение к ним возможно, зодчие, конечно, создавали архитектурный образ в масштабах природы, земли и неба, а не отдельного человека, стоящего здесь и сейчас. Небольшой по сравнению с пирамидами Парфенон (73 × 34 × 21 м), стоящий на вершине скалы, тоже виден издалека, как светящийся на солнце параллелепипед. В полной же мере он раскрывается с одной конкретной точки – когда, пройдя через врата, Пропилеи (437–432 гг. до н. э.), оказываешься на площади, на среднем расстоянии, и смотришь на Парфенон от угла. Именно в этот момент зрителю передается ощущение соразмерности каждой детали и целого ему самому. Пульсации колонны вторит пульсация всех основных горизонталей. В Парфеноне, как и в других греческих храмах, этот эффект достигается легким, на первый взгляд незаметным параболическим изгибом горизонталей: греки знали, что природа избегает прямых линий, включая и линию горизонта. Кроме того, наклон поверхности позволял отводить дождевую воду от целлы и прибавлял постройке упругости на случай землетрясения. Вместе с тем, когда стоишь непосредственно перед полуметровыми ступенями креп домы, слишком высокими для нашего шага, ощущение соразмерности постройки человеку немного скрадывается. Что, видимо, тоже неслучайно, ведь это все же жилище богини, и пространство рядом с целлой священно, оно не рассчитывалось для прогулок.
При всей видимой простоте конструкции греческий храм воплотил множество технических и художественных находок, из которых я упомянул лишь несколько. Все вместе они сложились в то, что по сей день принято называть то тектоникой, то архитектоникой. Эти слова греческого происхождения и в древности обозначали примерно то же, что сегодня производное от них слово «архитектура», в какой-то степени – и наше «зодчество». В них – память о деревянных истоках мастерства зодчего, о плотнике, tékton, работавшем пилой и топором над брусом и доской. Сегодня под тектоникой, например, периптера следует понимать желание в художественной форме, зримо и понятно, выразить конструкцию здания, соотношение частей, складывающихся в целое. Нетрудно – без всякой подсказки – зрительно разделить храм натрое, откуда на него ни смотри: постамент, колоннада, антаблемент. Но и простая стена состоит из аккуратно отесанных и безукоризненно подогнанных друг к другу каменных квадров, каждый из которых виден глазу. Одни гладко отполированы, у других полировали только тонкую рамку на стыке, сохраняя шероховатую поверхность, привлекавшую, видимо, своей естественностью, связью с природой. Одновременно с этим колонна, каннелированная и строящаяся из барабанов, воспринималась как individuum, то есть неделимая частица. Наконец, яркие простые цвета некогда выделяли всю орнаментальную резьбу и многофигурные композиции фронтонов и фризов. Читаемость всех этих членений, не мешающая цельности постройки, и есть греческая тектоника. В ее основе – особое мышление грека, одновременно человеческое, антропоцентрическое, и тектоническое, конструктивное.
Непосредственно связаны с тектоникой и антропоморфностью периптера его пропорциональность и единство масштаба всех его составляющих. Конечно, пропорциональность свойственна любой постройке, претендующей на какой-либо статус – культурный, политический, религиозный. Однако в греческом храме она зрима особым образом: его прямоугольник повторяется в нем повсюду, от квадра в кладке до общего силуэта. Это повторение придает постройке своеобразную самодостаточность. Но это вовсе не значит, что периптер – конструктор из абсолютно точных фигур, плоских или объемных, пересечение плоскостей под строго прямыми углами. Дело не только в том, что всё в нем подчиняется геометрии и математике, в которых греки, как известно, многого добились. Я уже говорил об остроте их зрения, и они так же хорошо знали, что наша бинокулярная оптика предполагает целый ряд аберраций и иллюзий. Поэтому, разрабатывая идеальную форму храма, греки учли этот оптический опыт. Например, угловые колонны стоят теснее, потому что на ярком солнце, на просвет, они выглядят тоньше (мрамор вообще немного просвечивает, даже если это не сразу замечаешь). Все колонны иногда слегка наклоняют к целле, чтобы не казалось, что они нависают над зрителем. Подобные искажения не объяснишь ни золотым сечением, ни «рациональностью», ни принципом читаемости конструкции. Это – совершенно уникальный сплав свободной от религии науки, развитой технологии и тончайшей визуальной чувствительности. То есть, по сути, тот же сплав, который породил и греческую пластику.
Греки V века лучшие художественные силы направляли на создание храмов, жилья для богов, но не для людей, хотя зодчество не ограничивалось сферой сакрального. Между тем об их гражданской архитектуре, в целом, видимо, довольно скромной и консервативной, мы знаем относительно немного, за исключением разве что зданий театров, но те попросту встраивались в холм и открывались горизонту. Поэтому иногда утверждается, что применять колонну и ордер в масштабных светских проектах научились только римляне[278]278
Zevi Br. Saper vedere l’architettura… P. 55–56.
[Закрыть]. Это во многом верно, но нужно понимать, что Рим, во-первых, наследовал завоеванным эллинистическим царствам, во-вторых, мог рассчитывать на значительные финансы и почти бесчисленную рабскую силу, грекам доступную в намного меньших масштабах.
На самом деле, «плененная Греция», пленившая, как мы знаем от Горация, римских завоевателей, представляла собой не перикловы Афины, а совершенно иной мир. Александрия, Антиохия, Пергам и другие величественные эллинистические города распространили так называемую Гипподамову систему, зародившуюся в V столетии, в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Города, основанные или перестроенные наследниками Александра, диадохами, представляли собой регулярные сетки улиц, деливших пространство на одинаковые блоки и пересекавшихся под прямым углом. Храмы IV–III веков до н. э. зачастую в два раза больше Парфенона. Таков, например, частично сохранившийся храм Аполлона в Дидиме, окруженный двойным рядом колонн гигантский диптер, впрочем, оставшийся недостроенным даже при римлянах.
С подобными храмами соседствовали не снившиеся ни Периклу, ни спартанским царям дворцовые комплексы и парки. Полы стали покрывать не только плитами и вмурованной в раствор галькой, но и рисунком из плоских тессер – цветных камушков и стекла, дробленных до нескольких миллиметров в сечении. Так в Средиземноморье распространилась всем нам знакомая мозаика, изобретенная шумерами, но ставшая настоящим фактором развития искусства именно в греко-римской античности[279]279
Один из древнейших памятников этой технике – так называемый штандарт со сценами войны и мира из шумерского города Ур, созданный около 2600 года до н. э. и хранящийся в Британском музее. Наиболее сохранный образец ее применения в масштабах дворца – вилла Казале неподалеку от города Пьяцца-Армерина на Сицилии, принадлежавшая в начале IV века, видимо, какому-то очень высокопоставленному чиновнику эпохи Константина I.
[Закрыть]. Портики выстраивались по периметрам площадей и улиц, а двухэтажные колоннады украшали фасады довольно значительных построек; заметим – именно фасады. Достаточно пройтись по Болонье, чтобы понять, что именно портик может дать улице и городу. Но и фасад, то есть появление у постройки лица, – тоже явление историческое. К I веку до н. э. распространились арочные ворота, так хорошо знакомые нам по римским триумфальным аркам.
Вслед за принципом арки, обладавшей выдающимися статическими характеристиками, в IV–III столетиях до н. э. с Ближнего Востока пришел свод, использовавшийся сначала в подземных царских гробницах, например, в македонской Вергине, затем и в наземных постройках. Греки научились перекрывать им помещения до семи метров в ширину. В 156 году до н. э. в Приене арочный портик украсил агору. Может быть, еще важнее то, что в рамках эллинизма нашли себе место и барокко, и рококо, и неоклассицизм, а также экзотика, гротеск, живописный иллюзионизм и реализм[280]280
Pollitt J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge, 1986; Stewart A. Hellenistic Art… P. 158–185.
[Закрыть]. Если в скульптуре барокко проявилось в Пергаме, то в архитектуре – в Александрии и, вслед за ней, в скальном погребальном комплексе Петры в нынешней Иордании. Унаследованные от классики элементы архитектурной грамматики стали использоваться не на классический лад – словно для того, чтобы, подобно риторике, разбередить душу (греч. psychagogía). Аканф в основании колонны, коринфские капители с S-образными мотивами, карнизы с изогнутыми кронштейнами – модильонами, изогнутые антаблементы, разомкнутые фронтоны и фасады, вся эта чехарда неожиданных для классического глаза пустот и выступов, проемов и гнутых плоскостей нашла ценителей среди греков на негреческих берегах, прежде чем завоевать сердца римлян.
* * *
Вся эта роскошь и театральность соединили в себе опыт греков с опытом Египта, стран Плодородного полумесяца и Месопотамии. Завоевав этот мир, впитав его в себя, вырос Рим императоров – многоэтажный, златоверхий, облаченный в мрамор. И многоэтажная арочная конструкция заполучила ордер в качестве внешнего оформления. Самый ранний дошедший до нас его пример мы можем видеть на фасаде государственного архива Римской республики – Табулария на Римском форуме 78 года до н. э. Отчасти потеряв архитектоническую логику несения строгой вертикалью (колонной) строгой горизонтали (антаблемента), ордер стал неотъемлемой частью фасада, то есть стены и проемов (не стоит спешить называть любые проемы окнами). Но масштабные римские постройки – это своды и арки, а не только горизонталь и вертикаль, пересекающиеся под прямым углом. Поэтому фасад, как бы иллюстрируя внутреннее содержание постройки, создавался из фланкированных полуколоннами арок. Эта элементарная ячейка прижилась навсегда, а в Риме полюбилась настолько, что воплотилась и в самостоятельной монументальной форме – триумфальной арке[281]281
Уцелело около 500 римских арок различной степени сохранности (Поплавский В.С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима: дис. … д-ра искусствоведения. М., 2000. С. 161).
[Закрыть].
Сохранные участки амфитеатра Флавиев (72–80 гг. н. э.) прекрасно демонстрируют, как именно и зачем здесь соединили, казалось бы, несоединимое: прямой угол греков и строгий полукруг, полюбившийся римлянам. Полуколонны фланкируют все проемы, придавая цирку авторитет храма. А чтобы подчеркнуть следование логике древних и принципам Витрувия, ордеры «облегчаются» с каждым этажом: дорический на первом, ионический на втором, коринфский на третьем. А четвертый, надстроенный во II веке, дополнительный пояс – его с трудом назовешь этажом – членится пилястрами, оригинальным ордером, который можно с некоторой натяжкой считать композитным. Если приглядеться и к целому, и к каждой ячейке, к каждому вертикальному и горизонтальному членению, понимаешь, что соотношения толщины и высоты колонны, архитрава арки, расстояния между вершинами арок и карнизами и т. д. – абсолютно все высоты, широты и глубины – подчиняются четкому числовому расчету, ratio. Ничего лишнего, ничего неуместного. Ни кирпича, ни квадра, ни колонки не вынуть и не переместить, не поставив под угрозу целостность организма и органичность целого[282]282
Впрочем, уже греки предъявляли к произведению требование: ничего нельзя было добавить к нему или отнять от него, не испортив при этом, «ибо то, присутствие или отсутствие чего незаметно, не есть часть целого» (Аристотель. Поэтика. 1451а / пер. М.Л. Гаспарова // Его же. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 655. (Философское наследие)).
[Закрыть]. И главное, этому искусству гармонизации частей и целого Колизей, благодаря размеру и своему местоположению, учил десятки поколений архитекторов. Альберти же в середине XV века зафиксировал этот опыт в формуле nihil addi, «ничего не добавить»[283]283
«Красота есть строгая соразмерная гармония всех частей, объединяемых тем, чему они принадлежат, – такая, что ни прибавить, ни убавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже» (Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. III, 2. Т. 1: Текст. М., 1935. С. 178). Этот принцип важен для всей эстетики Альберти и встречается в разных его сочинениях. В письме своему коллеге Маттео де Пасти он писал в 1454 году, комментируя собственную постройку, так называемый храм Малатеста в Римини: «…Если ты что-то изменишь, это расстроит всю эту музыку», «si discorda tutta quella musica» (Alberti L.B. Opere volgari: in 3 vol. / a cura di C. Grayson. Vol. 3. Bari, 1973. P. 292).
[Закрыть].
И все же из облачения стен в ордер римляне не сделали всех возможных выводов. В Новое время колонна может на четверть войти в стену, может войти наполовину, а может превратиться в квадратный в сечении пилястр. Этот пилястр изображает колонну, ею не являясь, он – рельеф на стене, который членит ее плоскость, навязывает ей раму и ритм и одновременно, как ребро, может быть задействован в несении сводов. Этот принцип сохранялся и в средневековой архитектуре, даже если от ордера в строгом смысле слова она отказалась. Степень же свободы расположения колонны по отношению к стене тоже стала выразительным средством, которым можно было оперировать при создании образа. Например, в парижской (изначально монастырской) церкви Валь-де-Грас в 1640-е годы Франсуа Мансар, словно щеголяя этим знанием, использовал все четыре приема на одном фасаде (илл. 92). Столь же мастерски его последователь Василий Баженов выстраивает целый мир из соразмерных друг другу, но очень прихотливо, по-разному расставленных колонн в своем самом масштабном неосуществленном проекте 1770-х годов – Московском Кремле, известном по великолепному макету из дерева и пробки, представленному когда-то на суд императрицы Екатерины II.

92. Западный фасад церкви Нотр-Дам-дю-Вальде-Грас. Архитектор Франсуа Мансар. 1640-е годы. Париж
Колонны выстраиваются в ряды, но не менее, чем их ордер, важен их ритм: уже Витрувий придавал отдельное значение интерколумниям, то есть промежуткам между колоннами. Он выделил шесть типов интерколумниев, соотнося их с толщиной колонны[284]284
Витрувий. Указ. соч. III, III. С. 64–67.
[Закрыть]. Каждый тип навязывал постройке ритм, понятный психосоматически, то есть душой и телом одновременно, потому что колонну классический глаз соотносил с человеческой фигурой. Следовательно, интерколумний воспринимался либо в шагах, либо в музыкальном ритме, создавал настроение. Например, диастиль (три диаметра) настраивал на спокойный лад, суровый «шаг» колонн Парфенона скорее напоминал маршировку гоплитов, говорил о прошедшей войне. Широкий, максимальный интерколумний внутреннего дворика какой-нибудь помпеянской виллы – перистиля – приглашал отдохнуть, зайти внутрь помещений, скрывающихся за стенами, снова вернуться к фонтанчику под открытое небо. В перистиле, распространившемся в эпоху эллинизма, акцент ставился уже явно не на колонне, тонкой и в целом не выразительной, а на проемах: вместе с полом и легким антаблементом они формируют раму под фигуру человека, окружают пространство его жизнедеятельности, будь то частный дворик, гимнасий, палестра или даже рынок. Наконец, сложные сочетания пар или пучков колонн, полуколонн, пилястров, их строго выверенная и просчитанная иерархия, например, на фасаде эпохи маньеризма или барокко вроде бы сбивают с этих четких ритмов, взламывают порядок – но вновь лишь затем, чтобы из этого беспорядка выстроить новый порядок. И грамматика этой латыни остается прежней.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































