Текст книги "16 эссе об истории искусства"
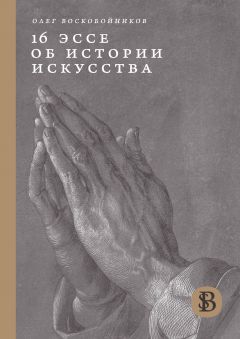
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)

106. Площадь Согласия в Париже. Гравюра Дж. Садлера по рисунку Т. Аллома. До 1870 года
Теоретики времен Старого режима – аббат Ложье, Пьер Патт и другие – провозгласили носившиеся в воздухе идеи на языке зодчества, указав на то, что город может и должен быть объектом архитектурного воздействия, лицом правителей, памятником для потомков. Площадь тоже стали трактовать не как проекцию дворца или храма, а как важное звено в городской сетке. Отныне она представляла весь город, превращалась в средоточие и носителя его архитектурной идеи. Частично сохраняя унаследованное от предшествующих эпох представление о площади как преддверии дворца, классицизм XVIII века по-настоящему открыл ее городу, разомкнул физические границы ее архитектурных масс. И тогда именно площадь получила возможность связывать между собой не только втекающие в нее улицы, но и отдаленные точки города. Архитектура начала усваивать теорию и практику «интегрального ансамбля», стала оперировать архитектурными ориентирами и градостроительными доминантами.
Сегодня в этом нетрудно убедиться любому посетителю мегаполиса, в особенности способному анализировать полноценную современную карту, а не только доверять GPS. Для историка не менее информативны и первые градостроительные планы европейских столиц XVIII–XIX веков. Например, барон Осман опирался на чертежи градостроительной Комиссии художников, созданной революционным Конвентом в 1793 году. В России рациональное планирование ввел Петр I, о чем свидетельствует не только исторический центр Санкт-Петербурга, но и дошедшие до нас первые планы Доме́нико Трезини и Жана-Батиста Леблона (1716). Уже через двадцать лет Петр Еропкин отошел от замыслов тех лет и предложил выстраивать город на левом берегу Невы, взяв за основу будущие Гороховую улицу, Невский и Вознесенский проспекты. Эти три абсолютно прямых луча, исходившие от Адмиралтейства, рассекали город, самой своей прямизной вступая в спор с дугами Мойки, Фонтанки и Кривуши – будущего Екатерининского канала (с 1923 года – канала Грибоедова). Все это Петр I в юности видел в Амстердаме. Еропкин и его заказчики вдохновлялись не только милой сердцу первого императора Голландией, но и трехлучием Рима: улицы Корсо, Рипетта и Бабуино исходили из площади дель Пополо, объединяя хаотичную средневековую застройку, делая город и более управляемым, и более удобным для проезда, и более парадным, достойным понтификов. Это градостроительное изобретение эпохи Возрождения получило новую жизнь в столице Российской империи. Екатерина II с середины 1760-х годов в полной мере воспользовалась этими новшествами при проведении губернской реформы и соответствующих градостроительных работ в губернских и уездных городах, а наследники русского престола продолжили ее дело.
Вернемся в Париж эпохи абсолютизма. Сегодня, оказавшись на площади Согласия, в сердце столицы, подумаешь в первую очередь о «просторе», «размахе», «воздушности», «легкости», «открытости», даже, пожалуй, о стихиях и природе – воде Сены, парке, отделяющем площадь от Елисейских Полей, и, конечно, о небе над головой. Все это не поэтические метафоры, а градостроительная реальность. Застройка Парижа такая плотная, что небо над головой – редкость. Здесь же мы – на первой в истории Европы площади, ограниченной постройками лишь с одной, северной (т. е. наименее освещенной) стороны. Площадь, спроектированная в 1750-е годы первым королевским архитектором Анж-Жаком Габриэлем, прямоугольная, и тем она верна традиции классицизма с его культом регулярности. Ее новизна – в том, что лишь два одинаковых строгих фасада указывают на то, что это городская площадь, все остальное здесь – открытое пространство, математически точно рассчитанные линии балюстрад и дорожек, продолжающиеся улицами, гладью Сены на юге и садами на востоке и западе. Все оси пересекались в центре, где возвышался конный памятник королю, естественно, снесенный революционерами и позднее замененный египетским обелиском. На границах, словно часовые, стоят караульни с поставленными на них аллегорическими статуями.
По бокам от Елисейских Полей в площадь вливаются еще два луча – вместе они словно приглашают в королевскую резиденцию, следуя принципу, испробованному в Версале вслед за Римом. Габриэлевская площадь еще и «набережная», что придает ей особый размах и особую прелесть, но и особую функцию в пространстве города. В 1750 году пустырь, пусть и принадлежавший короне, был на отшибе и граничил с предместьем Сент-Оноре. Накануне Революции площадь уже была «средостением», зрительно соединившим чуть ли не весь Париж. Церковь Мадлен (1808–1842), отстоящая от нее на сто семьдесят пять метров, фактически включена в ее ансамбль благодаря хорошо продуманным масштабам Королевской улицы, входящей в площадь между обоими дворцами. Портик Бурбонского дворца (1722–1728) на другом берегу Сены – на таком же расстоянии от площади. Даже величественный купол Дома инвалидов (1708) и массив Лувра стали для нее зрительно близким довершением, монументальной рамой. Синтезируя десятки поданных на конкурс проектов, талантливый архитектор проявил и должный прагматизм (не пришлось выкупать жилые кварталы), и дальновидность: появление в последующие эпохи таких новых архитектурных ансамблей, как площадь Звезды (ныне – Шарля де Голля) и, с 1960-х годов, высокоэтажный пригород Дефанс, не изменило градостроительной функции площади Согласия, остающейся и памятником своей эпохи, и катализатором органичного развития современного мегаполиса.
Приписать одному, пусть и значительному, мастеру изобретение принципов современной урбанистики нельзя. Кроме того, открытость площади, ее включение в цепочку площадей и широких улиц – лишь одно из возможных решений, использованное, например, при реконструкции центра Москвы в 1920–1930-е годы. Напротив, ее замкнутость, обусловленная многовековым опытом Европы, вполне считалась нормой и в эпоху градостроительного бума – во второй половине XIX века[324]324
Зитте К. Художественные основы градостроительства / пер. Я. Крастиньша. М., 1993. С. 75–84. Историк градостроительства Альберт Бринкман считал «чувство пространства» проекцией присущего человеку ощущения собственного тела и предлагал изучать исторически зафиксированные фазы развития этих «чувств» (Бринкман А. Площадь и монумент как проблема художественной формы / пер. И. Хвойника. М., 1935. С. 151).
[Закрыть].
Читая властителей архитектурных дум XX века масштаба Ле Корбюзье или Райта, понимаешь, что «лучистый город» первого и «исчезающий город» второго впитали в себя и переосмыслили опыт тысячелетий[325]325
Райт Ф.Л. Исчезающий город / пер. А. Смирновой. М., 2016. (Strelka Press. Малая серия).
[Закрыть]. Эстетический рационализм римлян, ярко проявившийся в повторяющихся, но все же не всегда шаблонных формах их городов, был зафиксирован как в памятниках, так и в «Десяти книгах об архитектуре» Витрувия. Его читали и в Средние века, но в эпоху Возрождения он стал катализатором систематической архитектурной и градостроительной мысли, Средневековью неизвестной. Многие крупные зодчие XV–XVI веков сочетали практику с преподаванием и теоретизированием. Например, Франческо ди Джорджо в 1480–1490-е годы написал несколько трактатов. Будучи одновременно практикующими художниками и зодчими, последователи Витрувия и Альберти умели выстроить на глазах у зрителя регулярную площадь между портиком и берегом моря. Такие образы идеального города, ведуты, находили отклик у знати масштаба Федерико да Монтефельтро в Урбино и Медичи во Флоренции. Они писались для прославления власти и читались как аллегории доброго правления: солнечная ясность устройства города отражала гармонию политического космоса (илл. 107).

107. Франческо ди Джорджо Мартини (?). Идеальный город. 1490–1500 годы. Берлин. Картинная галерея Музеев императора Фридриха
Создатели наших парадных столичных фасадов, творцы комфортного тоталитаризма 1930-х годов, вдохновлялись теми же принципами. Это ярко проявилось в Северном речном вокзале (илл. 108). Относительная удаленность от города, а заодно и идеологическая важность проекта позволили Алексею Рухлядеву и Владимиру Кринскому, что называется, развернуться. Здесь роскошное основное здание – главный аккорд в целой глубоко продуманной симфонии прирученных стихий – неба над головой, широкой водной глади канала Москва – Волга, облагороженного беседками и дорожками леса на другом берегу и парка, ведущего к вокзалу от Ленинградского шоссе. Комплекс рассчитан на обзор с воды, например, с верхней палубы круизного судна. Но и при взгляде с набережной он производит очень сильное впечатление. Главное здание – удивительно легкая постройка, целое «полчище колонн», как выразился главный архитектор канала Москва – Волга Иосиф Фридлянд, свояк Ягоды, расстрелянный в 1937 году. Сто пятьдесят квадратных опор и еще больше круглых колонн заставляют здание фактически парить над водой, задают ему ритм, вторящий своей неторопливостью движению судна. Здесь нет никакого намека на власть, на культ личности и вообще на то, что творилось в стране, взявшейся за поворот рек. Возникающее от созерцания такой архитектуры впечатление предельной солнечной ясности сродни чувству радости, которое вызовет у зрителя «Новая Москва» Юрия Пименова (1937).

108. Северный речной вокзал. Архитекторы А.М. Рухлядев, В.Ф. Кринский. 1932–1937 годы. Москва
Перед нами – жизнерадостный ренессансный loggiato, галерея, излучающая эту свою радость на реку, на проходящие суда, на поднимающихся пассажиров, на противоположный берег, тогда свободный от нудной жилой застройки. Сотни посетителей (имевшие на то средства) могли насладиться едой в летнем кафе с расставленными на просторных верандах столиками, прогуляться по крыше или в портике. Сходившего с борта теплохода приезжего встречал триумфальный трехпролетный портал, облицованный диоритом и украшенный майоликовыми медальонами Натальи Данько. Они прославляли новый советский быт и технические достижения страны: танки соседствуют с дирижаблями, ГЭС, спортсменами и, конечно, с главной архитектурной утопией того времени – гигантским дворцом, который должен был быть видимым отсюда, с водной заставы. Настоящий иконостас страны Советов выложен на «тарелках», достойных Гаргантюа, но, заметим, без намека на культ личности генсека. Здесь представлен культ гигантской страны и ее коллективных побед. Бронзовые дельфины в южной полуциркульной колоннаде отвечали за южные моря, белые медведи с гусями – за Северный Ледовитый океан. Звезда на шпиле, выдвигавшемся во время навигации на высоту башен Кремля, безусловно перекликалась с основными доминантами центра столицы и, конечно, с будущим Дворцом Советов.
Учитывая, какие силы и средства вкладывались в такие постройки, какие человеческие жертвы приносились ради них по всей Центральной России (например, при строительстве Рыбинской ГЭС), становится ясно, что Москву Сталин и его окружение воспринимали с воды. Точнее, с вод, которые он (а кто еще?) собственноручно подвел к столице, подняв их уровень в черте города в среднем на три-четыре метра. Это было принципиально для всего облика Москвы, о чем говорит и архитектура шлюзов, из которых самый красивый – на Яузе, и преувеличенный масштаб выходивших на воду фасадов. Но залог успеха – не только в чьих-то притязаниях на власть над людьми и природой, но и в новом синтезе искусств, о котором всерьез рассуждали в 1920–1930-е годы советские художники и искусствоведы. Этот синтез мог воплотиться и в такой, казалось бы, незначительной постройке, как шлюз, причем без какого-либо диктата[326]326
Шлюз на Яузе – прекрасный образец сотрудничества архитектора Г.П. Гольца, художника М.Ф. Оленева и скульптора И.А. Рабиновича. Шлюз, по идее, должен был встречать прогулочные суда, если бы Яуза стала судоходной. Это объясняет его праздничность, навеянную как греческими, так и помпеянскими мотивами. К тому же Гольц был и незаурядным театральным художником-декоратором (Броновицкая Н.Н. Указ. соч. С. 279–283).
[Закрыть]. Но синтез предполагал, естественно, тот масштабный взгляд (одновременно сфокусированный на детали и панорамный), который и занимает нас в данный момент.
Однако вернемся к ренессансным истокам описанного выше эпизода. Почему утопический, казалось бы, «идеальный город» оказался столь живучим и влиятельным? Потому что дело не только в проекции власти, не важно чьей. Франческо ди Джорджо умел строить вполне реальные крепости. Но он же, следуя всерьез гуманистическому принципу «человек – мера всех вещей», с видимой легкостью вписывал человеческую фигуру и в фасад античного храма, и в план христианской базилики, и в «тело» города. Еще дальше шел его современник Антонио Аверлино по прозвищу Филарете: он анализировал и описывал постройки примерно так, как медик рассуждал об организме человека[327]327
Филарете (Антонио Аверлино). Трактат об архитектуре / пер. В.Л. Глазычева. М., 1999.
[Закрыть].
Можно, конечно, прописать такой ход мысли по части органологической метафорики: аналогическое мышление способно сравнить что угодно с чем угодно. Христианский храм столетиями вызывал ассоциации с образом человека, в какой-то степени он даже был «похож» на Бога, присутствие которого призван был символизировать. С XII века государство описывали как тело, а тело – как отношения власти и подчинения между различными его органами и членами, которые периодически бунтовали и примирялись[328]328
Воскобойников О.С. Casus belli, или Без царя в голове. Анонимная поэма «Чрево» и поэтика тела в XII–XIII вв. // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2019. С. 319–337; Voskoboynikov O. L’éloquence du corps // Le Moyen Âge et les sciences (XIIIe—XVe siècle) / textes réunis par D. Jacquart, A. Paravicini Bagliani. Firenze, 2021. P. 136–138. (Micrologus Library).
[Закрыть]. Королю приписывали два тела – физическое и политическое – и действовали, сообразуясь с этой довольно странной на первый взгляд идеей. Можно также резонно сослаться на чисто ренессансную верность древнему авторитету – Витрувию, который ни с того ни с сего посреди трактата сделал человека мерой архитектуры по принципу квадратуры круга[329]329
Витрувий. Указ. соч. III, I. С. 61.
[Закрыть]. Леонардо воплотил этого «Витрувианского человека» в знаменитом рисунке и сопроводил его выжимками из витрувиевского трактата, который он, не знавший латыни, читал и обдумывал вместе с Франческо ди Джорджо около 1490 года: обоих пригласили в Павию высказаться по поводу только что заложенного собора[330]330
Название «Витрувианский человек» приписано этому рисунку в XIX столетии и немного сбивает с толку. Леонардо не был гуманистом в прямом смысле, не делал культа из древних текстов и из Античности в целом. Так и здесь, судя по тексту, он спорит с Витрувием на основании собственных анатомических наблюдений. У Франческо ди Джорджо есть похожий рисунок, но именно леонардовский шедевр оказал сильнейшее влияние на художников XIX–XX веков (Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. С. 481; Lugli E. In cerca della perfezione: nuovi elementi per l’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci // Leonardo e Vitruvio: oltre il cerchio e il quadrato / a cura di Fr. Borgo. Venezia, 2019. P. 69–91).
[Закрыть]. Микеланджело, анатомию знавший почти так же хорошо, как Леонардо, но успевший построить больше того, выражал связь архитектуры и нагого тела одним простым словом: dipendenza, условно говоря, – «зависимость».
Классицисты всех последующих столетий относились к метафорике и к авторитетам всерьез. Для них именно соизмеримость всех элементов конкретной постройки с человеческим телом и была залогом ее достоинства. Сохранился рисунок Бернини, на котором его знаменитая колоннада римской площади Св. Петра действительно изображена как раскрытые руки. «Тело человека, – писал в 1660-е годы архитектор и критик Андре Фелибьен, – по-моему, может послужить зодчему наилучшим образцом, чтобы убедиться в том, что все внутренние органы расположены в нем в замечательном порядке и с мудрой предусмотрительностью, что все они взаимосвязаны, следуя логике их функций, ибо нет здесь ни одного благородного органа, ни одной кости, вены или жилы, которая не покоилась бы на самом разумном основании»[331]331
Félibien A. Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes: avec la vie des architectes. Farnborough, 1967. P. 68–69.
[Закрыть].
Проблема, однако, в том, что подобное теоретизирование, даже воплощаясь в конкретных архитектурных проектах, даже формируя великие стили, редко обретало масштаб целого города. Папа Пий II, могущественный гуманист середины XV столетия, сумел частично воплотить идеи Альберти и других своих современников в удивительно гармоничной центральной площади родной деревни Корсиньяно неподалеку от Сиены, заодно переименовав ее в Пьенцу. Альберти, один из самых разносторонних талантов своего времени, тоже искусно встраивал свои палаццо в сетку улиц и площадей, умел выделить их на фоне других построек, подчеркнуть и достоинство семьи заказчика, и его, заказчика, гражданскую открытость своему городу (отсюда и новый – регулярный, с крупными оконными проемами и порталом – фасад). Но Альберти знал также, что по-настоящему развернуться зодчий может лишь в загородной вилле, на просторе, а не на отмеренном ему участке среди уже существующей застройки[332]332
Виллу Альберти описывает в книгах V и IX своего трактата. См. также: Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти. СПб., 2001. C. 323–325.
[Закрыть].
Учитывая массу привходящих факторов, высоколобое теоретизирование нередко заканчивалось либо утопическим прожектерством, либо долгостроем. Франческо ди Джорджо писал для просвещенного герцога Урбино Федерико да Монтефельтро. Это отчасти объясняет предложенный им идеал: на возвышении, то есть на голове, – резиденция государя, на животе – главная площадь, на нее выходит собор, стоящий на груди, периметр стен охватывает конечности с четырьмя сторожевыми башнями – на локтях и на ступнях. Другие, как Филарете, мечтали о центрических фигурах вроде круга, квадрата или многоугольника. В своем «Трактате об архитектуре» (1460–1464), посвященном миланскому герцогу Франческо Сфорца, Филарете впервые описал и нарисовал круглый город, защищенный стеной в виде восьмиконечной звезды, – Сфорцинду. Такие мечтания даже несколько раз воплощались в крупных военных проектах вроде венецианского города-крепости Пальманова во Фриули (1593) по проекту Винченцо Скамоцци и Нёф-Бризака в Эльзасе (илл. 109), выстроенного великим военным инженером Себастьяном де Вобаном (1698). Генетически с ними связан и план Санкт-Петербурга 1716 года, в котором Леблон предполагал обнести весь город стеной геометрически правильной овальной формы.

109. Вид на город Нёф-Бризак с высоты птичьего полета. 2003 год. Эльзас
Но все же неосуществленных градостроительных идей Ренессанс знает намного больше, чем осуществленных. И то же отчасти относится к Новому и Новейшему времени. Замечательный классицист XVIII века Клод-Николя Леду построил относительно немного, но оставил вдохновенные проекты, в том числе целого города – Шо. Ле Корбюзье, Райта, Миса ван дер Роэ или Гропиуса мы ценим соответственно за виллу Савуа[333]333
Распространена неправильная транскрипция – вилла Савой. Заказчика звали Пьер Савуа, отсюда и название.
[Закрыть] (1931), за Дом над водопадом (1936–1939), за павильон Германии в Барселоне (1929) или за Баухаус в Дессау (1932). Но ни один из этих новаторов и по-настоящему крупных мыслителей не выстроил города и (за исключением, пожалуй, комплекса в индийском Чандигархе Ле Корбюзье) даже не воплотил лично в урбанистическом масштабе свои идеи – те самые, на которых сегодня учатся урбанисты и архитекторы. В конце концов, утопическое мышление и архитектура, как ни парадоксально, немыслимы друг без друга: Ле Корбюзье создал архетип архитектурных утопий «машинного века», заложил основу идеологии «современного движения» в архитектуре[334]334
Иконников А.В. Утопическое мышление и архитектура: Социальные, мировоззренческие и идеологические тенденции в развитии архитектуры. М., 2004. С. 251. (Специальность «Архитектура»). О связи утопического прожектерства и манхэттенского небоскреба отлично писал Рем Колхас: Колхас Р. Указ. соч. С. 84–140.
[Закрыть]. Кажется, только последователям этого швейцарского модерниста, бразильцам Оскару Нимейеру, Роберту Бурле Марксу и Лусио Косте, посчастливилось выстроить «мечту», Бразилиа – город в виде гигантской летящей птицы, новую столицу для огромной страны. Повезло и Александру Таманяну: начиная с 1920 года он посвятил остаток дней возведению нового Еревана и действительно превратил провинциальный городок в столицу республики.
Для создания Бразилиа, этого «города будущего», понадобилась воля президента Жуселину Кубичека ди Оливейры (1956–1961), который воплотил в реальность статью Конституции, провозглашавшую необходимость переноса столицы из Рио-де-Жанейро. Строители действительно последовали великим, демократическим по духу планам зодчих и политиков, мечтавших о равенстве. То есть город родился из ничего в почти идеальных условиях. Ландшафт помог придать ему особую символическую образность, различимую даже при взгляде из космоса: что может быть романтичнее летящей птицы? Между тем эта птица вмещала в своем туловище администрацию и деловую жизнь, а крылья представляли собой жилые кварталы. Неразрывное единство населения новорожденной столицы подчеркивалось тем, что все жили в одних и тех же суперкварталах, задуманных поколением ранее Ле Корбюзье для его «лучезарного города». Но, как резонно заметил уже в 1968 году Умберто Эко, жизнь внесла в эту прекрасную стройку свои политические и социальные коррективы: идеальная столица даже близко не вместила всех желающих, тут же выросли окраинные «сателлиты», бонзы обзавелись коттеджными поселками, опять же отгородившимися от городской уравниловки, северные суперкварталы строились на скорую руку, что в свою очередь привело к сегрегации населения. В результате, считает Эко, «Бразилиа из социалистического города, каким она должна была быть, сделалась образцом социального неравенства»[335]335
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / пер. В. Резник, А. Погоняйло. СПб., 2004. С. 326.
[Закрыть]. Что не помешало «птице» стать частью всемирного культурного наследия и получить охрану ЮНЕСКО.
Где же искать истоки города наших дней? Якоб Буркхардт увидел их в одном относительно небольшом итальянском городе. И это не Флоренция, не Венеция, не Рим, даже не Урбино. Это – относительно скромная Феррара эпохи герцогов д’Эсте, меценатов прижимистых, но упрямо соревновавшихся с соседями. Их придворный архитектор Бьяджо Россетти (ок. 1447–1516), чье творчество по сей день недостаточно изучено и известно лишь специалистам, может считаться первым современным урбанистом. Пятьдесят лет он посвятил Ферраре, фактически увеличив ее вдвое, спланировав и выстроив так называемое Дополнение Эрколе (Addizione Erculea, по имени правившего там герцога). Ему удалось органично, а не механически перестроить средневековый город и сделать его удобным для разросшегося населения. Он сделал это с невероятным вкусом, чутьем, тактом по отношению к памятникам прошлого, с дальновидностью по отношению к нуждам будущих, а не только нынешних поколений. Он думал не только о репрезентации власти, которая ему платила, но и обо всех окружающих, о городе и горожанах. В этом Россетти намного демократичнее того же Филарете, представлявшего себе городскую жизнь иерархически[336]336
Ирина Данилова резонно отмечала больший демократизм Франческо ди Джорджо по сравнению с Филарете (Данилова И.Е. Итальянский город XV века: Реальность, миф, образ. М., 2000. С. 67–68), но для Феррары и Россетти в ее книге не нашлось места.
[Закрыть]. Даже для Кватроченто такое сочетание нескольких качеств в одном человеке – большая редкость, если не уникальный случай. Нигде не оставив следов теоретической мысли, он воплотил ее в каждой детали, от формы кристаллов на фасаде знаменитого Бриллиантового дворца (Palazzo dei Diamanti), родственника московской Грановитой палаты, до расположения площадей в сетке новых улиц. Удивительное для своего времени новшество – защитные городские стены, которых из города не видно. А это значит, что любой горожанин впервые в истории мог почувствовать себя не в тени крепости, а на лоне природы – на окружающей Феррару равнине[337]337
Редким примером средневекового города без стен была Венеция, но, во-первых, ее защищала лагуна, во-вторых, на острове был и замок (нынешний район Кастелло).
[Закрыть].
Россетти умел мыслить в масштабе карты, территории. Но он был и каменщиком, и художником. Он понимал, что ткань города складывается и из форм карнизов, и из ритма окон, из углов зданий. Значение последних понимали и до него, поскольку обычно они обозначали перекрестки более или менее важных артерий – иначе здание просто присоединялось к следующему. Угол не меньше, чем фасад, указывает на границу постройки, одновременно являя его достоинство среди соседей, его «стать». Но у Россетти углы служат не только своим обладателям, отдельным постройкам, но и всему городу. Если внимательно присмотреться к их ритму, к их перекличкам друг с другом, от здания к зданию, понимаешь, что между ними протянуты невидимые, но ощутимые на подсознательном уровне силовые линии, превращающие в живой организм город, на первый взгляд однообразный и строго равнинный. Такая «поэтика угла»[338]338
Zevi Br. Saper vedere la città… P. 205.
[Закрыть], которой прекрасно владел феррарский архитектор, стала впоследствии всеобщим достоянием. Достаточно вспомнить европейские площади эпохи барокко или Барселону второй половины XIX – первой половины XX века. Столица Каталонии состоит из квадратных блоков со стороной сто тринадцать метров, а прямые углы на всех перекрестках срезаны под сорок пять градусов, что безусловно оживляет сухую сетку улиц, расчерченных по линейке инженером Ильдефонсом Серда́ в 1859 году[339]339
Регулярный план Серда́ воплотился в жизнь; автор подкрепил его изложением своих идей в двухтомнике, изданном тогда же, но все равно подвергался жесткой критике: площадь в его честь назвали лишь в 1960-е годы, причем вне спроектированной им части города.
[Закрыть]. Вместе с тем пример Феррары, по «живописности» и богатству не сопоставимой, скажем, с Венецией, подсказывает нам, что художественный язык города очень непрост и требует специальной калибровки зрения. Глаза урбаниста должны быть способны прислушаться, потому что город с ним разговаривает, в городе здание звучит, как слово, а улица – как фраза.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































