Текст книги "16 эссе об истории искусства"
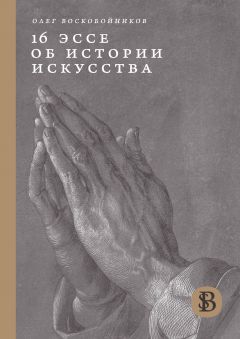
Автор книги: Олег Воскобойников
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
В XIX и особенно в XX столетии всевозможных «измов» хватало во всех сферах жизни, искусствовед частенько вынужден был раскладывать их по полкам, чтобы как-то разобраться в этом калейдоскопе. В компанию к Бергсону в начале XX века, помимо футуристов, записывали фовистов, кубистов, экспрессионистов, символистов и Сезанна. Даже у такого тонкого знатока авангарда, как Герберт Рид, можно найти матрицу: Констебл – Гегель, Сезанн – Гуссерль, Пикассо – Хайдеггер. На каждого гения в живописи следовало подобрать достойного гения в философии. С кем тогда поставить Джексона Поллока? Может быть, с Вернером Гейзенбергом, с его принципом неопределенности в квантовой физике (1927)?
Такое стремление осмыслить открытия своей эпохи в максимально всеобъемлющих категориях, пожалуй, отличает творцов первой половины XX века, и возникло это стремление отчасти благодаря самим художникам и мыслителям. Искусство Кандинского и Мондриана можно объяснять их теософскими поисками, их зафиксированным во множестве публикаций теоретизированием и преподаванием. Крупные мастера живописи, скульптуры и архитектуры оставили солидное письменное наследие, как бы метафизические комментарии к своим вполне «физическим» произведениям. Людвиг Витгенштейн, философ, сопоставимый по значимости с Хайдеггером, фактически спроектировал во всех мельчайших деталях дом для своей сестры в Вене, следуя принципам модерниста Адольфа Лооса и потратив на это два года (илл. 127). Неудивительно, что в 1930-е годы, уже будучи в эмиграции, он числился в венской мэрии как «архитектор». Идея синтеза искусства и наук очень много значила для того времени, но сочинения Мондриана и Кандинского далеко не всё объясняют в их картинах, а дом Витгенштейна – совсем ничего в «Логико-философском трактате».

127. Дом Витгенштейна. Архитекторы П. Энгельманн, Л. Витгенштейн. 1925–1928 годы. Вена
Как ни странно, очень много сугубо философских споров возникло в те годы вокруг Сезанна. Этот замечательный художник не только не оставил теоретического наследия, но вообще не склонен был делиться какими-либо соображениями ни с широкой публикой, ни даже с художниками. Исключением можно считать разве что диалог, который связал его в последние годы жизни с Эмилем Бернаром. Молодой художник сумел, что называется, разговорить неуживчивого, рано постаревшего мастера, над которым смеялись даже мальчишки из его родного Экс-ан-Прованса. В их переписке и в написанных по горячим следам воспоминаниях, весьма оригинальном памятнике саморефлексии художника, действительно можно найти высказывания, звучащие одинаково искренне и неопределенно[429]429
Поль Сезанн. Переписка. Воспоминания современников / пер.; сост. Н.В. Яворская. М., 1972.
[Закрыть]. К иным даже можно подобрать какие-то этикетки, вроде логического эмпиризма. Но многое ли они объяснят? Важнее то, что живопись была для него самого средством выражения личных ощущений, и вопрос, в том числе философский, в следующем: как он понимал «ощущение», как его понимали современники во Франции, какую традицию понимания Сезанн мог получить, скажем, в лицее и позднее, учитывая, что систематически философией он не занимался? Он был против излишнего теоретизирования вообще, поскольку такая «литературная работа» отвлекает художника от «полноценного изучения природы».
Небеспричинно считается, что кубисты подхватили еще одну мысль Сезанна, из той же переписки и тоже афористическую по структуре: натуру следует изображать «посредством цилиндра, шара, конуса, и всё это – в перспективе»[430]430
Cézanne P. Correspondance. P., 1937. P. 259. О значении этого принципа см.: Вентури Л. От Мане до Лотрека / пер. Ц.И. Кин. М., 2007. С. 199–200. (Художник и знаток).
[Закрыть]. Нетрудно найти еще с три десятка не менее выразительных мыслей о том, как можно проникнуть в суть вещей, анализируя натуру и одновременно – абстрагируясь от нее, обобщая увиденное при помощи мысли. Сезанну, вечно чувствовавшему себя непонятым и гонимым, мизантропу, но влюбленному в живопись совершенно беззаветно, все же повезло. На склоне дней пришли и признание, и, что еще важнее, способность воплотить в самых простых сюжетах, вроде яблок на столе, нескольких домов среди сосен или горы Сент-Виктуар, те принципы, на которых вырастет авангард. Но ни учителем мысли или кисти, ни систематическим теоретиком он не был.
Все крупнейшие мастера признавали свой сыновний долг по отношению к Сезанну, и неслучайно именно с него то начинается рассказ о «современном искусстве»[431]431
Рид Г. Краткая история современной живописи. С. 13–65.
[Закрыть], то заканчивается рассказ о «старом»[432]432
Levey M. From Giotot to Cézanne: A Concise History of Painting. L., 1964.
[Закрыть]. Но почему философы? Не кто-нибудь, а Хайдеггер словно суммировал и интерес философов к Сезанну, и глубоко философский смысл его художественного наследия, сказав, что тот не был философом, но понимал все, чем занимается философия. На это указывает одна простая, случайно оброненная художником фраза: «Жизнь – страшная штука» («C’est effrayant la vie»). И это как раз то, добавляет Хайдеггер, «что я изучал последние сорок лет». Курт Бадт был уверен, что Сезанн – художник глубоко религиозный, несмотря на почти полное отсутствие у него христианских сюжетов или мотивов. Фриц Новотны в 1930-е годы доказывал, что открытия Сезанна в живописи сопоставимы с открытиями Канта в философии. Это значит, логически рассуждал он, что Сезанн – Кант в искусстве, а его живопись – «критика способности суждения», то есть эпистемология в красках, не познание, но исследование путей познания. Впрочем, сам автор признавал, что предложенное им сравнение имеет скорее метафорическое значение. Добавим к этому: неизвестно, читал ли Сезанн Канта.
Джордж Хэмилтон нашел в Сезанне не Канта, а Бергсона, потому что оба ввели в свои исследования Время. Если присмотреться к поздним натюрмортам нашего художника, нетрудно заметить, что на три лежащих рядом яблока он смотрит одновременно справа, слева и сверху, потому что композиция строится без единой точки зрения. И хотя такой подход в искусстве разных народов и эпох был известен, у Сезанна он особый. Его композиция парадоксальным образом сохраняет цельность и не рассыпается, но становится повествованием, длящимся временем. Правда, в вопросе о времени у Сезанна акценты можно расставить и иначе: так же резонно сказать, что, введя в картину время, он его остановил, превратил в вечность. Разве не в этом его отличие от импрессионистов, которых он сознательно стремился превзойти, в том числе и в этом, ключевом для них вопросе? Моне извлек для истории все световые и цветовые нюансы фасада Руанского собора, какие можно было наблюдать в течение суток. Для этого он жил некоторое время рядом с ним, наблюдая за этим самым фасадом. Несколько раз он ездил в Лондон ради пары мостов над Темзой, специально останавливаясь в «Савое»[433]433
Ревалд Дж. История импрессионизма / пер. П.В. Мелковой. Л.; М., 1959. С. 173–174.
[Закрыть]. В результате мы получили десятки эскизных и относительно завершенных (для импрессиониста) образов, обессмертивших лондонский смог. В его сериях мы будем восхищаться изменчивостью впечатлений, вибрацией жизни, фиксируемой кистью, но не для того, чтобы остановить это течение жизни, а чтобы транслировать его зрителю, пропустив через чувствительность художника. Возможно, любя эту текучесть жизни и времени, импрессионисты так же любили изображать воду, как китайские и японские художники.
Совсем не эти нюансы и не собственные впечатления волновали Сезанна по отношению к родной для него горе Сент-Виктуар, действительно удивительно живописной[434]434
О разнице в подходе к пейзажу у Сезанна и импрессионистов, которых он изучал очень серьезно, см.: Кларк К. Пейзаж в искусстве / пер. Н.Н. Тихонова. СПб., 2004. С. 255–270. (Художник и знаток).
[Закрыть]. Скорее она была для художника символом незыблемости природы, а заодно, возможно, и метафорой старой доброй Франции, la douce France, привычного мира его детства. Неслучайно он посвятил ей одной многие годы кропотливого живописного анализа. С его любовью к этой горе сравнится разве что любовь к Фудзи великого Кацусики Хокусая, воплотившаяся в серии цветных ксилографий «Тридцать шесть видов Фудзи», во времена Сезанна уже имевшей хождение на Западе. Фраза «жизнь – страшная штука» сорвалась с языка у Сезанна, когда он работал, как обычно, на пленэре и заметил, что внизу, в долине, начато строительство мыльной фабрики. Кроме того, историку философии достаточно вспомнить еще более знаменитый афоризм Паскаля – «бесконечное молчание сфер ужасает меня», – чтобы «вселенский» масштаб мышления Сезанна раскрылся с полной силой. Пожалуй, именно метаморфозы горы Сент-Виктуар в десятках полотен Сезанна представляют максимально полно его картину мира в развитии. А видимая незаконченность некоторых из них, «прогалины» в живописном поле, как мы уже знаем, приглашала зрителя поучаствовать в процессе познания.
Форрест Уильямс решил, что Сезанн – феноменолог. Хотя феноменологию XX века не свести к какой-то формуле, одним из ее лозунгов было «возвращение к предмету». Логично видеть в Сезанне «Гуссерля», ведь он как бы восстановил саму предметность мотива, растворенную импрессионистами в потоках света, в утренней дымке, попросту в атмосфере. Его предметы увидены не издалека, как у импрессионистов, а вблизи, прямой наводкой[435]435
Данилова И.Е. «Исполнилась полнота времен»… С. 153.
[Закрыть]. Настолько вблизи, что, кажется, прямо сейчас выпадут из картины нам под ноги. В его последней, базельской «Горе Сент-Виктуар» абстрагирующий эффект столь силен, что «туманная даль» не предъявляет себя на должном расстоянии, а полностью погружает в себя зрителя. Благодаря более мягкой, ослабленной работе кисти кристаллическая твердость, свойственная ранним видам той же горы на полотнах Сезанна, ушла, усилилась плоскостность, поэтому кажется, что образ максимально приближен к зрителю, словно подан на тарелке.
Мы найдем у Сезанна текстуру, вес, твердость, осязаемость, пространственный объем, локальный цвет – все то, чего импрессионисты избегали. Современники возмущались, что его яблоки покрыты шерстью, а грязные тарелки вертятся. С точки зрения классической композиции, они действительно вертятся, движение передается не как процесс, а как способ самоутверждения предметов, «неистребимой вещественности их бытия», как выразился поэт Райнер Мария Рильке. Феноменологический подход к Сезанну был авторитетно представлен в 1945 году Морисом Мерло-Понти в эссе «Сомнение Сезанна», само название которого говорит не только о философском, но и о психоаналитическом подходе к творчеству художника[436]436
Merleau-Ponty M. Sens et non-sens. P., 1996. P. 13–33; Мерло-Понти М. Сомнения Сезанна / пер. В.И. Стрелкова // (пост)Феноменология. Новая феноменология во Франции и за ее пределами / сост. С. Шолохова, А. Ямпольская. М., 2014. С. 102–118. (Философские технологии). Написанная в те же годы «Феноменология восприятия» тоже пропитана сезанновскими мотивами, как и более позднее эссе «Око и дух»: Его же. Феноменология восприятия / пер. Д. Калугина и др. СПб., 1999. (Французская библиотека); Его же. Око и дух / пер. А.В. Густыря. М., 1992. См. также: Духан И.Н. Мерло-Понти и Сезанн: к становлению феноменологии видимого // Историко-философский ежегодник. 2011. № 2010. С. 171–204.
[Закрыть]. Мерло-Понти знал, что Сезанн был человеком нервным, и решил трактовать его искусство как проект самоконтроля, сознательного выведения всех эмоций, страхов, сомнений и перипетий за рамки творчества. Терапевтические свойства изобразительного искусства и музыки давно известны человечеству. Таким образом, всякая картина Сезанна становится частью масштабного жизненного проекта, отражает его личный темперамент.
Сезанн, конечно, не был единственным крупным мастером, который будоражил философов. Но немногие волновали их так часто, немногие приводили к столь различным историко-философским или теоретическим выводам[437]437
Общий обзор: Schapiro M. Worldview in Painting… P. 75–107.
[Закрыть]. На его примере, как и на других примерах, мы видим, что в истории европейского искусства были художники, изъяснявшиеся с помощью не только произведений, но и слова; видели, что были философы и историки философии, склонные искать истину, в том числе в произведениях искусства. Мы видели, наконец, что и среди историков искусства немало таких, кто изучают памятники ради вычленения в них той картины мира, которая не только обусловила их форму и содержание, но и сама формировалась под воздействием произведений искусства. Поиск историко-культурных смыслов или даже смысловых пластов в изображениях и текстах, в толкованиях современников и во взглядах таких умных зрителей, как Хайдеггер или Панофский, – захватывающий процесс. Но я постарался показать, что все эти построения и истолкования всегда остаются гипотезами, а не догмой.
Чтобы удостовериться в этом, приведу последний пример из уже упомянутого эссе Хайдеггера «Исток художественного творения» – изначально доклада, прочитанного в 1935 году во Фрайбурге. Единственное «творение», которое здесь анализируется, – одна из восьми версий вангоговских «Башмаков» (1886), которые он видел на выставке в Амстердаме (илл. 128). Поскольку на этом удивительном для своего времени натюрморте изображены две вещи, их грубая, нарочитая вещественность, лучше сказать – вещность, привлекла философа, для которого слово Ding означает совсем не только то, что для нас всех «вещь». Чтобы разобраться в смысле изображенного, философствующий посетитель выставки пускается в пространное – и прекрасно переданное средствами философского языка – рассуждение на тему «немотствующего зова земли», который «отдается в этих башмаках». Ему приходит на ум крестьянка, которая стояла в них, ходила в поле, а под вечер, устав, отставила их в сторону. И все это несмотря на то, что «мы не можем даже сказать, где стоят эти башмаки», вокруг – лишь «неопределенное пространство». Вместе с тем он чувствует «дельность» этого изделия, его надежность, несмотря на истраченность и истертость, несмотря на следы труда и времени. Отсутствие отвлекающих деталей приводит к тому, что «одна лишь служебность зрима в изделии. Она создает видимость, будто исток изделия заключен просто в его изготовлении, напечатляющем такую-то форму такому-то веществу. И все же у дельности изделия более глубокое происхождение. У вещества и формы и у различения того и другого – более глубокий исток»[438]438
Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. А.В. Михайлова // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: трактаты, статьи, эссе / сост. Г.К. Коси-ков. М., 1987. С. 276–277.
[Закрыть].

128. Винсент Ван Гог. Башмаки. 1886 год. Амстердам. Музей Ван Гога
Кажется, философ неслучайно взял картину с таким «чтойным», грубозримым предметом, чтобы сопоставить самое что ни на есть обыденное с самым что ни на есть исключительным, простые башмаки и больше ничего – с художественным творением. Его «экфрасис» звучит убедительно, потому что в нем все же чувствуется внимание к деталям, даже если, как и положено классическому экфрасису, он уходит далеко в сторону, превращая произведение искусства в частность, зримое подспорье для далеко идущей мысли[439]439
В этом Хайдеггер вполне сродни архиепископу Антонию Новгородскому, паломнику, взявшемуся в 1200 году описывать свои впечатления о соборе Св. Софии.
[Закрыть]. Проблема в том, что эти конкретные башмаки – башмаки Ван Гога, а не крестьянки, и писал он их, живя в городе. На них нет комьев земли, как верно заметил Хайдеггер, потому что в них ходили по городу. К башмакам Ван Гог вообще относился особым образом: одну пару, в которой он в молодости проповедовал шахтерам, увез с собой в Арль, где эту реликвию застал Гоген, оставивший о том лирическое воспоминание. Они написаны сверху, очень близко к зрителю, так, чтобы мы почти что могли увидеть их «нутро», потому что шнурки развязаны. Башмаки отбрасывают тень, что подчеркивает их массу, предметность, но философ прав в том, что у предмета нет места, лишь «абстрактное пространство». Я бы уточнил, что и пространства здесь нет, есть лишь навязанный зрителю угол зрения: башмаки повернуты к нам лицом, а «пол», на котором они должны стоять, с таким же успехом может считываться как фон классического портрета. На другой версии собственных башмаков Ван Гога один из них тоже показывает нутро, другой повалился на «спину», демонстрируя добротно подбитую подошву[440]440
Когда хранительница балтиморской Художественной галереи Уолтерс купила эту картину, горожане раскритиковали женщину за то, что не осчастливила их подсолнухами, тополями или еще чем-нибудь провансальским.
[Закрыть]. Если взглянуть на другие натюрморты и жанровые композиции Ван Гога, мы узнаем, что предметы для него – повод для самоанализа, размышления о жизни и о своем месте в ней. Поэтому башмаки или стул с соломенной сидушкой посреди узкой комнатенки – в одинаковой мере автопортреты художника и натюрморты.
Что следует из этого короткого критического разбора? Хайдеггер, не вдаваясь в особенности творчества Ван Гога и его внутреннего мира, имеет право размышлять над природой искусства и творчества вообще, стоя перед его картиной. Он прав, трактуя частный предмет с точки зрения Предмета или предметности. Он также мог быть прав, зная, как нежно Ван Гог относился к простым труженикам и бедноте. Но он, как верно заметил Мейер Шапиро (искусствовед философского склада ума и вовсе не чуждый теоретизированию), забыл о присутствии художника внутри этого его произведения[441]441
Schapiro M. Theory and Philosophy of Art… P. 139. Ср. критическое прочтение Хайдеггера в связи с проблемой художественной формы у другого его влиятельного современника: Read H. Op. cit.
[Закрыть]. Потому что чужие башмаки, включая крестьянские деревянные сабо, он писал иначе. Следовательно, объективирование заложенного в картине послания до масштабов «земли» и «труда» вряд ли приемлемо в этом конкретном случае, хотя было бы вполне уместным на фоне некоторых картин Милле, кого-нибудь из передвижников или художников социалистического реализма. Более того, воспевание труда вменялось художникам в обязанность с высоких трибун Третьего рейха, субъективные вольности, тем более присутствие «я» художника в каких-то башмаках, вряд ли вписывались в новую концепцию искусства. Это не значит, что дело в пронацистских симпатиях философа или верности партийной линии (он был членом НСДАП с 1933 по 1945 г.). Дело в том, что во всяком большом художнике и во всяком серьезном произведении есть философский смысл, но произведение никогда не тождественно какому-то одному смыслу, оно никогда не иллюстрирует какое-то учение или какую-то идею. Произведение искусства питается философией, отражает картину мира своего времени, но всегда – на правах участника диалога.
Против искусства: аниконизм, иконоборчество и вандализм

Мы резонно можем считать культ шедевра высшей формой восхищения искусством, мы констатируем существование в различных культурах почитаемых образов, мы признаём за изображениями авторитет, убедительность, чувствуем на себе их власть и силу[442]442
См. классическое исследование Фридберга, которое давно пора перевести на русский: Freedberg D. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. Chicago; L., 1989.
[Закрыть]. Иногда – даже насилие. Но, как во всех сферах культуры, оборотной стороной этой «золотой медали» и, следовательно, не менее важным сюжетом истории искусства являются различные формы неприятия искусства. В последние десятилетия они все больше занимают историков. В любой культуре есть свои иконы, следовательно, есть и иконопочитание, но есть и иконофобия и иконоборчество. Это связано с самой природой искусства: оно – не только воплощенная красота, но и предмет пререканий и повод к раздорам, настоящий «проводник социальных конфликтов»[443]443
Bredekamp H. Kunst als Medium sozialer Konflikte. Bilderkämpfe von der Spätantike bis zur Hussitenrevolution. Frankfurt a.M., 1975; Bildersturm. Die Zerstörung des Kunstwerks / Hg. M. Warnke. München, 1973.
[Закрыть].
История искусства – в одинаковой мере история открытий и история потерь. Неприятие искусства может быть мягким и жестким, санкционированным и не санкционированным властью или обществом, систематическим и спонтанным. Вопрос о статусе искусства в той или иной цивилизации зачастую тонок, его рассмотрение требует серьезной религиоведческой и общеисторической подготовки, вынесение суждений чревато осуждением и, следовательно, потенциально опасно. Потому что констатация отсутствия визуально фиксируемой художественности в конкретном месте и в конкретное время может быть реально доказуемым фактом, но может звучать и как оскорбление. Одним словом, проблема неприятия искусства или образности, формы борьбы с ним, вандализм – сложные, болезненные проблемы, при рассмотрении которых историку искусства и вообще историку следует быть осторожным и тактичным в формулировках[444]444
Gamboni D. Iconoclasme, histoire de l’art et valeurs // Perspective. Actualité en histoire de l’art. 2018-2: Détruire. P., 2018. P. 125–146. Калман Блэнд в деталях показал причины появления и живучести мифа о «евреях без искусства»: Bland K. Teh Artless Jew. Medieval and Modern Afrif mations and Denials of the Visual. Princeton, 2000.
[Закрыть].
Как мы уже не раз убеждались, искусство на разных исторических этапах своего развития чаще всего связывалось с религией, с интересами власти, с идеологией. В этих связях и следует искать причины частичного или полного неприятия искусства. Попробуем для начала разобраться в этом вопросе на примере исторического бытования трех авраамических религий: иудаизма, ислама и христианства. Первые две из них не считают возможным почитание изображений. Из-за этого, как нетрудно догадаться, изображение человека не получило в них религиозной санкции. Однако никому не придет в голову отрицать историю искусства у евреев или историю мусульманского искусства, существование великих произведений, созданных иудеями и мусульманами, в том числе правоверными. Правда, по сей день некоторые исследователи считают более корректным по отношению к этим религиозным системам говорить об искусстве евреев – но не еврейском, об искусстве мусульман, стран исламского мира – но не мусульманском[445]445
Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана VII–XVII веков. М., 1974. С. 9–11. (Из истории мирового искусства).
[Закрыть].
Тора, основа иудаизма, вошедшая и в христианскую Библию, не раз четко запрещает изготовление антропоморфных изображений с целью культа: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх 20: 4–6). Не раз Ветхий Завет возвращается к теме почитателей идолов, навлекающих на себя гнев Божий (Втор 4: 15–19; Пс 96: 7; Лев 19: 4; Ос 2: 8). Иногда авторы священных книг уточняют, что к недозволенному относится изображение всякой твари, не только человека. Иногда акцент делается на материале, например, меди или дереве, а также на форме: пластика волновала критиков явно больше, чем живопись. Акцент на «небе вверху» и «земле внизу» подсказывает, что речь идет о культе небесных и хтонических сил, традиционно проявлявшемся у древних народов в развитии соответствующей образности в искусстве. Всякий народ стремился утвердить свою самостоятельность, снабжая своих богов теми или иными признаками: мифологическими, ритуальными и зримыми. Весь смысл библейских запретов, конечно, – в утверждении единобожия иудеев и, следовательно, их богоизбранности на фоне окружавших их политеистических религий. Неприятие материальных изображений божества становилось такой же, как обрезание, гарантией принадлежности «народу», ха-ам, в отличие от «яз ков», ха-гоим.
Строгое соблюдение этих предписаний влекло за собой исчезновение или отсутствие нужных навыков у ремесленников и художников: нет спроса – не будет и соответствующей художественной компетенции. Однако в трехтысячелетней истории евреев, естественно, бывали периоды как жесткого следования этим правилам, так и мягкого. Засилье идолов и вообще эстетизация повседневной жизни римлян – захватчиков – влекли за собой эмоциональное и бескомпромиссное неприятие образности, унаследованное и первыми поколениями христиан. Интересное свидетельство об этом оставил Тацит: «В Египте божеские почести воздаются различным животным и статуям, нарочно созданным для этой цели, иудеи же верят в единое божественное начало, постигаемое только разумом, высшее, вечное, непреходящее, не поддающееся изображению, и считают безумцами всех, кто делает себе богов из тлена, по человеческому образу и подобию. Поэтому ни в городах у них, ни тем более в храмах нет никаких кумиров, и они не ставят статуй ни в угоду царям, ни во славу цезарей»[446]446
Корнелий Тацит. История. V, 5 / пер. Г.С. Кнабе // Сочинения: в 2 т. Т. 2: История. Л., 1969. С. 191.
[Закрыть]. Сам запрет на изображения, видимо, читался как призыв к сопротивлению Риму. Однако уже в последние века Античности синагоги украшались целыми программами мозаик (Бет-Альфа) и фресок, отсылавших к истории Израиля и догмам (Дура-Эвропо́с)[447]447
Schapiro M. Late Antique, Early Christian and Medieval Art: selected papers. N.Y., 1979. P. 20–33; Чаковская Л.С. Воплощенная память о Храме: художественный мир синагог Святой Земли III–VI вв. н. э. М., 2011. С. 20–40.
[Закрыть]. Даже статуи не возмущали просвещенных раввинов, духовных лидеров своих общин, если верующие не придавали им религиозного значения, но смотрели на них исключительно как на декор. Кроме того, за фасадом официальных запретов и проповедей следует видеть и народную религиозность иудеев, которая уже тогда позволяла художественной образности развиваться, естественно, в контакте с эллинистически-римским художественным койне́[448]448
Claman H.N. Jewish Images in Christian Church. Art As the Mirror of the JewishChristian Conflict. 200–1250 C.E. Macon, GA, 2000. P. 9–22.
[Закрыть].
До нас дошли отдельные, обычно сильно пострадавшие следы этой творческой энергии первых веков нашей эры. И это неслучайно. Пришедший в VII столетии ислам провозгласил аниконизм, то есть отказ от образности, одним из основных принципов правоверия. Иудеи, оказавшиеся под властью халифов, не могли проявлять бо́льшую терпимость к искусству, чтобы хотя бы в собственных глазах выглядеть верными тем же религиозным истокам, к которым апеллировал Коран. В результате на протяжении столетий закрепилось неприятие антропоморфных изображений во всей диаспоре, а художественная воля, тяга к украшению стали выражаться преимущественно в орнаменте. Как и у соседей, да и как вообще во многих развитых культурах, иудейский художник умело использовал своеобразную живописность алфавита, а почитание текста Торы придавало этой художественной работе необходимую религиозную санкцию. Неслучайно свиток Торы был и остается предметом особого почитания, он – знак присутствия божества, неизобразимого, но зримого в тексте-предмете. Каллиграфия у арабов и евреев сама по себе не равна аниконизму, не исчерпывает его, но, наряду со сложнейшим ковровым орнаментом, становится ярким его проявлением.
На христианских землях это неприятие сохранялось, но не было столь принципиальным. С одной стороны, все понимали миссионерскую функцию церковного искусства христиан: известны случаи обращения иудеев под влиянием конкретных христианских образов, особенно Распятия[449]449
Schmitt J.-Cl. La conversion d’Hermann le Juif. Autobiographie, histoire et fiction. P., 2003. P. 143–178. (Librairie du XXIe siècle).
[Закрыть]. С другой стороны, авторитетные раввины, например, Ра́ши в XI столетии, засвидетельствовали, тем самым оставив авторитетное мнение и потомкам, присутствие библейских сцен вроде битвы Давида и Голиафа на стенах домов богатых евреев. Маймонид в XII столетии отвергал трехмерные изображения человека[450]450
Подробно об эстетике Маймонида, крупнейшего мыслителя Средневековья, см.: Bland K. Op. cit. P. 76–108.
[Закрыть]. Очевидно, что иудеи подражали соседям-христианам, даже если вход в церковь им формально был запрещен. Когда в эпоху рассеяния те или иные иудейские общины оказывались в большей степени ассимилированы окружающей культурной средой и если эта среда не заставляла их отказываться от религии предков, то и визуальная, художественная составляющая этой религиозной враждебной среды уже не выглядела в их глазах незаконной. В результате до нас дошли памятники средневековой еврейской живописи из Северной Европы, Италии и Испании, например, великолепно иллюстрированные рукописи Аггады[451]451
«Золотая Аггада», созданная на Пиренейском полуострове в 1320–1330-е годы в стиле роскошных христианских рукописей того времени, доступна на сайте Британской библиотеки: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_27210_f010v (date of access: 10.02.2022) (Kogman-Appel K. Jewish Book Art between Islam and Christianity: Teh Decoration of Hebrew Bibles in Medieval Spain. Leiden; Boston, 2004. P. 179–185). О более скромных семейных иллюстрированных манускриптах этого жанра см.: Schapiro M. Late Antique… P. 381–386.
[Закрыть] (илл. 129).

129. Подготовка трапезы. Танец Мириам. Миниатюра из «Золотой Аггады». 1320 год. Каталония, Барселона (?). Сейчас: Лондон. Британская библиотека. Рукопись Additional 27210. Лист 15
Известны случаи участия иудейских мастеров в создании христианских произведений и наоборот: и сотрудничество, и соперничество, и подражание, и взаимовлияние стали факторами параллельного развития. В 1480 году королеве Изабелле Кастильской пришлось требовать от нанятого ею художника, чтобы кисть еврея, если таковой окажется среди его подмастерьев, не коснулась фигур Христа и Богоматери. Один этот факт о многом говорит: именно она с мужем, Фердинандом Арагонским, инициировала одно из самых масштабных в истории изгнаний евреев из Испании и с Сицилии в 1492 году. Тем не менее евреи во все времена были отличными ремесленниками, об этом знали уже арабы, а ремесленник во всех традиционных культурах – в какой-то степени художник. Поэтому неудивительно, что церковный прелат не гнушался нанимать иноверца для изготовления даже священных литургических предметов, одновременно разделяя антииудейские догматы христианства[452]452
Несколько примеров такого сотрудничества и взаимовлияния поверх религиозных барьеров подробно рассмотрены в кн.: Judaism and Christian Art. Aesthetic Anxieties from the Catacombs to Colonialism / ed. H. Kessler, D. Nirenberg. Philadelphia; Oxford, 2011.
[Закрыть].
Можно было бы привести и другие примеры популярности еврейского мастерства среди христиан. Ясно, что религиозный аниконизм не означал отказа от искусства как такового. Но все же до XIX века включительно отношение иудейской диаспоры к изобразительному искусству оставалось амбивалентным. Отчасти эта амбивалентность, как ни странно, связана с высочайшим для Средневековья и раннего Нового времени уровнем грамотности еврейского населения. У христиан монументальная живопись считалась необходимой для просвещения масс, не читавших ни на каком языке, тем более на латыни – основном языке религии и культуры. Среднему иудею, грамотному по определению, этого подспорья для религиозного образования не требовалось – он жил текстом. Поэтому не так просто объяснить тот исторически объективный факт, что в эпоху авангарда, с начала XX века, место евреев, пусть и секуляризованных, во всех сферах искусства резко увеличилось[453]453
Хобсбаум Э. Разломанное время. Культура и общество в двадцатом веке / пер. Н. Охотина. М., 2017. С. 98. (CORPUS; 437).
[Закрыть].
Ислам, как и предшествующие авраамические религии, с самого начала заявил о себе как о религии священного текста. Здесь арабский язык, получивший статус священного, и обязательное знание Корана сделали дидактическую функцию изображений излишней для верующих. Кроме того, ислам появился на землях Ближнего Востока, Африки и отчасти Европы тогда, когда христианское искусство, особенно в Византии, достигло расцвета и представляло собой высокоразвитую систему визуальной проповеди во всех формах, жанрах и техниках, от миниатюрных предметов личного благочестия до храма. Ничего подобного для утверждения своих идеалов вчерашние кочевники не могли предложить по объективным причинам: монументальное искусство, во-первых, требует оседлости нескольких поколений, во-вторых, готовности отступить от аскетической чистоты веры ради роскоши. Далеко не все сподвижники Мухаммеда были готовы на это пойти.
Однако развитая, обретшая почву под ногами цивилизация в искусстве нуждается по определению, как нуждается в репрезентации любая власть. Поэтому исламский мир воспользовался художественными традициями античной и византийской цивилизаций на Западе и иранской – на Востоке. Переманивание мастеров стало обычной практикой: Купол Скалы в Иерусалиме (687–691 гг.) и Большая мечеть Омейядов в Дамаске (706–715 гг.) – характерные примеры такого же сотрудничества, которое мы только что наблюдали на средневековом Западе между евреями и христианами. Уже ибн-Забала в 814 году и ат-Табари в 923 году сообщали, что мастеров в Дамаск выписали непосредственно из Константинополя, хотя славились и местные, сирийские мастера. Есть в этом феномене переманивания и подражания что-то от восхищения художественным великолепием побежденной земли – Плодородного полумесяца. Есть и вызов могущественному соседу – византийскому василевсу. В архитектурном плане дамасская мечеть заимствовала отдельные элементы у римского и христианского зодчества, не оставив, однако, ни одного из них в целостном виде. Греческие мозаичисты украсили стены великолепными изображениями архитектурных сооружений и деревьев (илл. 130), хорошо известные, например, по куполу ротонды Св. Георгия в Фессалониках (V в.)[454]454
Борис Веймарн видел источник мозаик в Дамаске в эллинизме и в помпеянской живописи (Веймарн Б.В. Указ. соч. С. 40). Но византийские образцы (в свою очередь, конечно, связанные с наследием эллинизма), на мой взгляд, ближе. Ср.: Лазарев В.Н. История византийской живописи. С. 55–56.
[Закрыть]. Но то, что в христианской иконографии служило фоном для фигур, для истории Спасения, здесь превратилось в тему: деревья выстроились перед нами, словно святые перед троном Всевышнего. И все же это всего лишь деревья и дома. Сегодня их иногда интерпретируют как образ мусульманского рая, но как они прочитывались в момент создания и прочитывались ли вообще, мы не узнаем никогда. Каабу украшали лишь ткани. Даже в роскошном Мшаттском дворце стена, смотревшая на Мекку, то есть символизирующая единство мусульман, кибла, сознательно лишена каких-либо намеков на живое в покрывающем ее удивительном орнаменте из стука.

130. Большая мечеть Омейядов в Дамаске. 706–715 годы. Мозаика во внутреннем дворе
Можно констатировать, что через столетие после утверждения ислама на новых землях, в ключевых точках и ключевых памятниках изобразительное искусство, видимое верующим, отказалось от зооморфных мотивов и сюжетов. Почему? Тот факт, что в искусстве предстает перед нами мир, наделенный некоторыми ограничениями, не позволяет считать, что соответствующим образом ограничены были интересы и ощущения людей. Иначе пришлось бы предположить, что мусульмане были равнодушны к человеческому телу и вообще к природе, а сегодняшняя распространенность различных форм беспредметного, абстрактного искусства означает полное безразличие ко всему живому. На самом деле, средневековый дар аль-ислам на протяжении столетий, до XIII века, далеко опережал Запад в естествознании во всех его проявлениях. Соответствующие научные трактаты, учебники и энциклопедии, конечно, иллюстрировались. Всякое творение, с точки зрения мусульманина, не посягало на исключительность Творца, но являло его в видимом мире.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































