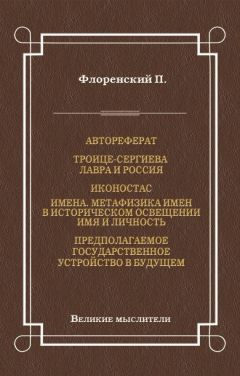Понятно, что при росписи мумии или саркофага не нужно и не должно было наводить тени как по причине художественной – поскольку мумия или саркофаг и без того были телесными, вещами, – так и по причине символической, ибо умерший входил в царство света и делался образом бога («Я – Озирис»164 – такова священная формула вечной жизни, надписываемая от лица усопшего), и, следовательно, ему не должно было приписывать никакого ущерба, слабости, затемнения. Почивший, приняв в себя бога, хотя и сохраняя свою индивидуальность, сделался образом божиим, идеальным обликом своей собственной человечности, идеи самого себя, своей собственной духовной сущности. И задачей мумийной росписи было представить именно эту идеальную сущность усопшего, который стал отныне богом и предметом культового почитания.
Иначе говоря, эта роспись должна была акцентировать идеальные черты усопшего, проработать эмпирическое лицо до чистого проявления в нем человечности. Следовательно, это художество мыслилось не как портрет, стоящий рядом с лицом, а как роспись именно самого лица – насурмление и нарумянение его, понимая таковые в хорошем, античном смысле идеализации. Иконописная техника, сводящаяся к последовательно наслояющимся акцентуациям – пробелениям одежд и вохрениям ликов, употребляя эти термины расширительно, и описи, или росписи.
Мне думается, иконописные приемы выводятся из задач рассматриваемой росписи мумий, а именно: дать усиленную свето-лепку лица, которая своею силою противостоит случайностям переменного освещения и потому – выше условий эмпирии, наглядно являя нечто метафизическое: форма лица дана светом, но не светотенью; свет же этот – не освещение земным источником, а все пронизывающий и формы полагающий океан сияющей энергии. Этого по крайней мере искало египетское искусство. Но дальнейшим шагом к тому же заданию был переход от поверхности деревянного залевкашенного саркофага к таковой же плоскости поверхности доски, причем не без символического знаменования было применено дерево кипарисное, древний символ вечной жизни и нетления.
Иначе говоря, чтобы освободиться и от остатков свето-тени на расписанной мумии или саркофаге, необходимо было еще далее отойти от материальной формы саркофага как вещи и тверже стать на почву символизма. Это давало художнику средство подняться над изменчивостью и условностью земного света. Как известно, кроме иконы, а отчасти и до иконы этот же шаг был сделан портретом эллинистической эпохи, который отчасти выбил из прямого пути нарождающуюся икону, внеся восковые краски и иллюзионистические приемы, хотя иллюзионизм этих портретов сочетается с идеализацией, отчасти же проложил кратчайшие пути к чистой иконописи. Возможно, что самый иллюзионизм этих портретов должен быть толкуем не как прямая цель их, а как рудимент прежней скульптурной поверхности саркофага. Стремясь к символизму и отрешению от непреображенной плоти, эллинистический портрет не решился сразу разорвать с материальной поверхностью саркофага и признал себя вынужденным дать некий живописный ее эквивалент, хотя дальнейшей задачей священного искусства было освобождение и от последнего. Тогда-то и развилась иконопись, первоначально, насколько известно, не чуждая сродства с эллинистическим портретом. А с другой стороны, не следует забывать, что и портрет этот отнюдь не был портретом в нашем смысле: это была, хотя и продвинутая по пути символизма, все та же погребальная маска. Как известно, такой портрет благочестиво писался еще при жизни, но ввиду будущего погребения, а после кончины вставлялся на место лица в саркофаг, расписанный ремесленно, в приблизительном соответствии с видом умершего (пол, возраст, должность, состояние и т. д. – т. е. в доличное). Таким образом, эллинистический портрет был родом иконы с умершего, и этой иконе, несомненно, воздавалось культовое почитание. Несомненно соблюдение этих погребальных обрядов и египетскими христианами, в сознании которых смысл и значимость египетского погребального обряда не только не были ниспровергнуты, но, напротив, получили подтверждение «благою вестью» и бесконечное усиление и углубление. И если все усопшие христиане, «святые»165, по Апостолу, были предметом Культа, то тем более это относилось к особливым свидетелям вечной жизни, возле останков которых служились всенощные бдения и над которыми совершалось таинство Тела и Крови, питающее в жизнь вечную. Погребальные портреты этих последних естественно выдвинулись в качестве икон, разумея это слово суженно.
Спросим себя теперь о метафизике иконы, египетской ли метафизике до-христианской или христианской, пока безразлично.
Если роспись мумии прикрывала собою обращенное в мумию тело усопшего, а тело это мыслилось связанным с началом жизни, то можно ли было мыслить эту роспись лица как что-то само по себе, а не в отношении к лицу? Можно ли было в выражении «роспись лица» делать логическое ударение не на безмерно важном, дорогом и священном – «лица», а на второстепенном, наслоенном на первом и физически и метафизически пустом – «роспись»? Конечно, нет, конечно, указывая на эту роспись, на погребальную маску, родственник или друг покойного говорил (и правильно говорил!): «Вот мой отец, брат, друг», а не «Вот краска на лице моего отца» или «Вот маска друга» и т. д. Несомненно, для религиозного сознания роспись, или маска, не отделялась от лица и не противопоставлялась ему, она мыслилась при нем и с ним, чрез свое отношение к нему имея смысл и ценность. Эта маска была не сокрытием покойного, а раскрытием его, и притом в его духовной сущности, более явным, более непосредственным, нежели вид самого лица.
Маска в культе усопших была воистину явлением усопшего, и притом уже явлением небесным, полным величия, божественного благолепия, чуждым земных волнений и просвещенным небесным светом. И древний человек знал: этою маскою является ему духовная энергия того самого усопшего, который в ней и под ней. Маска покойного – это сам покойный не только в смысле метафизическом, но и физическом; он здесь, сам он являет нам свой лик. Иной онтологии не могло быть и у египетских христиан: и для них икона свидетеля была не изображением, а самим свидетелем, ею и чрез нее, посредством нее свидетельствовавшим. Так – хотя бы потому, что эта онтология есть прежде всего выражение факта: икона лежит на теле самого свидетеля, и всякое иное суждение об этом факте, хотя и возможное отвлеченно, при каких-либо особых целях, конкретно, жизненно – невозможно и было бы противоречием естественному способу чувствовать.
Но далее этот физический факт может утончиться и осложниться, причем духовная сущность его не потерпит искажения. Коль скоро сознана онтологическая связь между иконой и телом, а тела с самим святым, то величина расстояния от иконы до тела, равно как и наличный физический вид самого тела в данный момент, – уже не имеет силы, и связь, мыслимая онтологически, не уничтожается значительностью расстояния иконы от останков тела, а также нецельностью этих останков.
Где бы ни были мощи святого и в каком бы состоянии сохранности они ни были, воскресшее и просветленное тело его в вечности есть, и икона, являя его, тем самым уже не изображает святого свидетеля, а есть самый свидетель. Не ее, как памятник христианского искусства, надлежит изучать, но это сам святой ею научает нас. И в тот момент, когда хотя бы тончайший зазор онтологически отщепил икону от самого святого, он скрывается от нас в недоступную область, а икона делается вещью среди других вещей. В этот момент живая связь между горним и дольним, т. е. религия, в данном месте жизни распалась, пятно проказы умертвило соответственный участок жизни, и тогда должно возникнуть опасение, как бы это отщепление не пошло далее.
Имена. Метафизика имен в историческом освещении. имя и личность
Имена (Ономатология)
I
«…Мне очень неприятно повторять столько варварских имен, но необыкновенные истории, – так предваряет одну из таких историй рассказчик в «Виколо Ди Мадама Лукреция» у Проспера Мериме, – но необыкновенные истории случаются всегда только с людьми, чьи имена произносятся трудно»1.
Мериме – не единственный писатель, которому звук имени и вообще словесный облик имени открывает далекие последствия в судьбе носящего это имя. Можно было бы привести множество историко-литературных свидетельств о небезразличности писателю имен выводимых им лиц. Напоминать ли, как за парадным обедом побледнел и почувствовал себя дурно Флобер при рассказе Эмиля Золя о задуманном романе, действующие лица которого должны были носить имена Бювара и Пекюшэ? Ведь он, кажется не дождавшись конца обеда, отвел Золя в сторону и, задыхаясь от волнения, стал буквально умолять его уступить ему эти имена, потому что без них он не может написать своего романа; они попали, как известно, и в заглавие его. Золя оказал это одолжение. Но это было именно одолжение, и сам Золя был далеко не безразличен к именам, даже до неприятностей, потому что нередко облюбовывал для «крещения» своих действующих лиц действительные имена и фамилии из адрес-календаря; естественно, полученная так известность не могла нравиться собственникам этих имен.
Третий из этой же плеяды натуралистов, по-видимому далеких от высокой оценки имен, на самом деле тоже считался с выбором имени. Разумею Бальзака. Когда он создавал действующее лицо, то был озабочен, чтобы имя подходило к герою, «как десна к зубу, как ноготь к пальцу». Раз он долго ломал голову над именем, как вдруг ему подвернулось имя «Марка». «Больше мне ничего не нужно, моего героя будут звать Марка – в этом слове слышится и философ, и писатель, и непризнанный поэт, и великий политик – все. Я теперь придам его имени Z – это прибавит ему огонек, искру»2.
Иногда формирование типа около имени происходит не вполне сознательно, и поэт, опираясь на интуитивно добытое им имя, сам не вполне знает, как дорого оно ему. Лишь при необходимости расстаться с ним обнаружилась бы существенная необходимость этого имени, как средоточия и сердца всей вещи.
Но тем не менее не следует преувеличивать эту несознательность поэта: она не правило. Во многих случаях вдохновение знает, что делает, – не только протекает с необходимостью, но и отдает себе отчет в своей необходимости. Это относится, может быть по преимуществу относится, – к именам. И писатели не раз отмечали в себе и других эту функцию имени – как скрепляющего свод замка.
«Более всего восхищает и поражает меня у Бомарше то, что ум его, развертывая столько бесстыдства, сохранил вместе с тем столько грации. Признаюсь, – говорит В. Гюго, – меня собственно привлекает больше его грация, чем его бесстыдство, хотя последнее, опираясь на первые вольности надвигающейся революции, приближается порой к грозному, величавому бесстыдству гения… Хотя в бесстыдстве Бомарше много мощи и даже красоты, я все-таки предпочитаю его грацию. Другими словами: я восхищаюсь Фигаро, но люблю Сюзанну.
И прежде всего, как умно придумано это имя – Сюзанна! Как удачно оно выбрано! Я всегда был благодарен Бомарше за то, что он придумал это имя. Я нарочно употребляю тут это слово: придумал. Мы недостаточно обращаем внимания на то, что только гениальный поэт обладает способностью наделять свои творения именами, которые выражают их и походят на них. Имя должно быть образом. Поэт, который не знает этого, не знает ничего.
Итак, вернемся к Сюзанне. Сюзанна – нравится мне. Смотрите, как хорошо разлагается это имя. У него три видоизменения: Сюзанна, Сюзетта, Сюзон. Сюзанна – это красавица с лебединой шеей, с обнаженными руками, со сверкающими зубами (девушка или женщина – этого в точности нельзя сказать), с чертами субретки и вместе с тем – повелительницы – восхитительное создание, стоящее на пороге жизни! То смелая, то робкая, она заставляет краснеть графа и сама краснеет под взглядом пажа. Сюзетта – это хорошенькая шалунья, которая появляется и убегает, которая слушает и ждет и кивает головкой, как птичка, и раскрывает свою мысль, как цветок свою чашечку; это невеста в белой косынке, наивность, полная ума, полная любопытства. Сюзон – это доброе дитя с открытым взглядом и прямою речью; прекрасное дерзкое лицо, красивая обнаженная грудь; она не боится стариков, не боится мужчин, не боится даже отроков; она так весела, что догадываешься о том, сколько она выстрадала, и так равнодушна, что догадываешься о том, что она любила. У Сюзетты нет любовника; у Сюзанны – один любовник, а у Сюзон – два или – как знать? – быть может, и три. Сюзетта вздыхает, Сюзанна улыбается, Сюзон громко хохочет. Сюзетта очаровательна, Сюзанна обаятельна, Сюзон аппетитна. Сюзетта приближается к ангелу, Сюзон – к диаволу, Сюзанна находится между ними.
Как прекрасно это! Как красиво! Как глубоко! В этой женщине – три женщины, и в этих трех женщинах – вся женщина. Сюзанна нечто большее, чем действующее лицо драмы; это – трилогия.
Когда Бомарше-поэт хочет вызвать одну из этих трех женщин, изображенных в его творении, он прибегает к одному из этих трех имен, и смотря по тому, вызывает ли он Сюзетту, Сюзанну или Сюзон, красивая девушка преображается на глазах зрителей – точно по мановению палочки волшебника или под внезапным лучом света, и является под той окраской, которую желает придать ей поэт.
Вот что значит имя, удачно выбранное»3.
Всякий знает, в особенности по воспоминаниям детства, принудительность отложения целого круга мыслей и желаний около известного имени, нередко придуманного. Между прочим, о таком значении имен рассказывает по поводу своих детских фантазий Н. П. Гиляров-Платонов. «Не могу не остановиться на идиосинкразии, обнаружившейся во время моих фантастических полетов, – пишет он о своих детских годах. – Придумывая собственные имена, я облюбовывал преимущественно известные сочетания звуков. Таково было имя «Чольф»; его-то между прочим и нашел я изображенным на своей ученической тетрадке. Помню, что в большей части придумываемых имен повторялись эти звуки: либо ч, либо ль, либо ф. Раз я занялся усердно армянской историей: почему? Потому только, что мне понравилось в своем звукосочетании имя Арсак. Отсюда судьба Арсака и Арсакидов заинтересовала меня; внимательно несколько раз я перечитывал о них в словаре Плюшара; Арсакиды же повели меня и далее, к армянам и затем к грузинам. Случайным такое действие звуков не может быть, и я напоминаю о факте, полагаю, не безызвестном в типографиях: «у каждого писателя есть свои походные буквы». Для типографских касс в каждом языке есть свой общий закон, в силу которого одни буквы употребляются чаще, другие – реже. Исчислено даже довольно точно их арифметическое отношение; на нем основано количество, в котором отливаются буквы, сколько должно приготовить для каждой кассы употребительнейшего о и сколько мало употребительного щ. На том же основании самое помещение для букв разнится своей величиной в кассах. Шифрованное письмо любого языка на том же основании легко читается, если взяты вместо букв произвольные, но для каждой постоянные знаки. Тем не менее бывают писатели, ниспровергающие общий закон, по крайней мере вводящие значительные от него уклонения несоответственно частым повторениям известных букв. Набиравшие, например, покойного Михаила Петровича Погодина знали, что для статей его нужно запасаться особенным обилием буквы п. Были долготерпеливые, которые высчитывали количество слов, употребленных знаменитыми писателями, составляли для каждого словарь и находили возможным строить на этом выводы о существе дарований того и другого. Но есть, как оказывается, соотношение дарований не к составу словаря, а к составу самой азбуки. Почему-нибудь да любимы известные сочетания звуков; почему-нибудь к ним да прибегают охотнее ум и перо: явление заслуживает того, чтобы наука остановила на нем свое внимание»4.
II
Или вот Пушкин. Как отметил Вяч. Иванов, разбирая поэму о цыганах5, «вся пламенная страстность полудикого народа, ее вольнолюбивой и роковой неукротимости» выражена Пушкиным в синтетическом типе Цыганки. Собственно этот тип раскрыт в Земфире; но духовная суть его у Пушкина связана с именем матери Земфиры: Мариула. Это «глубоко женственное и музыкальное имя» есть звуковая материя, из которой оформливается вся поэма – непосредственное явление стихии цыганства. «И стихи поэмы, предшествующие заключительному трагическому аккорду о всеобщей известности «роковых страстей» и о власти «судеб», от которых «защиты нет», опять воспроизводят, как мелодический лейтмотив, основные созвучия, пустынные, унылые, страстные:
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.
Эти звуки, полные и гулкие, как отголоски кочевий в покрытых седыми ковылями раздольях, грустные, как развеваемый по степи пепел безыменных древних селищ, или тех костров случайного становья, которые много лет спустя наводили на поэта сладкую тоску старинных воспоминаний, приближают нас к таинственной колыбели музыкального развития поэмы, обличают первое чисто звуковое заражение певца лирической стихией бродячей вольности, умеющей радостно дышать, дерзать, любя, даже до смерти, и покорствовать смиренномудро. Фонетика мелодического стихотворения обнаруживает как бы предпочтение гласного у, то глухого и задумчивого, и уходящего в былое и минувшее, то колоритно-дикого, то знойного и унывно-унылого; смуглая окраска этого звука или выдвигается в ритме, или усиливается оттенками окружающих его гласных сочетаний и аллитерациями согласных; и вся эта живопись звуков, смутно и бессознательно почувствованная современниками Пушкина, могущественно способствовала установлению их мнения об особенной магичности нового творения, изумившей даже тех, которые еще так недавно были упоены соловьиными трелями и фонтанными лепетами и всею влажною музыкой песни о садах Бахчисарая»6.
«Цыганы» есть поэма о Мариуле; иначе говоря, все произведение роскошно амплифицирует духовную сущность этого имени и может быть определяемо как аналитическое суждение, подлежащее коего – имя Мариула. Вот почему носительница его – не героиня поэмы: это сузило бы его значение и из подлежащего могло бы сделать одним из аналитических сказуемых, каковы, например, и Земфира, и Алеко, и другие. Мариула, – это имя, – служит у Пушкина особым разрезом мира, особым углом зрения на мир, и оно не только едино в себе, но и все собою пронизывает и определяет. Имеющему уши слышать – это имя само по себе раскрыло бы свою сущность, как подсказало оно Пушкину поэму о себе, и может сказать еще поэмы. Но и раскрываясь в поэме и поэмах, оно пребывает неисчерпанным, всегда богатым. Имя – новый высший род слова и никаким конечным числом слов и отдельных признаков не может быть развернуто сполна. Отдельные слова лишь направляют наше внимание к нему. Но как имя воплощено в звуке, то и духовная сущность его постигается преимущественно вчувствованием в звуковую его плоть. Этот-то звуковой комментарий имени Мариулы и содержится в «Цыганах».
Уж и начинается поэма со звуков: «Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют; – – ночуют».
Существенная во всем строении поэмы песня – со звуков: «Старый муж, грозный муж» и далее различными сплетениями с у, ю. Рифмы «гула», «блеснула», «Кагула» отвечают основному звуку «Мариула». Можно было бы по всей поэме проследить указанное звукостроение из у, ю, ы, о; но ограничимся несколькими цитатами:
Уныло юноша глядел
На опустелую равнину
И грусти тайную причину
Истолковать себе не смел…
Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий
Или под сенью дымной кущи
Цыгана дикого рассказ…
– Кочуя на степях Кагула…
– Ах, я не верю ничему:
Ни снам, ни сладким увереньям,
Ни даже сердцу твоему…
– Утешься, друг, она дитя.
Твое унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна…
– Ах, быстро молодость моя
Звездой падучею мелькнула.
Но ты, пора любви, минула
Еще быстрее: только год
Меня любила Мариула.
Однажды, близ кагульских вод
Мы чуждый табор повстречали…
Ушла за ними Мариула.
Я мирно спал; заря блеснула,
Проснулся я: подруги нет!
Ищу, зову – пропал и след…
– Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его падения
Смешон и сладок был бы гул…
– Нет, полно! Не боюсь тебя!
Твои угрозы презираю,
Твое убийство проклинаю…
Умри ж и ты! – Умру любя…
Или под юртой остяка
В глухой расселине утеса…
Прибавим к этим выдержкам весь эпилог, собирающий основные элементы поэтической гармонии целого творения от музыкального представления «туманности» воспоминаний, через глухие отголоски бранных «гулов», до сладостной меланхолии звука «Мариула», чтобы завершиться созвучием трагического ужаса, которым дышат последние строки:
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны.
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
Тут подчеркнута лишь гласная инструментовка; но ведь не в ней одной лейтмотив «милой Мариулы».
Здесь не место входить в метафизику звука и в анализ имен и слов с этой стороны: это будет сделано в дальнейшем, при обсуждении каббалы. Но тем не менее несколькими штрихами очертить звуко-онтологическое строение хотя бы только одного данного имени было бы полезно.
Для облегчения звукового анализа транскриптируем имя Мариула еврейскими буквами; это будет:
א ל ו י ך א מ
7 6 5 4 3 2 1
Теперь, ради полной беспристрастности, возьмем характеристики этих звуков, как метафизических начал, чужими словами. По Фабру д’Оливэ7.
1. מ М «Знак материнский и женский (в смысле самки): знак местный и пластичный; образ действия внешнего, страдательного. Он имеет связь с идеей материнства».
2. א А «Эта первая буква алфавита есть и знак мощи и устойчивости. Идея, которую она выражает, – это идея единства и начала; единства определяющего».
3. ך R «Знак всякого собственного движения, хорошего или плохого: знак первобытный учащательный; образ возобновления вещей, поскольку дело идет об их движении».
4. י I «Образ обнаружения мощи: знак духовной длительности, вечности, времени и всех идей, сюда относящихся: буква замечательная по своей природе гласной; но которая теряет все свои свойства, переходя в состояние согласной, в каковом она живописует одну лишь материальную длительность, род связи или движения».
5. ו OU, W «Эта буква представляет образ наиболее глубокой и наиболее непостижимой тайны, образ узла соединяющего или точки, разъединяющей бытие и небытие. Это – обратимый универсальный знак, знак, переводящий от одной природы к другой; сообщающийся, с одной стороны, со знаком света и духовного чувства ן, который есть он же самый, но более возвышенный, и соединяясь с другой стороны, при своем выражении, со знаком мрака и материального чувства ע, который опять-таки есть он же, но более пониженный».
6. ל L «Знак расширительного движения: он прилагается ко всем идеям протяжения, возвышения, занятия места, завладения. Как конечный знак, он есть образ мощи, происходящей из возвышения».
7. <То же, что> = 2.
При изъяснении «корней», т. е. парных сочетаний букв, Фабр д'Оливэ поясняет, что «корень» אל, LA живописует прямую линию, действие, простирающееся беспредельно, не знающее границ, не имеющее пределов, которые бы его ограничили. Итак, в имени Мариула звуками передано пассивное и вместе с тем внешнее действие природы женской, разумея эту характеристику пола в плане низшем, материальном. Это действие захватывает пространство, беспредельно простирается вперед, потому что имеет собственное движение. Это есть проявление внутренней мощи, но не в высшем своем светоносном плане, а на границе бытия с небытием, – хотя и не чисто вещественное движение, но нечто близкое к нему. «Корень» וי, IW, IOU, по д'Оливэ, знаменует желание проявить себя и выражение этого желания. И конечным «корнем» אל, LA, носящим характер суффикса, это основное значение имени еще раз скрепляется: это женское действие, простирающееся беспредельно вперед, это желание материнства, этот позыв проявить себя и раскрыться близки к материальному, устремляется в пространство, не зная себе ни границы, ни цельности, ни внутренней меры.
Мы взяли неуклюжие и слишком краткие, чтобы быть достаточно расчлененными, характеристики звуков, данные в другой стране более столетия тому назад человеком, даже не прикасавшимся к русскому языку. Однако хотя и нескладно, но разве не точно определяет этот звуковой анализ основной замысел поэмы Пушкина? Стихийную женскую душу, наивно не знающую никакого запрета.
Любопытно применить к тому же анализу «органический алфавит» де Бросса8. Как известно, он выражает гласные звуки длиною голосовой трубы, соответственно опуская горизонтальную черточку на вертикали – схеме самой трубы (подробностей и тонкостей здесь касаться не будем); согласные же он дает схематическим изображением производящих их органов, артикулирующих звук голосовой трубы, причем более точно место и способ артикуляции обозначает соответственно поставленными точками и другими знаками. Основных знаков для гласных у него шесть: схемы

Транскрибированная «органическим алфавитом» речь чрезвычайно наглядно представляет фонетическую свою природу, причем ясно видны как основные ее звуковые линии, так и малейшие частности.
В нашем случае имя Мариула будет написано

В смысле гласной стороны имени мы видим, как постоянно восходит (по вертикали) кривая высоты звука, имея наибольшее тоническое ударение и наибольшую долготу звука на гласной, по природе наиболее высокой. Кривая тонической высоты совпадает с кривой фонической высоты, чем достигается величайшая плавность, органичность и звуковая цельность имени. Что касается до согласной артикуляции звука, то и тут обнаруживается «органическим написанием» плавная последовательность применяемых органов: углы губ, конец языка, небо и снова язык, теперь уже в средней своей части. И эта кривая углубления в голосовой орган свою вершину имеет там же, где и кривая гласного звука. Это великолепный звуковой организм, тесно сплоченный, в котором каждый звук служит крепости целого. И все это целое имеет вознести возможно выразительнее вершину свою – звук у, доминанту всей поэмы. Следовательно, важно вдуматься в этот звук.
Возвращаемся к Фабру д'Оливэ. «ן О, OU, W. Эта буква имеет два весьма различные гласные значения, а третье – согласное. По первому из этих гласных значений, она представляет человеческий глаз и становится символом света; по второму она представляет ухо и становится символом воздушного ветра, звука; в качестве согласной, она есть эмблема воды и представляет вкус и вожделеющее желание. Если рассматривать эту букву как грамматический знак, то в ней открывают образ наиболее глубокой и наиболее непосредственной тайны, образ узла, который соединяет, и точки, которая разъединяет небытие и бытие. В ее световом гласном значении ׂן, это знак интеллектуального смысла, знак по преимуществу словесный… в своем воздушном значении ·ן, это всеобщий обращающий знак, тот, который заставляет переходить от одного естества к другому; сообщающийся с одной стороны со знаком интеллектуального смысла ׂן, который есть он же, но более возвышенный; а с другой – со знаком материального смысла ע, который есть он же, но пониженный; наконец, в своем водном согласном значении это есть связь всех вещей, знак соединительный…» Далее «корень» ןא АО. Потенциальный знак א, присоединенный ко всеобщему обратимому знаку, образу таинственного узла, который связует небытие с бытием, дает один из наиболее трудных для понимания корней… По мере того, как смысл его обобщается, можно видеть, как из него рождаются все понятия о похотении, о вожделевательной страсти, о смутном желании; по мере того, как он суживается, там можно открыть только чувство недостоверности и сомнения, которое угасает в союзе или». Вот подлинные слова писателя. Теперь спросим себя:
Разве Фабр д’Оливэ говорит не о «Цыганах», своею характеристикою у? Разве не на контрасте сильного у, у беспредельного свободного желания (стихия цыганства) и слабого у, у – сомнения и рефлексивного раздвоения (стихия беспочвенной цивилизации), построена поэма Пушкина?
Но проверим наконец разбор имени Мариула и всей поэмы, как выдвигающей звук у, звуковою живописью другого поэта.
Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.
И шумя и крутясь, колебала река
Отраженные в ней облака;
И пела русалка – и звук ее слов
Долетал до крутых берегов.
И пела русалка: «На дне у меня
Играет мерцание дня;
Там рыбок златые гуляют стада;
Там хрустальные есть города.
И там на подушке из ярких песков
Под тенью густых тростников
Спит витязь, добыча ревнивой волны,
Спит витязь чужой стороны.
. . . . . . .
Так пела русалка над синей рекой,
Полна непонятной тоской…9
Вот эта-то непонятная женская тоска, влажная и водная, свободная и беспредельная как волна, женская хаотическая сила, тоскующая по властно наложенном на нее пределе и бунтующая против всякого предела бессильного, в Цыганах противопоставлена духовно ничтожному и потому бессильному Алеко, в «Русалке» – мертвому витязю чужой стороны. Та же инструментовка на у – в «Мцыри», при противопоставлении бессилия человека вообще, особенно мужчины, запертого в стенах культуры, – женской стихии свободной и вольнолюбивой природы. В песне рыбки – тот же образ женский и влажный, – в завершительной строфе рыбка раскрывает движущую силу своего призыва – любовь свою – неосуществимую любовь свою к утонувшему отроку; опять тут слышится то же зовущее у:
О милый мой! Не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю, как вольную струю,
Люблю, как жизнь мою…
И тот же мотив неудовлетворенного желания, влажной стихии и нечеловеческой любовной тоски в аналогичной «песне русалок» – у Пушкина.
Но эта тоска по бесконечности в стихийной жизни, томление хаотической воли выразиться и притом не ограничить себя образом и формою – это у внутренне противоречиво. Призывая к безмерной полноте, оно губит: у на границе бытия и небытия. В томлении по этой границе и невозможности достигнуть ее не уничтожаясь, в стремлении человека слиться с природой, с ее рождающими недрами, но вместе – избежать ее губительной и всепоглощающей бездны – в этой внутренней противоречивости и заключен основной трагизм байроновского мирочувствия.
III
Художественные типы – это глубокие обобщения действительности; хотя и подсознательные, но чрезвычайно общие и чрезвычайно точные наведения. Художественный тип сгущает восприятие и потому правдивее самой жизненной правды и реальнее самой действительности. Раз открытый, художественный тип входит в наше сознание как новая категория мировосприятия и миропонимания. Но если так, то было бы решительно непонятно, почему, доверяясь чуткости художника вообще и вверяя ему для переделки свой глаз, который видит, и свой ум, который мыслит, – почему мы могли бы вдруг сделаться подозрительны в отношении самых имен, около которых и, – скажем прямо, – из которых выкристаллизовывается в художественном творчестве эта новая категория мировосприятия и миропонимания. Непостижимо, по какому праву, на каком основании мы позволили бы себе усомниться во внутренней правде того, на средоточной необходимости чего особенно настаивает зоркий и чуткий исследователь действительности. Признав частности, как можно отвергать главное? Если бы дело шло об отдельном типе, открытом отдельным мастером слова, то, – не будем спорить, – в таком случае сомнение не исключено, но лишь поскольку он именно представляется исключительным. Однако речь идет не о возможной неудачности того или другого имени, от которой словесность не застрахована, как не обеспечена она и вообще от неудачно сформированных типов, а об именах вообще. И тут, объявление всех литературных имен вообще, – имени как такового, – произвольными и случайными, субъективно придумываемыми и условными знаками типов и художественных образов, было бы вопиющим непониманием художественного творчества. Кто вникал, как зачинаются и рождаются художественные образы и каково внутреннее отношение к ним художника, тому ясно, что объявить имена случайными кличками, а не средоточными ядрами самых образов, – все равно, что обвинить в субъективности и случайности всю словесность, как таковую, по самому роду ее.