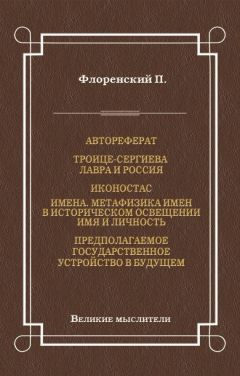– Но как же? Иконописные образы стоят ведь в каком-то отношении с предметами действительности и, следовательно, иконописцу неизбежно как-то передать и тени на этих предметах?
– Ничуть, ибо иконописец изображает бытие, и даже благобытие, тень же есть – не бытие, а простое отсутствие бытия, и изображать таковое, т. е. характеризовать чем-то положительным, каким-то присутствием, наличием бытия, было бы коренным извращением онтологии. Если мир есть художественное произведение своего Творца, а художественное творчество есть проявление богоподобия человеческого, то естественно ждать и какого-то параллелизма между творчеством по существу и творчеством по подобию. Естественно ждать, что разные фазисы искусства наиболее всечеловеческого и наиболее святого повторяют основные стадии метафизического онтогенезиса вещей и существ. Да и в порядке психофизиологическом было бы странным изображать то, в чем нельзя не видеть просто частичной ослабленности или даже полного отсутствия некоторых впечатлений.
– Однако ты же не можешь отрицать, что в живописи тень изображается, особенно в акварели это явно, когда светлые места остаются не тронутыми краской, тогда как в тенях краска накладывается. Это и неизбежно, потому что художник идет от света к тени, или от освещенного к темному. Да и метафизически иначе, по-видимому, не должно быть: в онтологии, как и в познании, omnis determinatio est negatio139,– чтобы выработать форму, чтобы дать предмету индивидуальность, determinatio, необходимо отринуть некоторую полноту. Познание – анализ, разложение, выделение; познаем вещь – как бы вырезая ножницами ее периферию из окружающего пространства. Не иначе поступает и живописец. По-моему, он при таком способе действия остается вполне верным философии…
– Возрожденской. Все сказанное тобою повторил бы и я. Но ты забываешь, что есть и обратная философия, а следовательно, должно быть и соответствующее ей художество. Право, если бы иконописи не существовало, il faudrait l’inventer140. Но она есть – и так же древня, как человечество. Иконописец идет от темного к светлому, от тьмы к свету. Ведь наше обсуждение иконописной техники было сделано именно ввиду этой особенности ее. Отвлеченная схема: окружающий свет, дающий силуэт – потенцию изображения и его цвета; затем постепенное проявление образа; его формовка; его расчленение; лепка его объема чрез просветление. Последовательно накладываемые слои краски, все более светлой, завершающиеся пробелами, движками и отметинами, – все они создают во тьме небытия образ, и этот образ – из света. Живописец хочет понять предмет как нечто само по себе реальное и противоположное свету; своею борьбою со светом – т. е. тенями, при помощи теней, он обнаруживает зрителю себя, как реальность. Свет, в живописном понимании, есть только повод самообнаружения вещи. Напротив, для иконописца нет реальности, помимо реальности самого света и того, что он произведет.
Чтобы получить индивидуальность вещи, незачем что-то отрицать, да и нечего отрицать, ибо, пока она не создана светом, до тех пор ее вовсе нет; конкретность же свою она получает не путем отрицания, а положительно, творческим актом, взыгранием света. Ничего не было; творческим актом стало ничто, положительное ничто, зародыш, зачаток вещи; и пронизываемый светом, он начинает формироваться, лепиться, пока не проявится световое образование. То, что наиболее существенно определяет форму, – то просветляется наиболее; менее знач[а]щее – и просветлено менее. А точнее, на чем почил свет, то и выступило в бытие в меру просвещенности141. Бытие, конкретность, индивидуальность – положительны, Божественное «да» миру, осуществленный творческий Глагол, потому что глас Божий воспринимается нами как свет, а небесная гармония – как движение светил. Не без причины глубокие поэты прослышивали в свете звук. А то, что Богом недосказано, что сказано вполголоса, – в том мы видим меньший свет; но и меньший, он все же свет, а не тьма: полная тьма, полная тень абсолютно невоспринимаема, ибо не существует, есть отвлеченность. И не без причины один выдающийся гравер нашего времени самые глубокие тени, так же как и невидимое, но присутствующее в сознании, передает – не изображает, а именно передает – отсутствием краски, абстрактной белизной чистой бумаги142. В конце концов все сводится к тому, верить ли в онтологическую первичность и самодовлеемость мира, самосозидающегося и саморасчленяющегося, или же верить в Бога и признавать мир Его творением. Возрожденская живопись, хотя и не всегда последовательно, служила первому миропониманию, а иконопись избрала своей основой – второе. Отсюда разница в их приемах.
– Это143 – вытекает из всего предыдущего, но желательно подвести итог разъяснению, что нужно думать о свете в западных произведениях, потому что в них ведь свет есть, даже световые удары в виде бликов.
– Да, это вопрос существенный. Но чтобы ответить на него по справедливости, необходимо твердо помнить, что западное искусство ни в одной своей особенности, т. е. противоположности иконописи, никогда, даже в самых крайних своих течениях, не было до конца последовательно.
Иконопись есть чисто выраженный тип искусства, где все одно к одному: и вещество, и поверхность, и рисунок, и предмет, и назначение целого, и условия его созерцания; эта связность всех сторон иконы соответствует органичности целостной церковной культуры. Напротив, культура ренессансовая в глубочайшем существе своем эклектична и противоречива; она аналитична[,] дробна, сложена из противоборствующих и стремящихся каждый к самостоятельности элементов. Не иначе обстоит и с ее искусством: оно держится, – и в своем отрицании теократической цельности жизни, – соками средневековых своих корней, и если бы вплотную стало вырывать из себя питающие его традиции, то пришло бы к простому самоуничтожению.
Возьми хотя бы самое простое: много ли осталось бы от возрожденского искусства, если бы были исключены из него религиозные сюжеты, и что двигало бы его, если бы изъять церковные побуждения? Тут не место входить в эти вопросы. Я хотел сказать только, что не всегда и не во всем это искусство держится своего собственного воззрения на свет, как на внешнюю, физическую энергию, в противоположность церковному пониманию света, как силы онтологической, как мистической причины существующего.
– Ты хочешь сказать, что в западной живописи предмет есть сам по себе, а свет сам по себе и соотношение между ними – случайное: предмет только освещается светом, и потому светлые места, в частности блики, могут прийтись где угодно. Они случайны в отношении к предмету, но взаимное отношение их – не случайно, и оно определяет некоторый другой предмет, да, предмет среди предметов – световой источник.
Единством перспективы художник хочет выразить единственность зрителя, как предмета, а единством светотени – предметность источника света144. Мне хорошо понятна позитивистически-уравнительная задача этой живописи: для нее нет иерархии бытия, и озаряющий свет, равно как и созерцающий дух, она хочет отождествить с внешними предметами, укладывая их в одной плоскости условного. Но как же в итоге формулировать задачу обратную?
– Прежде всего, сама западная живопись отступает от своего задания, она лучше, нежели собственный ее дух-руководитель. Вот, перспективу она хоть и провозглашает, но в высоких произведениях сознательно отступает от перспективных норм145. Так и с единством освещения. Если бы она до конца признала освещение случайным, я хочу сказать, если бы свет мыслился ничуть не онтологичным, то освещенная форма – форма только освещенная, но ничуть не произведенная светом – была бы совершенно непонятна нам; художник провозглашает соотношение света и формы произвольным, но на самом деле берет освещение не какое попало, а некоторое нарочито подобранное, ибо чувствует, что только оно дает правильную лепку форм. Одно освещение форму проявляет, а другое – искажает, и, значит, по тайному ощущению художника форма, как зрительное явление, дается ему светом, причем может быть дан хорошо, а может – неудачно. Но теперь что значит это «хорошо», как не полусознательно сказанное «онтологично». И потому, коль скоро глубокому художнику потребуется, он нарушает, сознательно нарушает единство светотени, лишь бы лепка форм была возможно существенной.
– Выходит, как будто эта лепка форм делается светом.
– И даже из света. Эту метафизику Церкви более или менее предчувствовали многие: но у некоторых, бывших откровенно художниками и довольно беззаботных в верности ренессансовой науке, эта лепка из света проводилась очень неприкровенно, и тогда вопрос о светотеневом единстве вполне отпадал. Рембрандт – что это такое, как не горельеф из световой материи? Даже ставить вопрос о единстве перспективы и единстве светотени тут нелепо. Пространство тут замкнуто, а источника света вовсе нет; все вещи – склубление светоносного, фосфоресцирующего вещества.
– Но разве к этой фосфоресценции гнилушек стремится икона?
– Конечно нет, ибо в Рембрандте особенно ядовито сказывается возрожденское самообожествление мира, и Рембрандт к трезвому Голландцу относится так же, как Бёме к Кирхгофу и Герцу.
Иконопись изображает вещи как производимые светом, а не освещенные источником света, тогда как у Рембрандта никакого света, объективной причины вещей нет и вещи светом не производятся, а суть первосвет, самосвечение первичной тьмы, этой Бёмевской Abgrund146. Это – пантеизм, другой полюс возрожденского атеизма.
– Но замечательно, в противоположность итальянскому рационалистическому освещению (исключение отчасти магизм Леонардо), север вообще склонен к пантеистической фосфоресценции.
Самое характерное, это самообожествление мира соединяется здесь с отрицанием аскетики, и для свечения не представляется нужным святости, как и вообще в германской мистике высота и ценность постижений не стоит в связи с высотой духовной, чтобы плоть была утончена. Рубенс – яркий пример этого само-свечения тяжелой и грузной плоти. Я уверен, ты не станешь оспаривать этого само-свечения у Рубенса; но мне кажется, ты не обратил внимания на глубокое сродство и Рубенса, и Рембрандта с духовным строем голландской школы: загадочный Рембрандт имеет многочисленных сородичей в лице голландских nature mort’истов.
Мне странно было слышать твои слова о трезвом Голландце: этот дивный виноград, персики и яблоки, эти овощи и рыба – если их называть натуралистичными, то что же тогда метафизика? Ну конечно, это – идея винограда, идея яблок и т. д. И все это совершенно по-рембрандтовски светится из себя…
– Момент само-свечения я не отрицаю в этом nature mort’e; но в противоположность Рембрандту эти плоды и овощи мне представляются отчасти и праведным отношением к миру: в них есть что-то от иконописи, от произведенности светом. Но так или иначе, а единство свето-тени и внешнее отношение света к форме здесь отсутствуют; мы же, как помнишь, поставили вопрос о тенденции западной живописи и противопоставляли ей, а не самой живописи иконопись или ее тенденцию, в данном случае то и другое безразлично.
Иконопись видит в свете не внешнее нечто в отношении к вещам, но и не присущее вещественному самобытное свойство: для иконописи свет полагает и созидает вещи, он объективная причина их, которая именно по этому самому не может пониматься как им только внешнее; это – трансцендентное творческое начало их, ими себя проявляющее, но на них не иссякающее.
– Действительно147, техника и приемы иконописи таковы, что изображаемое ею не может быть понимаемо иначе как производимое светом, так что корнем духовной реальности изображенного нельзя не видеть светоносного надмирного образа, светлого лика, идеи. Но есть ли это только необходимое впечатление, своего рода метафизическая иллюзия, надстраиваемая над иконописной техникой, последствие, не предвиденное иконописцем, или же – действительная метафизика, сознательно выражаемая при помощи иконы?
– А правильно ли поставлена твоя дилемма? Ведь ты спрашиваешь, есть ли иконная метафизика нечто иллюзорное и, следовательно, не заслуживающее теоретического обсуждения, поскольку не имеет разумной ценности, или же нарочито проводимая в иконе отвлеченная теория, так что, следовательно, икона должна пониматься наподобие аллегории. И ты ставишь меня у раздвоения дороги, хотя пойду ли я направо или пойду налево – вынужден буду прийти к одному месту.
– Какому же?
– К отрицанию иконы как наглядно показываемому иному миру. Скажу ли я, что иконная метафизика иллюзорна, – я обездушу икону и сделаю ее только чувственной, или буду говорить о нарочитости ее техники – получится то же. И так и сяк самая икона окажется бессловесной, чувственной, внешней, тогда как духовное содержание будет отвлеченным, отвлеченным от ее наглядности, в одном случае последующей за нею абстракцией, а во втором – ее предваряющей. Между тем смысл иконы – именно в ее наглядной разумности или разумной наглядности – воплощенности. Уж не знаю, ясно ли тебе то отречение, к которому ты меня нудишь своим разделительным вопросом; но мне-то ясно, и, чем отрицать икону, я предпочитаю сделать то же с твоим вопросом.
– Но о таком катастрофическом значении вопроса мне не пришло в голову, да и остается непонятным, в чем, собственно, источник такой опасности.
– А молчаливо вводимое понятие об отвлеченной метафизике, о метафизике как отвлеченной мысли? Все дело в коренном непризнании религиозной мыслью, точнее сказать, разумом Церкви отвлеченных построений как таковых. Церковь отрицает духовную значимость мысли, не опирающейся на нечто конкретное в опыте, и утверждает метафизичность жизни и жизненность метафизики. Когда же речь заходит в более специальном смысле о метафизическом содержании того или другого наглядного явления, то это понимается как параллелизм и связанность двух раскрытий одного и того же конкретного опыта. Ты вот говорил о метафизике и иконописи; но в конкретном опыте точкою опоры той и другой бывает не отвлеченная мысль о природе вещей и не чувственные свойства красок и линий как таковых, а духовный опыт…
– Ты говоришь о видении святого?
– Да, о видении. Впрочем, чтобы пресечь двусмысленное толкование, которое сблизит видение с видимостью, скажем явление – явление святого. И метафизика, и иконопись опираются на этот разумный факт или фактический разум: в явлении горнего нет ничего просто данного, не пронизанного смыслом, как нет и никакого отвлеченного научения, но все есть воплощенный смысл и осмысленная наглядность. Опираясь на это явление, христианский метафизик никогда не утратит конкретности, и, следовательно, всегда ему будет предноситься иконопись, а иконописец, опираясь на то же явление, не даст голой техники, лишенной метафизического смысла. Не потому, чтобы христианский философ сознательно сопоставлял онтологию с иконописью, он будет пользоваться терминами и образами этой последней; и иконописец выражает христианскую онтологию не – припоминая ее учения, а философствуя своею кистью. Не случайно древние свидетельства – высоких мастеров иконописи называют философами, хотя в смысле отвлеченной теории они не написали ни одного слова. Но, просветленные небесным видением, эти иконописцы свидетельствовали воплощенное Слово пальцами своих рук и воистину философствовали красками. Только так может быть понимаемо бесчисленно повторяемое отеческое утверждение, многократно засвидетельствованное в своей истинности постановлениями Вселенского Собора, о равносильности иконы и проповеди: иконопись для глаза есть то же, что слово для слуха148. Итак, не потому, что икона условно передает содержание некоторой речи, но потому, что и речь, и икона непосредственным предметом своим, от которого они неотделимы и в объявлении которого вся их суть, имеют одну и ту же духовную реальность. Свидетельство же о мире духовном есть, по воззрению всей древности, философия. Вот почему истинные богословы и истинные иконописцы равно назывались философами.
– Итак, ты хочешь сказать, иконопись есть метафизика, как и метафизика – своего рода иконопись слова.
– Да, и в силу этого можно наблюдать непрестанный параллелизм той и другой деятельности, хотя сознательно или, лучше сказать, нарочито он не имеется в виду. Так, в стиле: поразительно явно словесное барокко в богословии XVII, особенно XVIII века, и, право, в богословских трактатах и проповедях того времени мне просто зрительно видятся круглящиеся, продуманно-запутанные складки и церемониально выплясывающие движения; подобное же соответствие во все времена, и тема о внутреннем соответствии богословия и иконописи как по содержанию, так и по стилистике ждет своего исследователя. Но мне-то сейчас хотелось отметить самое главное, метафизику света, ибо она есть основная характеристика иконописи.
– Мне известно, высшими и познавательно ценнейшими в древности восприятиями – еще до-христианской древности – признавались зрительные и слуховые. Когда Гераклит говорит: «Глаза и уши – свидетели ненадежные»149, он хочет сказать: «даже глаза и уши» – все чувственное восприятие насквозь. Известна мне и превосходнейшая пред слухом оценка зрения, по крайней мере в греческой философии150. Известна характеристика эллинского мышления как опирающегося именно на зрение, почему и в платонизме духовная сущность вещи определяется как вид, είδος151, а не слух, запах и пр. Наконец, высшее постижение метафизических причин бытия в античной философии относилось к световым озарениям. Да и вся платоническая онтология была, конечно, построена по схеме зрительной, коль скоро вся действительность, нас окружающая, признавалась смешением, соединением, слиянием тьмы-небытия и видов, или идей, бытия, причем метафизической причиной этих последних признавалось солнце мира умного, идея блага, или благо, т. е. источник света. Всякому, кто прикасался к Платону, не могла не быть явной конкретность понимания Платоном этого умного света и неслучайность именно такой конкретности, поскольку Платон опирается на мистериальный опыт. Впрочем, на эти темы говорить можно весьма много, а я-то хотел высказать предположение, что, наверное, ты признаешь церковное учение, как вообще связанное с платоновской традицией, близким к этому кругу понятий.
– Да, и тут выразительно самое словоупотребление: в церковном языке слов, сложенных со «свет»152, вроде: светлоносец, светлообразный, световержение, светодавец, светодержец, светодетель, светоначальный, светоявление и проч. и проч., имеется по крайней мере с сотню, не говоря о бесчисленных случаях пользования словом «свет» и других производных. Давно замечено, что в литературном произведении внутренно господствует тот или другой образ, то или другое слово; что произведение написано бывает ради какого-то слова и образа или какой-то группы слов и образов, в которых надо видеть зародыш самого произведения…
– И такое место слова-зародыша в церковных произведениях, особенно в богослужебных, конечно, принадлежит свету. В этой преобладающей световой тональности богослужебных творений нечего сомневаться. Но мне хотелось бы услышать более определенно и по возможности сжато выраженное метафизическое учение.
– Уплотненнее Апостола не скажешь.
– А именно?
– «πάν γάρ τΐ φανεροόμενον φώφ έστιν – Все бо являемое свет есть» (Еф. 5, 13)153. То есть все, что является, или, иначе говоря, содержание всякого опыта, значит, всякое бытие, есть свет. А что не свет, то не является, значит, и не есть реальность. Тьма бесплодна, и потому «дела тьмы» называются у Апостола «неплодными» – «τοώφ εργοιφ τοώφ άκάρποιφ τοό σκίτουφ» (Еф. 5, 11). Это – тьма кромешная, кроме154, т. е. вне Бога, расположенная.
Но в Боге – все бытие, вся полнота реальности, а простирающееся вне Бога – это адская тьма, есть ничто, небытие. Да кстати, ад, или аид (άδης, άΐδης), даже этимологически значит без-вид, ά-ρίδης, то, что лишено вида, что существенно невидимо, тьма. Реальность – это вид, идея, лик, а ирреальность – без-вид, ад, тьма155.
Все сущее имеет и энергию действования, каковою и самосвидетельствуется его реальность; а что не способно действовать, то и не реально – как сказано святыми отцами: «только небытие не имеет энергии»156. У тьмы-то, по Апостолу, дела бесплодны, не приносят плода, следовательно, тьма лишена энергии. Это – в собственном смысле слова – ничто, смерть; воссияющий же в ней свет создает здесь или пробуждает от смерти «чадо света»157, и оно приносит плод – «во всякой благостыне, и правде, и истине, искушающе, что есть благоугодно Богови» (Еф. 5, 9; 10).
Итак, плод дел света есть искушение, или исследование (δοκιμάζοντες), воли Божией, т. е. онтологической нормы сущего. Это есть изобличение всего, т. е. познание несоответствия дольнего мира его духовному устою – его идее, его Божественному лику, – и изобличение это делается светом (Еф. 5, 13).
– Вообще говоря, вероятно, бесспорно, что «все являемое свет есть», по церковному учению. Но можно ли, цепляясь за букву этих слов, толковать в смысле онтологическом и иконописном приведенное тобою место из Послания к Ефесянам? Мне кажется, едва ли может быть два мнения о нравоучительности его смысла, но никак не онтологичности. Обрати158 внимание на контекст этой 5-й главы Послания: Апостол увещевает Ефесян «ходить в любви», тщательно избегать блуда и всякой нечистоты, сквернословия, буесловия, смехотворства и т. д., призывает не упиваться вином, внушает повиноваться друг другу в страхе Божием; далее, указывает долг жен – повиноваться своим мужьям и в 6-й главе учит должным отношениям между детьми и родителями, господами и рабами. Следовательно, и изречение «все являемое свет есть», стоящее у Апостола как объяснение, почему чада света имеют силу и долг обличать дела тьмы, тоже имеет смысл нравственно-назидательный.
– Замечания твои справедливы, но не вывод. Ты зовешь к контексту, но тогда позволь и мне сделать то же и обратиться к месту этой 5-й главы – в целом Послании. Но предварительно одно замечание: не берусь доказывать, а только укажу, как сам чувствую.
Послание обращено к жителям Ефеса, славного своим художеством и почитанием Артемиды; этот город был центром магии и производства идолов, даже из Деяний известен случай народного возмущения под подстрекательством Димитрия среброчеканщика159 и, вероятно, других мастеров, с проповедью христианства начавших терять сбыт своим изделиям. В Послании к Ефесянам мне чувствуется скрытое противоположение этому бездушному делу ефесского язычества, представляющегося Апостолу под образом скульптуры, одухотворенного художества Божия, представляющегося под образом древней живописи, технически тождественной с тем, чем стала впоследствии иконопись. В Апостоле Павле, как иудее, и притом высокоученом, идолы не могли не возбуждать органического гнушения, тогда как живопись, особенно живопись античная, несравненно более символичная и по существу далекая от натуралистического подражания, была более приемлема, а своею техникой – светолепкой – шла навстречу библейскому учению о миротворении и платоновской идеологии, близкой к иудаистическому богословию и по существу своего содержания, и исторически, согласно филоновской традиции.
Искусству зрения напрашивается на мысленную антитезу искусство осязания, и, следовательно, искусству света – искусство тьмы. Хорошо известно преобладающее значение осязания в до-христианском искусстве и, следовательно, особая связь этой способности с язычеством. С другой стороны, из отеческой письменности еще лучше явствует особливое отношение осязания, пред всеми другими способностями, с областью, где нарушается чистота. Эти и подобные соображения не могли не припоминаться какою-то боковою памятью и писавшему Послание, равно как и его читателям. Даже там, где Апостол как будто только назидает, пред ним предносится, с одной стороны, образ живописи как плодотворного искусства света, признанного побороть ваяние – бесплодные дела тьмы…
– Ты хотел наметить место этих назиданий в целом Послании.
– О том и говорю… А во-вторых, образ великого Художника, светом зиждущего в «похвалу славы благодати Своея» (Еф. 1, 6) картину мира – все домостроительство Божие. И когда Апостол говорит в самом начале об избрании нас во Христе прежде сложения мира (Еф. 1, 4), а кончает увещеваниями быть чадами света, раскрывая конкретно жизненный образ таковых, то разве не проходит пред нами в великом тот самый процесс, что в малом совершает иконник, начиная с пред-изображения – назнаменования в золоте будущих образов и кончая светом явленными и золотом разделки озаренными изображениями этих чад света.
Впрочем, ты возражал мне против онтологичности апостольского изречения. Отвечаю: Церкви вообще в высочайшей степени чужда мораль, и если говорится церковно о поведении, то это исключительно в смысле онтологии, онтологии жизни, а не моралистически и тем более не юридически. Эта чуждость морали чрезвычайно характерна для Апостола Павла, а в данном Послании – преимущественно. Впрочем, что тут говорить? Кто более Апостола Павла познал тщету и духовную опасность «дел закона»160, попытки спастись моралью? И мог ли он, после всего им пережитого, предлагать нормы поведения вне и помимо веры во Христа, т. е. онтологического питания от Его полноты?
В отношении Послания к Ефесянам указываются три его особенности, резко отличающие его ото всех других.
«Первая из этих особенностей есть высота содержания с соответствующею тому восторженностью речи и многообъятностью мысли. Св. Златоуст пишет: «Говорят, что св. Павел, когда еще изустно оглашал Ефесян, уже доверил им глубочайшие истины веры. По крайней мере оно исполнено возвышенных и необъятных созерцаний […] в нем он объясняет то, о чем почти нигде не писал»161. <…> Видение бесконечных благ, коих мы сделались причастниками во Христе Иисусе, восхищает Апостола и роит в нем святые мысли и чувства в таком обилии и с такою быстротою, что он не успевает схватить их словом. Мысль за мыслью текут неудержимо, пока не исчерпывают всего предмета, воодушевляющего Апостола. И слово множится: ибо Апостолу желалось только очертить всякий умозримый предмет, не останавливаясь, однако, на нем особенно, а помечая его в общей череде текущих чрез сознание умных видений. – Судя по такому характеру содержания Послания и по такому тону речи в нем, оно есть то же между прочими Посланиями Апостола Павла, что Евангелие от Иоанна [между] Евангели[ями].
Вторая особенность сего Послания, – прямое следствие предыдущей, – есть общность. Апостол живописует вообще существо христианства, – как от века Бог положил спасти нас в Сыне Своем, как Сын Божий приходил на землю и устроил сие спасение, как все мы делаемся участниками сего спасения и как вследствие того должно нам жить и действовать. Ни на какие исторические случаи не указывает он. Все, что говорит он, может идти ко всякому обществу христианскому. Видно одно отличие лиц под словами «мы» и «вы». Это «мы» – иудеи и «вы» – язычники, слияние которых в едином теле Церкви о Господе и служило исходной точкой всех увлекавших Апостола созерцаний. Основываясь на такой общности содержания Послания, некоторые назвали его общим христианским катехизисом. <…>
Третья особенность Послания – та, что в нем нет указаний на какие-[либо] исторические обстоятельства ни самого Апостола, ни Ефесян <…> Апостолу не хотелось сходить к каким-либо обычностям среди таких необычных и всеобъемлющих созерцаний, в которых, конечно, продолжал он держаться и по изложении их в слове <…>» (Епископ Феофан. Толкование Послания святого Апостола Павла к Ефесянам. 2-е. изд. М., 1893. С. 19–20). Цель же Послания – пожелать Ефесянам, «чтобы Бог дал им просвещенные очи сердца» (id., с. 109). Апостол «желает, чтобы они были возведены до ясно-зрения духовного, Божественного порядка вещей (экономии спасения), сколько то возможно для нас на земле; ибо желает, чтобы то, что сам он зрит, зрели и они, но выше апостольского зрения не было и не будет» (id., с. 109).
Сообразно с этою целью Апостол излагает в первой части тайну спасения, а во второй части изображает рост тела Христова и жизнь его, причем эта нравоучительная часть, и в общем, и в частном, излагается как конкретное проявление онтологии спасения, все время как золотым фоном подложен[а] духовными созерцаниями, и частности жизни стоят пред сознанием читателя как приложения и обнаружения онтологии. И в нашем случае: не слова «все являемое свет есть» должны быть перетолковываемы в духе правил поведения, морально, но, напротив, смысл этих последних всецело определяется онтологическим значением, по Апостолу, света.
С полною точностью Апостол свидетельствует онтологическую реальность иного мира, узренного им собственными очами, и он хочет, чтобы свидетельство его сделалось семенем таких же созерцаний у верующих. Вполне естественно, что расчлененно высказанное свидетельство о духовном зрении оказывается наиболее точною формулою и вторичного свидетельства о духовном мире – иконописи162.
Маска1б3 выдохлась, и в ее труп вселились чуждые, уже непричастные религии силы. Прикосновение к маске стало оскверняющим; отсюда – строгие церковные запреты против личин и ряжения. Но духовная сущность явлений культуры и тем более Культа не умирает, она преобразовывается, она ведет к новым образам культурного творчества и являет себя сквозь них часто совершеннее и чище прежнего. И в данном случае священная суть маски не только не погибла с разложением ее прежнего образа, но, отделившись от его трупа, создала себе художественное тело. Это – икона. Культурно-исторически икона именно унаследовала задачу ритуальной маски, возведя эту задачу – являть упокоившийся в вечности и обожествленный дух усопшего – на высочайшую ступень. И, унаследовав эту задачу, икона вместе с нею восприняла характерные особенности техники изготовления священной маски и родственных ей культурных явлений, а потому и своеобразия тысячелетиями вызревавших здесь художественных приемов.
Исторически наиболее тесная связь иконы – с Египтом, и здесь именно зачинается икона, как здесь же возникают основные иконописные формы. Разумеется, этот сложнейший вопрос об историческом происхождении иконописи, в которую влились лучшие достижения художества всего мира, так изложенный – есть только схема; но в краткой формуле такая схема была бы наиболее правильной. Следовательно, именно египетская маска – внутренний расписной саркофаг из дерева Древнего Египта – этот футляр на мумию, сам имеющий вид спеленутого тела с открытым лицом, есть первый родоначальник иконописи, а также роспись самой мумии, спеленутой проклеенными свивальниками, по которым наводился гипс. Вот древнейшая паволока и левкас, по которому далее шла роспись водяной краской. Состав склеивающего вещества мне неизвестен, но если бы оно оказалось яйцом, то это не только объяснило бы иконописную традицию, возникновение которой из утилитарных соображений объяснить было бы нелегко, но и глубоко входило бы в теургическую символику египетского искусства, ибо в духе этой религии телесного воскресения было бы вполне естественно покрывать усопшего яйцом – исконным символом воскресения и вечной жизни.