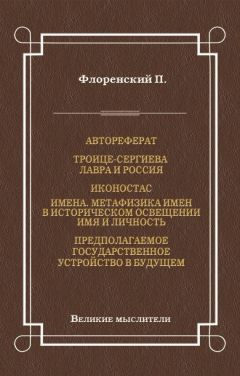Чем выше или глубже выражаемая реальность, тем учащаются эти углы мысли и скопляются противоречия. Речь становится все менее понятной, если брать ее в плоскости метафизического мышления, и все более требуется, для понимания ее, внутренней отдачи себя ее ритму, душевное с нею созвучие. Без этого же она не доходит до сознания собеседника, не потому чтобы он имел возражение против нее, а по неспособности или нежеланию войти в нее. Ибо речь Павла, как и все его мышление, никогда не повествует о внешних фактах, как таковых, и не способна просто извещать, а необходимо, по самой природе своей, служебной в отношении воли, устанавливает сознание на некоторой реальности. Это значит, такая речь никогда не докладывает, а требует определенной установки. И потому, она не может также и быть воспринятою безразлично, чтобы быть «принятой к сведению», но: или делает свое дело, и тогда берется изнутри, по внутреннему ее смыслу, или же выталкивается сознанием собеседника и, не дойдя до сознания, объясняется не ложною, а просто лишенною смысла. Иные слова и речи, т. е. других имен, принимаются потому, что понимаются, а понимаются – потому, что сознаются; Павловы же – напротив: сперва должны быть приняты, тогда понимаются и вследствие последнего – сознаются. Иные слова и речи говорят в ухо и проходят от периферии к центру, Павловы же идут непосредственно в сокровенную волю и из нее уже, как от центра, распространяются кругами к все более поверхностным слоям личности. И потому иные слова и речи не могут не быть воспринятыми собеседником, хотя легко задерживаются по частям, в той или другой из промежуточных областей, на пути к полному утверждению их волею. Павловы же могут быть взяты или целиком, или никак; ибо они целиком метят в точку, относительно которой могут и промахнуться, но это – так, не по расчету или добровольному желанию Павла, а в силу присущего этому имени духовного строения личности. И, сам по себе, этот способ мышления не может ни одобряться, ни хулиться, хотя может нравиться и не нравиться; употребление же его может быть как хорошим, так и плохим. Но само собою понятно, что людям, в подавляющем большинстве, приятно слышать речь, ничего от них не требующую и оставляющую их в пассивной безответственности, и – досадно слышать некоторое требование, побуждающее их к духовному усилию и решению, – досадно быть выводимыми из покоя, хотя бы даже они сознавали правду и пользу требуемого от них. В духовном мире, как и в мире вещественном, царит закон смерти, будет ли он называться инерцией, энтропией, привычкою, пассивностью или ленью. Павел же, каков бы он ни был лично, есть начало обратное смерти, носитель активности: и слово его тем самым идет поперек миру и гладит его против шерсти.
Тут нетрудно усмотреть юродство. И действительно, Павел есть юродивый, хотя и совсем в другом смысле, чем Алексей. В последнем юродство есть некоторая недостача по миру; это именно рыхлость, хлопьевидность волевой и интеллектуальной организации, не дающей Алексею поспевать за миром, хотя и покрываемая с избытком эмоциональными красотами и сочащейся сквозь рыхлую личность энергией других миров. А в Павле юродство наступательно и раскрывается как деятельность вопреки миру и против мира, как борьба с миром, но при использовании всех средств самого же мира, обращаемых тут против него.
В Алексее чего-то не хватает из способности мира, и потому мир давит на него, как на слабое место. Напротив, Павел сам сознает или, точнее, органически ощущает недостаток мира, – здесь мир разумеется в смысле общества и культуры. И он органически же неспособен примириться с этим недостатком и всем существом напрягается против него, т. е. против напора мира. Как сказано, он гладит мир против шерсти и потому, будучи по оценке мира юродом, проявляет юродство активное, даже агрессивное. Алексей сознает себя обделенным, а Павел – видит, что мир обделен, сравнительно с теми возможностями, которые заложены в его, мира, – корнях. Павел знает полноту даров, предоставленных миру, и с болью видит, как человек обделяет себя самого, не давая себе ходу. И потому Павел борется с человеком ради него самого, но остается всегда непонятным и, следовательно, не приведшим этой борьбы к желаемому исходу. В самом главном своем он не способен высказаться, и самое заветное остается поэтому сокровенным и погребенным, сколько бы он ни говорил о нем.
Это ведет к столкновению внутреннему с самим собою и к столкновению внешнему – с окружающими. Если последнее не делается таковым, то лишь по несклонности Павла думать и действовать прямолинейно; но, тем не менее, столкновение с миром у него ни на одну минуту не прекращается.
Пассивное юродство Алексея ищет снисхождения и жалости от мира – и получает их; активное же юродство Павла таковых не хочет и ими не пользуется. Поэтому жизнь этого имени есть неустанное напряжение и усилие, всегдашняя необходимость упираться ногами в землю и, соответственно с этим, недопустимость отдыха и расслабления, хотя бы кратковременного. Диалектическое мышление – это то, которое не ведает покоя на окончательных самодовлеющих выводах и которое сознает себя несуществующим, как только из живой деятельности оно стало готовой вещью; противоположность ему – мышление метафизическое, покоящееся на выработанных понятиях и положениях, самую же выработку их признающую чем-то предварительным и временным. В области мысли, таким образом, Павел не знает и не может знать покоя, а потому не имеет и отдыха, всегда «простираясь вперед и забывая задняя». То же самое – и в деятельности во вне, если только она не является для Павла внешней и потому безразличной. И тут он никогда не берет мир пассивно и потому не имеет отдыха.
У Софии Ковалевской есть две драмы, имеющие одну и ту же завязку, но с известного момента действия движущиеся к противоположным развязкам. Одна из них изображает «как оно было», а другая – «как могло бы быть». Вот это-то расхождение между «есть» и «могло бы быть» подвигает Павла к неустанному внутреннему усилию, чтобы перевести «есть» на «могло бы быть». И близость, сознаваемая им, этого «могло бы быть», при невозможности сказать об них так, чтобы быть услышанным, терзает его и побуждает к столкновениям, однако безуспешно. Его сознание – как у путника, страдающего от жажды и окруженного жаждущими, который магическим жезлом обнаружил под почвой могучую водную жилу, совсем близко, но не может убедить к рытью колодезя. Его знание не только не убеждает прочих, но и не способно облечься в выслушиваемое слово о знаемом. Не то, чтобы слово Павла было непонятно само по себе; напротив, оно хорошо передает свой предмет. Но именно по своему сообразию с самым предметом это слово не сообразуется с привычными словами и формулами общества, и потому идет поперек общественного внимания и не выслушивается обществом. Бывают слова выслушиваемые, хотя и остаются непонятными по своей неоформленности; слово же Павла, в сущности простое, однако не понимается, потому что не услышано. Дар его – дар Кассандры: вещее слово при бессилии убедить. И многими тщетными попытками познав свое бессилие, Павел устает и замолкает, обремененный и изнемогающий под напором невысказанных слов.
До сих пор ничего не говорилось о чувстве Павла; но это не от недосмотра, а в силу самого строения его личности. Ведь чувство есть переход от созерцания к действию; созерцание – уже не чистое, и действие – еще не раскрывшееся. Это субъективность созерцания и задержка действия чужды Павлу, который живет на противоположных полюсах сразу, но не способен находиться между ними. Он знает холод бесстрастного созерцания, эфирную высь, где нет никакого горения воли, где одно только объективное сознание, надмирное и безбурное, где ничего не хочется, где ничего не ждется. Он знает также темные недра земли, всецелое влечение и тягу к свету и оформление. Но если уж сойти с горных вершин, где пронизывает эфирным током, то надо действовать, и мысль о действии без самого действия, т. е. чувство, оценивается Павлом как нечто недолжное и враждебное. Другим именам чувство дает удовлетворение, как замена или суррогат желаемого действия, избавляющее от холода эфирных высот и вместе с тем не налагающее ответственности за проявление в мире; тут чувство согревает и, вместе с тем, мягко изолирует от реальности. Но именно это, и теплота и мягкость, не только враждебны, но и мучительны Павлу; чувство мучительно ему. Ведь оно лишает его блаженного покоя и прохладного бесстрастия горних созерцаний, но не дает и разрешения воли в действии. Павел, как и всякий другой, может быть вынужден обстоятельствами сойти сверху и не дойти донизу, начать действие, которое задерживается. Но, любезная другим, задержка эта жжет его, потому что лишает одновременно обеих родных ему областей, обоих полюсов его личности. И тогда Павел, перестрадав, от боли делает усилие – или довершить начатое действие, или же отрезать его от себя, далеко отбросить и вернуться к созерцанию, хотя бы вопреки самым принуждающим внешним побуждениям. Он делает это не по соображениям отвлеченной морали или целесообразности, а страдая от боли, которая превосходит естественную боль, от насильственного ли прорыва в мир действия, или от отсечения своей живой части. И потому-то Павел не только делает так, но и сделает. Понятно, его не остановит тут враждебная оценка такого действия, освободительного для него, как бы ни судить его извне; и не остановит его жертва частью себя, хотя бы лучшею и наиболее ему заветною. Но и тот и другой исход неминуемо мучительны, либо отрывая личность от ее продолжения в обществе и во всем мире, либо отрывая от нее ее внутренние, уже начавшие формироваться органы, и следовательно, опять препятствуя Павлу в его основном – в воле к воплощению.
Из всего сказанного выводится как итог одно слово: страдание. Павел имеет вообще скорее более среднего, – и по гибкости своего характера и ума мог бы обойти и на самом деле обходит многие жизненные столкновения, угрожающие большинству других имен. И жизненная траектория его поэтому должна была бы представляться плавной и упругой линией, дающей удовлетворение, благополучие и жизненный успех. Но ему не обойти зато других столкновений, несравненно более обремененных последствиями и несомненно более болезненных, чем те, обходить которые он приобрел преимущество перед другими именами. Внутреннее противоречие воплощается и во вне и ломает и разрывает плавную кривую его жизни. Основное ощущение поэтому есть тут страдание, связанное с самою природою имени, но, вместе с тем, лишь утверждающее основную веру Павла в необходимость воплотить в жизни начало духовное, – не потому что существовать без него неправильно, а потому что просто невозможно.
XVI. Людмила
1925.I.6
Немил я, хоть и мил,
А ты, хотя Людмила,
Но людям не мила
И им не станешь мила.
Может быть, это сказано и несколько заостренно, как всякая характеристика, втиснутая в слишком малое место. Но, тем не менее, – это верная характеристика, верное наблюдение, нередкой в ономатологии поляризации имен. Там, где имя очень ясно и бесспорно в своей этимологии, где его этимологическое значение навязывается сознанию и притом имеет характер не символический, а слишком явно тождественный, – там склад личности нередко оказывается в прямом противоречии с этимологическим значением имени. Не то, чтобы между именем и личностью, точнее – между этимологическим значением имени и значением энергетическим его, нельзя было уловить связи вовсе. Напротив, внимательное проникновение в имя и в личность, носящую его, позволяет открыть нити, тянущиеся от имени к личности, позволяет уяснить себе ту первоначальную ткань, которая переродилась в данную личность, и ткань эта явно определяется рассматриваемым именем. И когда это вскроется, то становится ясна символическая отображенность имени данною личностью, этимологическому значению своего имени не только противоречащею, на поверхности, но и утверждающей это значение, слоями своими более глубокими. Тут открывается возможность видеть и понять не только то, что данная личность вопиюще нарушает этимологическое значение своего имени, но и то, что не случайно она носит его, что энергия ее имени действительно в ней действует, хотя и вызывает действие неожиданное, однако все-таки оно – деятельность этого имени, а не какого-либо другого. Личность, как и вообще всякая конкретность, воплощая умную сущность, являет ее в себе и собою символически, как художественный образ. Когда умная сущность явно далека от возможности рационалистического объединения и упрощения по одному признаку, то художественное воплощение ее в личности не дает разрыва между символом и первообразом – именем. Когда же этот первообраз (хотя и тут неспособный быть рационалистически расплющенным) ближе к плоскости рассудочной и легче допускает насилие над собою, обращающее его из идеи в понятие, тогда личность, воплощающая данное имя, легко может по крикливо навязывающемуся отвлеченному признаку имени, именно по нему, не подчиниться имени и, в ответ на его навязчивое требование – иметь некоторый определенный признак, быть ходячим олицетворением этого признака, – она показывает прямо противоположное, онтологически волит показывать противоположное. Может быть, тут она побуждается к этому восстанию на свое имя глубинным целомудрием, которое не дозволяет ей ходить с вывеской на лбу, объявляющей всеми буквами, олицетворением какого отвлеченного признака должна быть эта личность по рассуждению толпы. Но, одеваясь признаком противоположным, в глубине своей личность освещается все-таки этим отрицаемым на поверхности признаком, и свет его просвечивает невнятно сквозь собственное, более поверхностное, отрицание.
Нам представляются приторными и выдуманными старинные произведения, где действуют лица с именами, значение которых слишком явно указывает на добродетели и на пороки. Неприятны тут не только, или скорее не столько, чрезвычайность их добродетели или порока, как формальное заявление о тех и других самыми именами: по опыту, запасенному и отложенному в нас веками, но бесспорно присущему нам непосредственному чутью имен, как бы это чутье ни объяснялось, мы не верим этому прямолинейному совпадению отвлеченно-логической вывески с психологическим и нравственным, а тем более – телесным содержанием у личности, и представленный образ, в его цельности с именем, оценивается нами как невозможный и потому – художественно фальшивый. Lucus a non lucendo – подсознательно это знает каждый и каждый знает из жизненного опыта, что люди с чересчур явно благочестивыми фамилиями – редко бывают благочестивыми. Constantinus – propter inconstantiam. Точно так же, или даже еще более, по особенной ясности этимологии, Людмила, – и в отношении этого имени:
…… хотя Людмила,
Но людям не мила
И им не станет мила.
Да что тут особенно отцеживать: Людмила – грубиянка и такова не по какой-либо случайности. У нее – сильные порывы, но грубоватые, грубые, – в басовом ключе несколько осипшие. Сбивает с ног всех встречных на пути ее порыва. Но порыв с расчетом – не ей; она грубиянит самому расчету, она ищет бурных столкновений с жизнью и в них не щадит себя. Но это – и не темперамент, не огонь в крови и в душе, который расплавленным потоком стекает в определенную ему вожделенную сторону. Людмила не хочет чего-либо определенного, не добивается этого и вообще сама не знает, чего она хочет, т. е. в смысле содержания: ей нужно не определенное содержание, то или это, а форма бурных столкновений, грубых проявлений. «Ищет бури, как будто в бурях есть покой». Ей тягостна тихая речь, а нужны выкрики. Тепло, уют, довольство ею не только не ищутся, но, напротив, отвергаются с негодованием, отбрасываются, отшвыриваются, как нечто презренное и гадкое. Ее облик, в собственном ее воображении, влекущий ее образ себя самое, это – потрясение, потрясение знаменем, флагом, может быть крестом, вообще потрясение чем-либо, довольно безразлично, чем именно. Бушует буря, громыхают марш барабаны и грубые медные трубы, свищут пули, кругом – напряжение страдания и ужаса. А она потрясает чем-то, куда-то ведет, какие-то толпы спасает и к чему-то выводит. Такою она представляет себя в своем расцвете, на вершине своих достижений. Но для нее остается неясным и более или менее безразличным, кого ведет она, куда выводит: важен самый подъем, Бетховенский дух беспредметного восстания, натиск стихий, сметающий все тихое и уютное, хотя ей порою не предлежит какая-либо цель, внутренно оправдывающая эти порывы. Это – полная противоположность эпосу, это – ревущее море звука Бетховенского Эгмонта, захватывающее и подымающее, если безумно отдаться ему, и – пустое кипение в котле с водою, если вспомнить, что слабою мотивировкою всего этого шума служат политические страсти, весьма сомнительные в своей правоте, и вдобавок давно-давно отшумевшие и ушедшие в область эпоса, хотя и довольно мелкого.
Вот так именно Людмиле хотелось бы плыть на плоте из бочек и бревен по громоздящимся валам океана, при блеске молний и в роли капитана умирающих от холода и голода несчастных, – непременно несчастных путешественников. Но этот образ, как и другие подобные, для Людмилы – не театральный эффект, не тщеславие и желание удивлять и удивить собою, а подлинное потрясение. «Это – я», – жаждет сказать Людмила, но хочет при этом подлинного потрясения, подлинного подъема, подлинного подвига и эффектом, одним только эффектом, ролью эффектною, никак не удовольствуется.
Людмила хочет эффекта, но не аффектации. Это – честная натура, преувеличенная в своей честности, подчеркнутая в ней, грубая в честности. И внутренно, и внешне честная, «такая честная, такая правдивая, что всякому дам в морду, в честности и правдивости не спущу ни миллиметра». Все представляются ей дряблыми, вялыми, фальшивыми. Она признает только героев и склонна в том или другом, время от времени, усматривать идеальный облик героя. Но, как только обнаружится малейшая слабость, мягкость, непрямолинейность признанного героя, как он мгновенно сшибается с пьедестала пинком и обливается презрением – он, обманщик, дряблый и трусливый, негодяй, не лучше всего прочего презренного стада человечишек, подлых и корыстных.
Людмила – героическая натура, может быть не столько даже героическая, сколько желающая быть таковою. Она понимает героизм очень элементарно, как и благородство, которое отрицает почти за всем светом и которое в превосходной степени утверждает за собою. Ей даже в голову не придет сомнение, в самом ли деле ее благородство так бесспорно и дает ей право презирать всех окружающих. Когда Бетховен стал на дорожке, чтобы заставить Герцога Веймарского, Гёте и свиту обходить его по газону, то, вероятно, Бетховена осенила та самая, счастливая мысль о своей независимости и своем благородстве, не в пример прислуживающемуся Гёте, которая обычно вдохновляет Людмилу.
Ей ненавистно довольство, но там, где несчастие и горе, она – на своем месте; там она забывает о жестком осуждении людей и готова на всякую жертву, порывистую и без оглядки. Она делается тут находчивой, предприимчивой, может повести за собой, влить энергию, овладеть положением и – в самом деле вывести. Сестра милосердия, фельдшерица, маркитантка, революционная деятельница – она тут на своем месте. Не отличаясь вообще глубоким умом, чуждая созерцания, она оказывается тут нередко, своим порывом, не знающим оглядки, своею грубостью, не задерживающейся подробностями и оттенками, умнее умных. Она рубит топором, хватается за топор согласно основному своему увлечению к действиям грубым, когда другие, более ее опытные, стали бы применять тонкие, ею презираемые инструменты; и в минуту опасности может оказаться более правой в своей грубости, нежели другие – в их тонкости и осмотрительности. Здесь она ведет, теперь милая людям, да, людям, а не человеку. Она, в героические моменты, мила толпе. Человеку же она не мила, да и не хочет быть милой, и потому грубиянит ему, человеку: слишком мелко, слишком мягко, слишком мало, по ее оценке, быть милою отдельным человекам.
XVII. Вера
[?]
Как имя насквозь прозрачной этимологии и притом не выходящей за пределы языка, из которого оно заимствовано, имя Вера не обросло еще мхом истории и в нем нет таинственных закоулков, отношение которых к целому плану постигается интуитивно, но не выводится элементарными умозаключениями. Хотя и выражающее понятие вполне противоположное рассудочности, это имя далее развивает содержание своего понятия прямолинейно и почти рассудочно. В пределе, можно уже говорить о нем, как о рационалистической, по методу обработки, иррационального по содержанию понятия веры. Богословие XVII–XIX веков обращалось с глубочайшими тайнами духа прямолинейно рассудочно и именно их особенно охотно делало предметом своего анатомирования, от чего тайна не делалась явною, однако становилась скучною. Так Вера, выбирая свои пути наперекор рассудку, и даже с азартом и упрямством опрокидывая рассудочные преграды, идет далее по избранным путям с рассудочною последовательностью, как если бы ехала по рельсам. В ней странное сочетание безрассудности и последовательности, именно рассудочной последовательности, поэтических исходов и добродетельной скуки: ибо идет она по путям своим, раз они выбраны, не силою вдохновения, интуиции или хотя бы темперамента, а именно с добродетельною последовательностью и почти математическим долгом переходит к пределу.
Ей чуждо символическое мышление, недоступно понимание, что тайна обличением разоблачается, как и наоборот – сокрывается лишенная покровов.
Вера есть обличение вещей невидимых. И действительно, имя Вера дает силу приходить в отношение с тем, что не дано чувственно и что отрицает наличное чувственное; ей дано получать весть об уповаемом и уверенность в чувственно не воспринимаемом. Она ставится воочию пред тем, что еще не выражено, а может быть, и никогда не будет выражено. Но это невыраженное Вере ближе и дороже, чем окружающее ее, выраженное. Она определяется в своих исходных решениях именно этим, невыраженным вопреки всему тому очевидному, что ее окружает. И потому мотивы ее поступков, или, правильнее, ее поведения, непонятны окружающим. Отдельные поступки Веры очень логично вяжутся между собою, но самые ряды их, в целом, рассматриваются как оскорбляющие здравый смысл и вызывают противление, а то и возмущение.
Вера в основных своих решениях делает неожиданность не только окружающим, но и себе самой. Она вдруг ломает расчеты, традиции, приличия. Но далее она уже не возвращается к сломленному и делает свой поступок началом нового связного рода, – т. е. новых расчетов, новых традиций и новых приличий. Иначе говоря, она идет путем новым по направлению, но обычным по своему характеру. Вступление на него трагично и легко может повести к гибели. Но следование этому пути, само по себе, уже не есть прыжок, а – относительно покойное преследование поставленной цели. Идти по этому пути сознается Верою как долг и добродетель. Окружающие сперва бывают потрясены этим новым путем, но затем, видя внутреннюю последовательность Веры, начинают считаться с фактом. Окружающие видят, что путь Веры разошелся с их установленным путем, и тогда наступает холодность. У них нет данных принять путь Веры и оставить свой, ибо для этого необходимо уверовать в него. Но последовательность Веры и доступность рассудку ее пути в его целом заграждают уста решительному осуждению его. Он, в исходе своем, не мотивированный, в дальнейшем не представляет странности юродства и загадочности символизма, он просто не сходится с путем окружающих и потому способен вызывать скорее мелкие столкновения, нежели существенную борьбу против себя.
В своем мышлении, как и в своих поступках, Вера четка и определенна. Ее натура отличается честностью, и честность, кроме того есть первая заповедь Веры, ставимая себе сознательно и исключительно, с подчеркиванием и противопоставлением многим другим заповедям. Все это делает мышление и поступки Веры расчлененно-ясными и упрощенными в их, притязающей на безупречность и предельность, ясности: нет ничего затаенного, ничего недосказанного. Однако ясность сообщает облику Веры некоторую нарочитую элементарность, не делая его, однако, тем действительно прозрачным. Вера – не хрустальный ручей и не музыка Моцарта; Вера лишь думает, что она такова. На самом же деле за поверхностным слоем общепонятности идут интуиции, предчувствия и немотивированные влечения, отнюдь не прозрачные, но в то же время не настолько глубокие, чтобы снова стать убедительными в качестве откровения иного мира. Они представляются поэтому чем-то произвольным, – если и не капризом и не взбалмошностью, то все-таки своеволием и своенравием. Не прозрачные логически и, вместе, не полновесные онтологически, интуиции Веры близки к мечтаниям, но, с пользою для Веры, не содержат в себе влажного тепла, свойственного настоящей мечтательности. В Вере есть нечто родственное Варваре, но Вера суше, чем она, обладает меньшим напором стремлений, меньшей разгоряченностью и, так сказать, менее крупными чертами всей своей организации. Как и Варвара, Вера жертвенна, влечется к жертве и делает себе из нее долг и страсть, одновременно. В Вере живет преувеличенная оценка героизма, который для нее сводится главным образом к жертве, какое-то принятие всерьез ложноклассической трагедии. Прямота, не-лукавство, огромная верность, равно как и упомянутые выше честность и жертвенность Веры, тоже – роднят ее с Варварою; но они выражены в Вере пропорциональнее и тоньше, с большим чувством меры и здравого смысла, так что не ведут Веру к тем резким диссонансам с жизнью окружающих, как это постоянно бывает с Варварою.