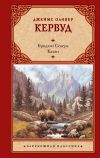Текст книги "Флаги осени"

Автор книги: Павел Крусанов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Два дня я пребывала в трансе – и от самого спектакля, и от его в полном смысле трагического финала. На третий день мне пришла в голову мысль, что раз дебош в фойе был инсценировкой, то и врач неотложки тоже мог оказаться лицедеем. Однако, прислушавшись к своим ощущениям, я отвергла эту мысль как кощунственную. Нет, так притвориться мёртвым нельзя. Без сомнения, всё было подлинным – сценическая жизнь оказалась прожита насмерть. Эти отважные ребята, вооружившись, возможно, рискованными спиритическими практиками, просто вызвали в тот скромный зал бога театра. Вызвали, и он пришёл. Не их вина, что этот бог оказался кровожаден и потребовал жертву. Что же, дела с богами и духами (пусть это всего-навсего духи сцены) редко сводятся к невинным шуткам – голодный дух всегда стремится овладеть подвернувшимся телом, таково его заветное влечение, и будьте уверены, он непременно разрушит захваченное обиталище, прежде чем будет вынужден его покинуть. Никогда не следует упускать этого из вида.
В обстоятельствах того вечера мне показалось неуместным знакомиться с режиссёром постановки (в афише не было указано ни одной фамилии, так что и режиссёр, и актёрский состав «реального театра» анонимны). А жаль! Не побоюсь предположить, что на нашей театральной сцене обозначилось явление, которое способно по-настоящему, без суетливого новаторства в области формы и самозваного перекраивания классической драматургии, смутить умы и чувства, явление, достойное не только пристального внимания, но и дающее новую, высокую цену самому обесцененному слову «театр».
5
Как случилось, что Катенька забеременела, она не поняла сама. Точно была в забытьи, потом очнулась и – бац – готово. Этого не должно было произойти, никак не должно – она считала дни до и после и всегда знала, когда можно увлечься, заиграться, потерять бдительность, а когда – ни в коем случае. И как решила: «Буду рожать», тоже не поняла. Словно попала в как-то иначе закрученное пространство, завитую обратной улиткой галактику, где обстоятельства и решения сваливались на голову без причин, подавались к столу в готовом виде – в виде состряпанной кем-то всемогущим, уже поперченной и пропечённой данности, обусловленной капризной природой сна.
Поначалу тугой животик забавлял её. Одолевая лёгкую тревогу, Катенька то и дело любовалась образованием, похлопывала, поглаживала его и отмечала, как растёт, растягивается вместе с кожей ещё недавно такая крошечная родинка. Потом неожиданно наружу из тёмной норки вылез белый пупок, и живот стал пугающе быстро округляться, бугриться, в нём что-то заворочалось, оживилось, затолкалось, сверху проступила бледнотабачная пигментная полоса, а снизу его взбороздили какие-то бледные, похожие на тонкие рубчики, вертикально направленные штрихи, будто кожу тянули на разрыв, и она уже трещала. Катенька была в ужасе. Ужас окатывал её и прожигал до корней волос, как волны горячего пара на банном полке́. Рома успокаивал, делал добрые, понимающие глаза, утешал, и у него получалось – ведь Катенька, подобно прочим женщинам, верила не правде, а тому, что хотела услышать.
Схватки начались в конце пятого месяца. И тут же пошли во́ды. Катенька вовсе не была уверена, что сама строго сочла срок – он тоже свалился на неё данностью, готовой цифирью, измеренной кем-то всемогущим, ответственным здесь за всё, вплоть до порождения следствий без причин.
Однако в верности подсчёта Катенька не сомневалась, поэтому тут же и обмерла в жутком оцепенении, убитая очевидной довременностью события. Где были её родители, в чьём доме она жила? – Катенька не понимала, всё в разуме её смешалось, всё окутывал жаркий, пульсирующий страшными цветными пятнами туман. Роме, с трудом сдерживающему ставший вдруг шустрым, скользящим, убегающим взгляд, только благодаря этому оцепенению, пожалуй, и удалось уговорить Катеньку не вызывать скорую, а рожать дома, в ванне, прямо в воду, как было модно, помнится, рожать в конце восьмидесятых. Он даже, змей, предположил, что и саму Катеньку, вполне возможно, уродили точно так же. Вот, тоже, выдумщик, чертяка, бестия…
Катенька очень боялась. Она лежала в тёплой воде и смотрела, как колышутся её потяжелевшие груди, как вздымаются над волнующейся гладью, закрывая полочку с шампунями, гелями и кремами, её разведённые, согнутые в коленях ноги, как выпирает вверх совершенно чужой, бугристый, похожий на голову спрута, живот. Тарарам был рядом. И всё равно Катенька очень боялась… Так боялась, что чувствовала, как вылезают из орбит глаза.
И всё же родила она на удивление легко, как зверь, как курица, как муравьиная царица.
Ухватившись за края ванны, подтянувшись на локтях и подобрав ноги, Катенька склонилась (попутно отметив, что живот её сдулся, точно обвисший на кустах парашют) над помутневшей водой, из которой Тарарам вылавливал склизкое дитя. Увидев наконец пойманное, заверещавшее на первом выдохе существо, она обратила полное ужаса лицо к отцу этого существа и, немея изнутри, зашептала:
– Почему? Почему? Почему?..
– Что? – Рома улыбался, но лицо его при этом было нехорошим.
– Почему? Почему? Почему?!.
– Да что такое? Что?
– Почему? Почему? Почему ты не сказал мне, что ты – не человек?!
Над городом давно сомкнула крылья летняя ночь. Тарарам стоял с сигаретой у открытого окна и смотрел на спящую Катеньку. Та, разметавшись, будто Шива в танце, на смятых простынях, трогательно хмурила брови и что-то жалобно бормотала во сне. «Почему? Почему? Почему?..» – разобрал слетавшее с Катенькиных губ трепетание Рома. Тревожный её сон не нуждался в оправдании – Тарарам сам был изрядно сбит с толку. Внезапная смерть одного из поэтов, столь удивительно принявшего предписанную театральной ролью участь, не то чтобы стала для Ромы неожиданностью – напротив, чего-то похожего ему как раз добиться и хотелось – но остальную труппу эта история полностью деморализовала. Видимо, сама природа театра противоречила реальности – по крайней мере, в части добровольного, а тем более невольного следования за персонажем в могилу, возможность, если не неизбежность, какового следования явилась на первом же представлении во всей своей неодолимой красе. А ведь на очереди там, в музее Достоевского, ещё, само собой, были «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время…». Умирать, то есть играть, теперь никто не хотел. Умирать не хотели и тогда, но играли, а теперь… Так немудрено было и охладеть к идее.
Здесь, на уровне четвёртого этажа во дворе-колодце дома на Стремянной улице, серая июльская ночь пахла балтийским ветерком, остывающей жестью крыши и совсем немного – варёной курицей из чьего-то распахнутого кухонного окна. «И тем не менее… – думал Тарарам. – И тем не менее что мы имеем? Немало. Мы выяснили, что реальность, случись надавить на неё с упорством, вдохновением, всерьёз, сдаётся, щёлкает, как мячик для пинг-понга, и тут же из-под целлулоида, из трещинки в тугом боку, стреляет молния. То есть бьёт струйка той чародейской метафизики, которая живёт внутри реальности, как пламя в спичке. Ну или как зрение в глазу». Рома помял ладонями лицо, несколько огорчённый неопределённостью вывода. «Но ведь было же, было что-то ещё, что-то невероятное… Что-то ведь я почувствовал…»
Улилям
Улилям приятен мне. Потому что всегда приятен желанный плод трудов.
В сыром городе, окуренном нефтяными дымами, вокруг конфетной фабрики витает сладкий дух какао и ванили. Там варят шоколад – счастье лакомок. Прохожие вдыхают аромат и улыбаются под масками своей суровости. Там, под масками, им видятся детские сны. А запаху всё равно. Шоколад и его дух не знают, что для кого-то стали усладой. Люди, научившись жить во лжи, уверяют, что вещи заботятся о них. Но это не так. Вещи о них не заботятся. Вещи о них думать не думают. По большому счёту, вещам на них плевать. Человек создал лакомство для радости, не спросив какао и ваниль, хотят ли они этого, согласны ли угождать. Вот и я не спросил человека, запустив его в свою давильню, согласен ли он стать пищей. Его дело – сидеть на грядке ровно.
Улилям – аромат моей фабрики. И её шоколад.
По́зднее раскаяние за нелепость набитой пустяками жизни, которое разрывает сердце человека перед престолом вечности, – моё лакомство. Там, у престола, открываются глаза слепцов, и я – ветер перемен, вечно голодный дух – слизываю слёзы с лиц обречённых, выжатые предсмертным ужасом. Их липкий пот, сочащийся у врат извечной тьмы, – моя амброзия. Ступив за порог, переменить жизнь, пережить её, они уже не властны. Мука безвозвратности – фимиам моего жертвенника. Мне нужно много пищи. И я неустанно намываю кисельные берега, наращиваю удой, возделываю ниву, чтобы было чем насытить страшный голод. Весь мир – моя кондитерская фабрика, мой скотный двор, моя пажить.
Маленького человека я поставил в центр мироздания, как предмет внимания, поклонения и заботы, как священную скотину, к которой не только нельзя подойти с хлыстом, но нельзя даже тронуть за вымя. Маленькому человеку я сказал, что не зазорно жить в доме великого, есть его хлеб и при этом держать кукиш в кармане, считая хозяина и все его ценности дерьмом. Только так он сохранит себя, маленького. Маленький человек – сладкий улилям.
Я спутываю дары, перетасовываю их, как карты, чтобы человек обманывался, плутал, искал и не находил. Я помечаю пути соблазнами так, чтобы человек никогда не обрёл себя в своей жилке, влип в паутину суетной зависти и до конца дней сводил мелкие счёты. Тогда он мой, и в развязке я слижу его слёзы.
Я разделяю вещи на пустяки и начала, хотя они так не делятся – всему есть место, всё важно, всё нужно. Я даю шкалу величин, и всё становится относительным, потому что больше нет совершенного и абсолютного. Кроме моего абсолютного голода.
Я утверждаю, что мир прост. А раз мир прост, то и человеку незачем быть сложным. Став простым, человек отказывается от внутреннего усилия и перестаёт отличать долг от прозябания, просвещение от растления, добродетель от греха. Такому не сбежать от моего языка.
Я внушаю человеку, что ему не нужны убеждения – довольно идей. Идеи размягчают и дают гибкость. Убеждения вставляют в человека штырь. Мягкие и гибкие угодны моей глотке.
Прежде закон писался на роду и был огнём начертан на изнанке век. И он был неизменен. Настолько, что из-под ног преступившего закон уходила земля. Но я точил устои и колебал умы. Я утверждал, что в новом всегда есть хотя бы одно безусловное достоинство – новизна. И мир не устоял. Я запустил в нём механизм измены. И человек теперь без понукания меняет былое на грядущее, зелёное на красное, большое на малое, сливает отстой и ставит у кормила бунтарей и отщепенцев. Но как только те взбираются наверх, от разреженного воздуха у них перерождается рассудок – борьба становится наукой удержания власти, бунтарский образ и порыв теряют покровы избранничества, выхолащиваются, ставятся на поток и делаются достоянием толп. Тут раздаётся щелчок, и маховик моей фабрики запускается снова. Теперь человеку всегда есть что ломать. Зуд вечного неудовлетворения получает выход во внешней перестановке, а не во внутреннем переустройстве. Так в чане бурлит мой улилям.
Я похоть делаю хребтом натуры и только в ней принуждаю видеть истоки всех движений нрава и души. Тогда мужчина влечёт женщину лишь потому, что ведёт себя так, будто у него три члена. Тогда женщина начинает нравиться мужчине за пышную грудь, потому что та похожа на ягодицы – ведь всё, что по-настоящему интересует человека, расположено ниже пояса. Эти – всегда мои. Узрев могилу, они испустят всеми порами обильный нектар.
Я развращаю человека – предлагаю ему разъять неделимый мир и погрузиться в омертвелую разъятость, где можно всё, всем и без усилий и где каждый волен иметь собственное мнение. Ведь я говорю, что истин много, и человек, смиряясь с несколькими, изменяет единственной. В разъятом мире разъят и человек. Разъятый человек пригоден в пищу.
Я объявляю, что часть важнее целого и слагаемое имеет ценность, превосходящую ценность суммы. И целое умирает, потому что его живые части отказываются от него. Сойдя со своих мест и озаботившись собой, они прямиком покатились в давильню моего голода.
Я позволяю человеку знать, что желающий завоевать мир отправляется в поход налегке. Но выступившего в поход я нагружаю по пути обозом чепухи: приятелями, обязательствами, домочадцами, банковскими кредитами – и он не доходит до цели. Тяжёлый человек даёт хороший фарш.
Я говорю, что свобода – это когда женщина может заключить брак с бурундуком, а мужчина – с агавой. Люди слушают меня, оскверняют своё и чужое естество и сбиваются в толпы под стягами греха, уверенные, что обрели свободу. Толпа, вообразившая себя народом, – навоз моего поля. Он питает мой урожай.
Тому, кто жаждет порядка, я внушаю, что порядок – это неподвижность. В то время как порядок – это готовность отважиться на поступок и ответить за него. И человек бездействует, обращаясь в силос, который сожрёт мой скот.
У человека нет выбора, но я предлагаю ему выбирать, и в положении или/или он за редким исключением выбирает отступничество. Ведь я нашептал ему, что реальность ценнее грезы, и убедил, что смысл есть лишь в том, что услаждает, и иной кары, чем жизнь, не будет. Этот выбор обернётся моей желанной пищей, когда под серпом жнеца пустоцвет взмокнет, испытав муку раскаяния.
Смех над искренностью любой веры – благодатный дождь над моим полем. Он сделает сочным моё лакомство.
Голодный дух, незримая воля, чистое её вещество, я – упадок и разложение, умирание и тлен, сам замысел о них. Молодость, взыскующая не идеалов, а карьеры, не смысла, а развлечения, не любви, а безопасного блуда; зрелость, ради сонного оцепенения отвергающая как уединение и молитву, так и путь славных дел; старость, отдавшая предпочтение безответственности перед мудростью и красящая волосы фиолетовым и зелёным – это моё. Их будет царство смерти на земле. Они – колоски моего хлеба.
Улилям волнует меня. Улилям – моё лакомство и то, что его обещает.
Глава 5. Душ Ставрогина
1
Во сне Настя опять скакала, как заяц, увязший в рапид-съёмке. Впрочем, сегодняшний сон оказался немного определённее предшествующих: позади себя, бегущей, а потом тягуче, с провисанием подскакивающей, Настя ощутила тревогу и даже как будто краем того, что во сне тоже принято считать зрением, увидела надвигающуюся мрачную тень. Получалось, преследовала не она – преследовали её. Уже что-то. Но дело снова ничем не кончилось. Грёза не имела ни начала, ни финала, представляя собой вполне невинный фрагмент сюжета, в действительности, возможно, вполне осмысленного, законченного и жуткого, – кусочек холостого действия, исключённого из контекста, как та средняя часть струи, которую народный уринотерапевт Малахов предлагал лакать соотечественникам в качестве чудотворного эликсира молодости.
Настя знала, что сегодня утром Егор собирался встречаться с отцом, поэтому не стала звонить ему, чтобы по заведённой привычке поделиться поразившим её открытием: накануне Настя прочитала в каком-то – матового вида – журнале, обнаруженном на столике в парикмахерской, что, если разом утопить в море всех китайцев, уровень мирового океана поднимется на два сантиметра. Невероятно! И это всё. «Боже мой! – упав духом, подумала в парикмахерской Настя. – Нас в десять раз меньше… А если нас-то? Что же выходит? Всего два миллиметра?» О достоверности сведений (сомнений в них) у Насти отчего-то даже мысли не возникло. Потом она как будто позабыла о подсчётах, а теперь вспомнила вновь, и печальная арифметика болезненно уязвила хорошо развитое в Насте чувство национальной гордости. «Позор какой! – переживала она. – В космос летаем, а на деле что же?» Настя знала, что такое стыд, но иррациональный стыд перед Кронштадтским ординаром испытала впервые.
Ночью прошёл дождь. Жесть крыш была ещё мокрой, но под присмотром утреннего солнца кое-где начала уже просыхать замысловатыми пятнами. Настя жила с родителями в мансарде большого доходного дома (некогда, говорили, здесь была мастерская живописца, чьего имени история не сохранила), основательно поставленного на Офицерской улице лет с лишним сто назад, и из её окна открывался славный вид на питерские крыши, местами сияющие цинком, а местами крашенные красно-бурым и зелёным, на золотой купол Исаакия и шпиль Адмиралтейства, на купы старых тополей, вознесшиеся вдоль набережной Матисова острова, и на угрожающе поднявшиеся за Пряжкой гигантскими богомолами краны «Адмиралтейских верфей». Тут не захочешь, а обзаведёшься оптическим прибором для обозрения далей. Овеваемые балтийскими ветрами, крыши жили своей птичьей и кошачьей жизнью – голуби ворковали на карнизах, вороны разоряли их гнёзда, сбрасывая на панель плешивых полупрозрачных птенцов, кошки грациозно прохаживались между слуховыми амбразурами, а справа, наискось через улицу, каждое утро, если позволяла погода, две девицы в бикини (у одной был операционный рубец внизу живота, который, понятно, не хотелось показывать на пляже, другая – видно, просто за компанию) стелили на горячее кровельное железо подстилки и, сняв лифчики, ловили стойкий сероватый северный загар. Ну а сегодня на одной из крыш в левом секторе обзора Настя увидела рискованно стоящие прямо на покатой жести возле мансардного окна, в паре метров от неогороженного, нависающего над ущельем Офицерской карниза, небольшой стол и три стула. Бокалы на кренящемся столе были наполнены чем-то бледно-розовым. Вероятно, вчера вечером на крыше пили красное вино три приятеля-скалолаза (варианты: три ангела, три Карлсона), на дне бокалов чуть осталось, а ночной дождь разбавил опивки. Или не так… Два смертельных врага устроили здесь прихотливую дуэль – сидели друг против друга и благородно – вровень – пили, ожидая, у кого раньше выйдет из строя вестибулярный аппарат. Третий был секундантом. Расквашенное тело, вероятно, соскребли с тротуара ещё ночью. Если бы не восьмикратная оптика старенького армейского бинокля, оставшегося от прадеда, Настя не разглядела бы цвет влаги в бокалах и не расплела эту историю.
«Наверху жизнь другая», – подумала Настя. И тут же, вспомнив недавний разговор с Егором, себя одернула: «Какая?» Широкая, вольная, упоительная, солнечно-голубая? Чёрта с два! Решительная, жёсткая, смертельная, закрученная вихрем, каждый миг грозящая падением. И… всё же упоительная.
От жизни наверху, на крыше, Настя легко совершила омонимический скачок в иную плоскость. Егор говорил, что прежде власть означала для облечённого ею тела вхождение в такую область, переход в такое яростное пространство, где за всё надлежало платить самую высокую цену. Именно так – платить по самой высокой ставке и без торговли. Плата жизнью и даже погибелью души предполагалась здесь по умолчанию, как основное правило игры. Власть и жизнь были чем-то вроде неразлучной пары – упускаешь одно, следом тут же теряешь другое. И наоборот: готов ответить жизнью – значит, достоин власти. А если нет – прозябай среди блаженных и покорных жителей равнин и не включай тщеславие. Гарантии покоя, тихой старости, законная защита прав владения и жизни – всё это оставалось там, в нижних ярусах бытия, и именно тот, кто стоял на вершине социальной иерархии, гарантировал этим ярусам их права. Но сам он владел лишь одним правом – властвовать. И это право давалось ему безо всяких гарантий. Настя, как почитатель естественных наук, и сама это знала: там, на вершине, стоило чуть-чуть ослабить хватку, замешкаться, дать слабину, как тут же новый молодой вожак ломает твой хребет, рвёт в клочья твоих отпрысков и имеет твоих самок. Наверху судьба требует от избранника напряжения воли на пределе возможного. Но вот до чего Настя не додумалась, так это до анализа траектории спускающейся планки, что так легко и ясно описал Егор. Мир мельчает, притворно заявляя, что возвеличивается и растёт. С его мельчанием гарантии покоя распространились и на тех, кто держит власть. В результате власть утратила сакральность – тот завет, что неразрывно связывал воедино престол и жизнь. В рамках профанического служебного государства Государь потерял величие и превратился в банального милостивого государя. Теперь, не отвечая за свои решения и поступки жизнью, чем ему ответить? Цена вопроса так упала, что власть дающему за ней и наклоняться лень. На нижних этажах, там, где гарантии облегчают слабому труд мирного существования, у человека ответственность одна – отношение соседей/сограждан/современников и (редкий случай) потомков: тебя либо помянут при случае добрым словом, либо за своё ничтожество ты обретёшь презрение, какое обретает глупо пошутивший хрен. Теперь это стало потолком ответственности и для вождей. Бр-р-р… Пакость какая. Ужасный век, ужасные…
И точно в этот миг, когда Настя сама, словно пробитая электрическим разрядом, вздрогнула, вспомнив смертельный опыт Катенькиного реального театра, резко запела мобилка.
На розовом экране чернела метка: «Тарарам».
– Привет. Случайно нет Егора рядом? Его труба молчит – отключена или вне зоны.
Настя предположила, что Егор в метро, и рассказала про родительский день.
– Как объявится, скажи, пусть мне перезвонит.
Настя сказать обещала, осведомившись: что случилось?
– Я понял, в чём там было дело… Ну, в музее Достоевского. – Тарарам замешкался. – То есть… Словом, я нашёл… – Трубка опять затихла.
– Что? – прервала Настя таинственную паузу.
Рома молчал.
– Что нашёл? – повторила Настя.
Тарарам не то собирался с духом, не то подыскивал слова – и то и другое было ему совершенно не свойственно. Не свойственно настолько, что Настя заволновалась. Наконец из трубки вытек низкий, значительный шёпот:
– Я нашёл душ Ставрогина.
2
Перестук колёс в вагоне метро обычно настраивал Егора на музыкальный лад. Ритмический рисунок, заданный стыками стальных рельсов, он мысленно оплетал басами и гитарными ходами и так же, в воображении, самозабвенно пел под этот аккомпанемент что-то соответствующее и чудесное. Будучи человеком совестливым и не лишённым вкуса, спеть прилюдно въяве он, увы, не мог.
Егор не раз интересовался у знакомых, о чём они в жизни больше всего сожалеют. Ответы были не то чтобы разные, но, скорее, вариационные – менялся орнамент подробностей при сохранении основы: кто-то досадовал о так и не выученном итальянском, кто-то о том, что до сих пор не был на Камчатке, кто-то терзался из-за упущенной в былом добычи, кто-то – что не родила второго, кто-то сетовал на слабости тела, не способного вечно оставаться юным, упругим и резвым, а кто-то – что судьба не была к нему благосклонна и он не умер вовремя, молодым. Егора не удивляло, что никто из опрошенных не раскаивался в потаённом грехе и никто не был угнетён сволочным мироустройством (понятное дело: говорить о подобных вещах непросто), его удивляло, что все сожалели о не случившемся, в то время как сам он сожалел о невозможном. Потому что больше всего на свете Егор переживал по поводу того, что никогда не сможет спеть как Меркьюри или Бутусов. А спеть так, увы, он не мог ни при каких обстоятельствах.
Отец сегодня был сентиментален, вспоминал молодость, расспрашивал о планах на грядущее и в результате дал Егору «на поддержание штанов» больше обычного. В метро, уже возвращаясь домой (он жил на Казанской) с далёкой станции «Ломоносовская», Егор сначала тепло и немного грустно думал об отце, потом под слаженную ритм-секцию колёс и рельсов великолепно спел что-то, не слышимое за пределами пространства его грёзы, а после вспомнил о Насте. Он вспомнил о ней нежно – бережно разворошил память и разбудил голос, взгляд, улыбку, прикосновения, запах волос, милые словечки… И эта легкая кутерьма взвилась в нём так, что томительно сжалось сердце. «Как нежны мы в разлуке и как остро чувствуем на расстоянии…» Но тут же Егор нахмурил брови, ужаленный скверными воспоминаниями о нескольких уже случившихся между ними нелепых ссорах, вызванных его неуступчивостью или рискованными остротами. «Какое свинство, – думал Егор. – Сам виноват, а признаться в этом не позволяет ослиное упрямство – что за дрянной характер! Вот где „подлая славянская кровь“, о которой писал Леонтьев… Казалось бы, чем большая нужда нам послана, чем больше, испытуя, давит нас судьба, чем больше бед нам сядет на загривок, тем трепетнее следует лелеять и беречь те редкие источники тепла и света, которые дают нам силу вновь дышать полной грудью и смотреть судьбе в глаза. Так нет же – надо всё на дерьмо свести! А тут ещё высовываются разные дяди и тёти и говорят: мы дадим вам либертэ и эгалитэ. А зачем русскому человеку либертэ и эгалитэ, если он Настю сберечь не может? Он и либертэ на дерьмо сведёт…» Слов нет – Настю надо было сберечь. Но как бороться с торжествующим упрямством и гордыней? Что делать с постоянной готовностью не стоять за ценой там, где дело не стоит полушки? Как быть с этой взрывной смесью безответственности и чести?
На «Площади Александра Невского» Егор пересел на другую ветку и покатил к «Садовой». Встреченная в переходе цыганка – за подол её юбки держался смуглый чертёнок – дала нежданный толчок развитию мысли: «Но ведь и потакать им во всём никак нельзя. Эволюция русского феминизма привела в итоге к торжеству „цыганской семьи“ – теперь уже считается нормой, когда муж дома шурует по хозяйству, а жена-добытчица зашибает деньгу и содержит домашних. По существу, женщина теперь проблему полной чаши решает так, как раньше это делал мужчина». Егор принялся мысленно анализировать семейные обстоятельства приятелей и их родни – счёт получился где-то пятьдесят на пятьдесят. На это бы Настя непременно сказала, что и в прайде охотятся в основном львицы… И тем не менее. Мир менялся. Он менялся постоянно и всё время в худшую сторону. Возможно, это лишь обманчивое впечатление. Возможно, не только отдельным людям, но и целым историческим сообществам свойственно романтизировать своё прошлое…
Настин звонок настиг Егора на эскалаторе станции метро «Садовая». История про два китайских сантиметра произвела впечатление. В ответ Егор спросил Настю, о чём она в жизни больше всего сожалеет. Та задумалась.
– Знаешь, – наконец сказала Настя, – в детстве я мечтала быть красивой, как Виолетта из седьмого бэ, жить вечно и иметь неразменную денежку. Теперь мне смешно вспоминать об этом. Потом я хотела, чтобы материя, стихии и время были послушны моей воле. Теперь мне страшно представить, что бы из этого вышло… Пожалуй, больше всего я сожалею о том, что никогда не сыграю на скрипке как Яша Хейфец. Ты слышал, как он исполняет рондо каприччиозо Сен-Санса? Душу бы заложила!
Возможно, Егор когда-нибудь и слышал. Но только не знал, что это рондо каприччиозо Сен-Санса и что его исполняет Яша Хейфец. В список его увлечений скрипка не входила, и на слух он, вполне вероятно, не отличил бы Ойстраха от Ванессы Мэй. И всё же… В детстве он мечтал быть атлетом, как Женя Лобода, чьи родители арендовали каждое лето полдома по соседству с их съёмной дачей в деревне, вьющейся вдоль одноимённой реки, и очень хотел иметь в кармане шапку-невидимку – ведь она, если подойти к делу с фантазией, способна решить едва ли не любую проблему. А теперь вот хочет петь, как не может петь никогда и ни за что на свете… Совпадение?
– Ерунда, – сказал Егор, – чушь собачья.
– Балбес. Ты просто в скрипке ничего не понимаешь.
– Я не про скрипку. Я про то, чтобы душу заложить. Дьявол – не утильщик. Лакома для него лишь душа праведника. За каким лядом ему покупать то, что, по всей видимости, если не уведёт добычу Божья милость, и так достанется ему без дополнительных усилий? Нужно всего лишь чуток подождать… Нет, порченный заклад ему не нужен. Душа должна быть – первый сорт. Без гнильцы, пролежней и складок. Тогда он за ценой не стоит.
– Уел. Не наша тема… Мы, помнится, с тобой даже в Страстную пятницу грешили. – Настя озорно хохотнула в трубку, но тут же спохватилась: – Да, Роме позвони. Он путаный какой-то. Сказал, что в музее Достоевского душ нашёл. Волновался сильно – тебя искал.
– Какой душ?
– Не знаю. – Настя уже хотела думать совсем в другую сторону. – А почему Бог дрянь не покупает, чтобы душа за хорошую цену обелилась? Типа, Я тебе по жизни устрою радости плоти и воплощение смелых замыслов, а ты за это живи по совести, а не по лжи, ближнего люби и под молотки не ставь, в храм Мой ходи на праздники великие, двунадесятые и вообще, когда захочешь, а кроме того, молись от сердца, крестись троеперстно, посты держи и блюди заповеди. Ну то есть почему так не наладить, чтобы не только жизнью вечной воздавать, а чтобы и здесь, в земной юдоли, что-то обломилось?
– Мерзость говоришь. Подкуп – орудие дьявола. Купился – пропал. И потом, свобода, как учат нас мудрецы древности и Рома Тарарам, только в нестяжании. Всё остальное – цепи. Нажил, украл – сторожи.
– А любовь? – тихо спросила Настя. – Любовь ведь – не цепи. Пусть Бог меня тобой наградит, хоть я и овца… заблудшая. Здесь наградит. Авансом. А там, глядишь, я и до жизни вечной подтянусь…
У Егора замерло сердце. Потерев зачесавшийся глаз, он хмуро пробурчал сквозь вставший в горле ком:
– Уже наградил.
3
Встретились на Владимирской площади, у бронзового Достоевского. Егор пришёл первым; пока ждал Рому, оглядывал пространство. Широкий приступок постамента облюбовали шумные живописные бомжики с двумя бутылками пива на пятерых. На золотых крестах собора, слава которого не изнашивалась, играло солнце. А вот недавно поставленная рядом с Владимирским пассажем и придавившая дом Дельвига аляповатая тумба с венцом ротонды на крыше, наоборот, как родилась уродом, так всё и пыжилась, и надувала щёки, подспудно ощущая себя самозванкой в подтянутом и строгом окружении. Ей бы впору зарыться в землю, как клопу в ковёр, да насосалась инвестиций – бока мешают…
Возникший из пустоты Тарарам молча, ничего не объясняя, словно заговорщик, повёл Егора к музею.
Из распахнутых дверей Кузнечного рынка тянулся наружу смешанный аромат зрелых фруктов, какой, бывает, витает на летнем вокзале, когда у платформы останавливается и выпускает на перрон привезённый люд симферопольский или кисловодский поезд. За стеклом виднелись ближние ряды, где торговки в медицинских халатах помешивали поварёшками в пластмассовых ведёрках белейшую сметану, предлагали снующим туда-сюда хозяйкам отщипнуть на пробу творог от больших влажных творожных блямб и поправляли разложенные на прилавке домашние сыры, добиваясь какой-то ведомой лишь им пространственно-сырной гармонии. Следовавшие далее цветочные ряды богато, тучно, томно выглядели лишь на скорый взгляд – куда им было по разнообразию сортов и нежности оттенков до славной «Незабудки»… На углу рынка Егора с Ромой чуть не задавил какой-то бес в тюбетейке, толкавший перед собой железную тележку с сетками молодой – по времени, должно быть, краснодарской или ставропольской – картошки. «Ужо тебе, Мамай слепой!» – погрозила ему клюкой шаркающая рядом старушка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?