Текст книги "АЛЛЕГРО VIDEO. Субъективная история кино"
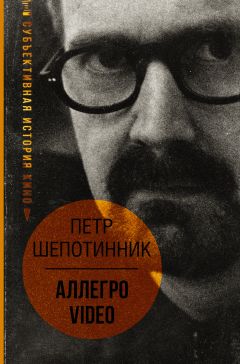
Автор книги: Петр Шепотинник
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Шанталь Акерман
Все – и я в том числе – переболели желанием наконец увидеть в России «европейское кино». Оставляя за пределами книги возможные теоретизирования на тему, что оно должно собой представлять и каким общим или необщим аршином можно измерить это вроде понятное, но столь же трудноопределимое качество, я бы взялся предложить в качестве идеальной модели кинематографа Старого Света все то, что сделала Шанталь Акерман. Она взяла у 60-х некоторую расхлябанность сюжетных «необязательств» (как-то раз увидела «Безумного Пьеро» и решила незамедлительно, не откладывая до утра, снять фильм) и добавила в свой стиль нотки в меру рафинированной поэзии урбанизма. Поэзии перестуков метропоездов, надсадных гудков теперь уже старомодных «ситроенов» в пробках. В европейских, «интеллигентных» пробках – не таких, как на Третьем кольце. В ее фильмах всегда словно нараспашку окно, которое впускает в себя все звуки города, и я бы сказал, что и окуджавовское «пусть будет дверь открыта» тоже про Акерман: ее герои чувствуют себя предельно свободно – не спят по ночам, любят друг друга, чуть укрывшись ненадежным пледом втроем в одной кровати, предназначенной для двоих. А потом бродят по Парижу в натуральной эйфории полусна, поневоле становясь импрессионистами в режиме live.
И снова любят друг друга.
«Европейским» – это еще и когда ты свободен без лицемерия и уточнений формулировок.
Свободный видит равного себе издалека, моментально чувствует границы, которые выставил ему социум, болезненно реагирует на них. Свободный слышит точно взятую ноту, и когда это случается, он счастлив. Поэтому, когда Акерман снимала фильм о Пине Бауш, ей и снимать ничего не надо было – камера словно сама намагничивалась яростным ломаным танцем. Интеллектуализм Акерман растворен в жизни и не требует отягощений сложными формулировками стиля. Тут полное приятие реальности, чуть высокомерная ирония по отношению к ее неизбежной суете и едкая самоирония по отношению к собственной женской боязливой осторожности перед ее колкостями. Стиль чуть – но именно чуть! – капризен, когда сюжет подхвачен на лету. Когда же именно придуман, а не сорван с дерева, то капризность болезненно усиливается. Это очевидно в неполучившейся комедии «Кушетка в Нью-Йорке». Но Пруста в «Пленнице» схватила точней, чем Руис в его увесистом кинофолианте и Шлендорф в его добротно-бесстильном period drama о мающемся Сване. Она – развитие, многоточие, гулкая, точно взятая нота в камерном зале. Ее подруга – виолончелистка Наталья Шаховская, – и Шанталь приезжала к Наташе в несмело снежную подслеповатую Москву конца советских времен. Она угодила тогда на «восток» в лице несчастного всеми несчастьями, но вдруг задумавшегося о свободе(!) – Советского Союза и вела себя там, среди ноябрьско-декабрьской раскисшей хляби, с истинно демократическим благородством, не отводя глаз от бесконечной очереди на автобус «299», и словно по-ахматовски сама вставала в эту очередь. И при этом не давала даже малейшего повода заподозрить в себе капли превосходства, хотя и, чуть остолбенев, смотрела на этот «восток» глазами человека, который попал сюда прямиком из прошампуненных (выражение Рустама Х.) duty free stores Брюсселя или Франкфурта. Или Берлина. Этот снятый в 1992 году фильм «С Востока» – почти великий, вынужденно аскетичный, жесткий, но при этом истинно поэтический кинодокумент, не имеющий себе равных в стране, которой он посвящен, – России. Как это ни странно.
Первый раз мы с Асей Колодижнер беседовали с Акерман и сами, и в составе группы журналистов, находясь как раз в истинном раю без поправок – в благоухающем июньскими азалиями Пезаро, где седовласый Адриано Апра проводил уже не впервые кинофестиваль так называемого нового кино.
Второй раз – уже в Венеции, спустя много лет, – в саду гостиницы «Четыре фонтана», и речь уже шла о не совсем удавшейся, но пропитанной каким-то особым полузабытым «пиратским» романтическим духом экранизации Джозефа Конрада «Безумство Альмайера». Картина тогда прошла почти незамеченной, но, как это обычно и бывает с фильмами мастеров, еще долго преследовала меня ощущением непроветренности жестковатой душной вьетконговской западни, на которую себя обрекли бесславно доживающие свой колониальный век спесивые французы. Текст, который приведен ниже, в произвольной форме соткан из этих двух бесед. Они разведены по годам почти на двадцать лет, но теперь… что уж тут говорить.
«Мне надоело выполнять роль режиссера…»
– Первый и самый, наверное, дурацкий вопрос: как?
– Как? Каждый раз я пишу сценарий по-другому – у меня был случай, когда я придумала сюжет фильма в самолете. То есть единого метода тут быть не может.
– Я задал этот вопрос «как?», потому что этого «как» в ваших картинах почти не видно. Ваш кинематограф в каком-то смысле стирает границы – и профессиональные, и национальные, и социальные. Это кинематограф, который проникнут французским духом. Кстати, не возникает ли у вас по этому поводу полемики с вашими соотечественниками – бельгийцами? Не обвиняют ли они вас в том, что вы более француженка, чем сами французы?
– Ну, во-первых, я не просто бельгийка, я бельгийская еврейка, так что тут уже не совсем понятно, о какой национальности должна идти речь. У нас, бельгийцев, есть такой анекдот: когда король собрал всех на площади в Брюсселе и сказал: «Фламандцы, пожалуйста, налево», потом: «Валлоны – направо», евреи его спрашивают: «А нам, бельгийцам, куда идти?» Бельгия – это мультинациональная страна, и разные части ее очень отличаются друг от друга, примерно так же, как в Италии разные провинции не похожи друг на друга. Фламандцы ближе к Голландии, а валлоны говорят по-французски, эта культура ближе к Франции. Разные культурные традиции – богатство Бельгии. Твоя биография пишется повсюду и в то же время нигде, ни в одном конкретном месте. Мои родители из Польши. Потом они переехали в Бельгию, потом в Париж, потом в Нью-Йорк, потом в Иерусалим. Я жила в самых разных местах. Я не знаю, что это значит – my identity, моя идентичность – у меня вроде как и нет родины.
– В вашем кино не видно, что называется, «технологичности» кинопроцесса.
– У меня, так сказать, очень ремесленное, кустарное кино, то есть такое, которое делается руками. Ведь многие смотрят фильм и думают, что мною все запланировано, продумано, просчитано заранее, а на самом деле все сделано так, как ремесленник делает свою поделку. Он то бьет, то строгает, то левой рукой, то правой. Вот так и режиссер делает свою картину – лепит, мнет. Я действительно никогда не могу объяснить, как я делаю фильм. Я его просто делаю, делаю по наитию, руками. В этом смысле мои фильмы полностью экспериментальные, и ничего больше на этот счет я бы сказать не могла. Я ничего никогда не навязываю. Я вдруг вижу какую-то вещь, придумываю, начинаю ее делать, из нее вырастает другая вещь и потом создается нечто, так потихонечку, как клубочек, наматывается. И что такое «профессионализм», я не знаю. Ведь я попала в кино совершенно случайно, будучи уже довольно взрослой. Я никого не знала и не была знакома с Годаром и ни с кем из круга кинематографистов-экспериментаторов, киноавангарда. Я только слышала о его фильмах и когда наконец увидела их, это произвело на меня сильнейшее впечатление: я и представить себе не могла, что кино может быть таким сильным средством самовыражения. Я представляла себе кино как нечто диснеевское. И вдруг – «Безумный Пьеро»! – в эту минуту я ощутила, что хочу снимать кино.
– Какое влияние на ваш кинематограф оказал театр, в ваших мизансценах есть нечто театральное…
– Для меня имеет большое значение локация. Когда я начинаю снимать, я знаю, где я остановлюсь и чем именно закончится то, что я снимаю, так что в каком-то смысле это действительно театральный тип режиссуры. Где-то, конечно, материал начинает довлеть над нами, потому что он порой оказывается кинематографически самодостаточным, начинает сам себя формировать. Ты создаешь каждый образ по отдельности, а потом образы соединяются во что-то целое, выстраиваются в единую линию. Вообще, кино – это в первую очередь напряженная работа. Нужно складывать сцены и смотреть, как они сочетаются друг с другом. Это происходит только методом проб и ошибок. Иногда это даже логически объяснить невозможно, ты смотришь на экран – раз! – подошло, получилось. Почему – неизвестно. И точно так же неизвестно, почему не получилось. Или иначе: вдруг происходит чудо, ты чувствуешь, что вот пошло, пошло. Но потом вдруг видишь – получается, может, и хорошо, но не из этого фильма. Почему – тоже трудно объяснить. Наверное, это просто работает время, нужно вот так переставлять местами кадры и смотреть, что к чему подходит. Причем масса вещей заметна только в проекции на экране, только когда уже все сделано. И это уже словно не имеет никакого отношения к тому, как это было снято. Должно пройти какое-то время, чтобы материал устоялся и мы начали его ощущать. Потому что для ритма очень важна каждая секунда. Иногда думаешь: ну, минуту туда, сюда, две минуты, пять минут – да нет. Один кадр может все изменить. Конечно, это ощущение абсолютно субъективно. То, что ты переживаешь внутри себя, порой совершенно невозможно передать словами.
– А как вы понимаете «музыкальность фильма» – в широком смысле слова?
– Для меня невероятно важен голос актера. Важен его тембр, мелодика речи, то, как он вплетается в общую полифонию фильма. Это часть звукового трио: голос, шум, музыка.
– Кстати, менялось ли с годами ваше отношение к тому, как должен вести себя в ваших фильмах актер?
– Когда я пишу сценарий, я уже представляю себе работу с актерами. Очень часто мне хочется, чтобы актеры выступали в контр-роли, то есть в антитезе собственного имиджа. Один раз я даже взяла актрису, которая была полнее, чем ее героиня, старше, то есть она не совпадала с ожидаемым образом. И не ошиблась: роль получилась менее «литературной», чем придуманная мною изначально.
– Вы в начале 90-х сняли очень личный и в то же время очень русский фильм – «С Востока».
– Этот фильм – прямая проекция меня, склонной к наблюдению, созерцанию… Я пыталась перекинуть мостик от своего подсознания к подсознанию зрителя. Отчасти этот фильм – результат моей дружбы с Натальей Шаховской, ученицей Ростроповича. Она отвозила его в аэропорт, когда он уезжал из страны. Люди иногда бывают такими смелыми. Ей велели прибыть в КГБ, а она плюнула на них. Когда мы встретились, она не знала ни слова по-английски или по-французски, а я не говорила по-русски. Но все получилось, мы подружились. В фильме говорится не только о том времени, когда он был сделан – начало 90-х, время больших перемен в России, – но и обо всем послевоенном периоде. Самые обычные мелкие детали могут заставить вас задуматься о чем-то другом.
– Удивительная, редкая по интонации картина.
– Я очень рада, что вы поняли мой фильм. Я вообще люблю русскую музыку. Шостакович, Прокофьев, Чайковский. И русскую поэзию: Ахматова, Цветаева, Мандельштам. Они мне очень близки. Недавно у нас вышел новый перевод Марины Цветаевой. Хороший перевод. Но Ахматову, по-моему, невозможно переводить. Особенно «Реквием», в котором мне больше всего нравится начало, когда она стоит перед воротами тюрьмы.
– Не сложно ли было работать над экранизацией Джозефа Конрада? Все-таки это сложное в постановке кино: джунгли, болота, жара, насекомые.
– Как ни странно, нет. Этот мой фильм оказался технически несложным, а может быть, просто я не заметила этих трудностей: увлеченность съемками помогает мне избавиться от депрессий. Когда я шла на съемочную площадку, я даже не хотела знать, что собираюсь снимать. Приходила и говорила: ах, сегодня у нас вот эта сцена, ну что ж, давайте, играйте. Мой актер Станислас Мерхар, сыграв сцену, порой заканчивал ее в разных дублях по-разному. Но я его не останавливала, не поправляла, вообще ничего ему не говорила. Я требовала только одного – предельного доверия, мне хотелось, чтобы он задышал этой сценой. Хотела передать вам ощущение, что мы дышим вместе с ним, следуем за ним через джунгли и топи. Таким образом все: и режиссер, и оператор, и механик тележки – все в каком-то смысле играли в той же сцене, что и актер. Так я поступала впервые. Я вдруг поняла – мне надоело выполнять роль режиссера. И это отстранение от «цивилизации» сыграло мне на руку. В Париже, когда проект рождался, мне говорили, что я затеяла рискованное дело. Но я чувствовала, что должна так поступить. Впрочем, все вполне могло обернуться и полной катастрофой.
– А сама окружающая природа диктовала режиссерские решения?
– Природа дает сверхбогатый кинематографический материал. Равно как и те люди, которые словно вросли в нее. И меня это захватило, мне захотелось сделать что-то предельно материальное. И юго-азиатская природа дала мне такую возможность. Я пишу очень скупые на подробности сценарии. Но всякий раз, как я приезжала в Камбоджу, я переписывала сценарий под влиянием того, что видела. Так что в каком-то смысле я была как губка, и все, что естественно впитывала эта губка, я включала в сценарий. И главное заключается в том, что тамошняя природа может казаться и прекрасной, и ядовитой для героя в одно и то же время. Это как бы две сгущенные до предела субстанции в неразрывном слиянии.
И в этом смысле эта картина – трансляция моего внутреннего состояния. Я родилась в 1950 году. Мать прошла через концлагерь, многие члены моей семьи не вернулись оттуда. Все это у меня в крови, передалось с молоком матери. И это непросто – быть дочерью человека, побывавшего в концлагере. Я часто впадаю в маниакально-депрессивное состояние, и иногда я просила мать, чтобы она рассказала мне о тех днях. Я ее спрашивала: «Почему ты мне ничего не рассказываешь об этом времени? Ведь это вредит мне». А она мне отвечала: «Шанталь, можешь спрашивать меня о чем угодно, но только не об этом». Вот так. Но это же нужно знать! Моя сестра, которая родилась в 1958 году, когда моя мать чувствовала себя уже намного лучше, совсем не похожа на меня. Она спокойнее, свободнее, в ней отсутствует эта присущая мне нервозность. Но в моем случае те события еще слишком близко. Говорят, должно смениться три поколения. Я – второе поколение. Слишком близко. Но я не жалуюсь. Я знаю, что ситуация такова, как она есть, и мне надо как-то с этим справляться. Вот я стараюсь, как могу, хожу к психоаналитику, ничего не помогает, но я не жалуюсь. Думаю, что в каком-то смысле это часть моего богатства. Так что я очень и очень счастлива. Счастлива по-своему, не так, как в Америке, где счастливы практически все, но это так скучно. Вы, русские, наверное, догадываетесь, что я имею в виду. У вас в истории тоже было много страшного: лагеря, Сибирь, столько миллионов людей убил Сталин. Ужасного по-настоящему, так что вы меня поймете.
Пезаро, 1996Венеция, 2011Впервые опубликовано на сайте «СНОБ» 12 октября 2015 года
Теодорос Ангелопулос
Что такое «киноязык»? Этот «детский» вопрос возникает, как только ты начинаешь смотреть фильмы Тео Ангелопулоса. Я, кстати, убежден, и эта убежденность растет по мере оскудевания моего киноведческого опыта и наращивания опыта режиссерского: чем меньше кинофильм требует привлечения к анализу увесистых цитат и пространных отсылок как способов увеличить прибавочную стоимость увиденного на экране, тем он чище в кинематографическом смысле. Ближе к сути кино, которое – всё – пойманная жизнь в развитии и индивидуальном преломлении через родившийся словно ниоткуда и именно поэтому истинный образ. Ангелопулос и его кино, конечно, растут не «ниоткуда». Тут явно не обойдешься «вербатимом». Ангелопулос принципиально анти-кинематографичен в вертовско-годаровском-doc-овском и postdoc-овском смысле слова, в его лучших картинах с их неимоверно пространными, почти бесконечными планами-эпизодами, царствует материя почти сновидческая, в которой реальность и вымысел, крупное и мелкое, объемное и мизерное, прошлое и настоящее незаметно, бесконфликтно, в пределах одной сцены меняются местами. Причем их постоянное не просто соседство, а перетекание из одной субстанции в другую, подается нами как не вызывающий у автора ни тени сомнения основной, непререкаемый закон существования. В каком-то смысле Ангелопулос даже в самом малом эпизоде мыслил как романист, словно взирающий на события XX века с их суетным хаосом как какой-нибудь еще не родившийся Гомер. Но его трагически нелепый, абсурдный уход из жизни все-таки – из серии «вербатима»: любой человек как-то смутно, с предательски-мазохистским инстинктом (иногда чисто по-режиссерски) проигрывает в уме собственную смерть, но такую, от резины шального байкера?!. И в сознании начинает свербить неуместно-наивное: так мы еще, кажется, вчера, видели его самого, Ангелопулоса, классика, в культовом берлинском кафе «Блябтрой» на улице Блябтрой, говорят, упоминание о нем есть даже в «Улиссе» Джойса… Улиссе? Так что же такое «киноязык»?..
Приключение взгляда
– Ваш последний фильм называется «Взгляд Улисса». Главное его действующее лицо – режиссер, совершающий путешествие сквозь время и пространство. Насколько взгляд Улисса соответствует взгляду человека через камеру?
– Режиссерский взгляд – это тоже приключение, только иного свойства. Вернее, так: то, что я снимаю, – это приключение взгляда. Взгляд через камеру настраивает на внутреннее путешествие. Если путешествие Улисса истолковывать на современный лад, его можно назвать воображаемым. Это своего рода путешествие по жизни, которая могла быть чьей угодно. Ведь перед нами, путешествующими по жизни, непременно встают все те же самые препятствия, с которыми сталкивался Улисс: все эти сирены и так далее. Во почему путешествие Улисса можно назвать типическим, это путешествие-посвящение. Кстати, это первое описанное путешествие во всей европейской культуре. Не знаю, было ли что-нибудь подобное в Китае, но в Европе не было.
– Можно ли сказать, что ваш режиссер пытается смотреть на мир взглядом Улисса, то есть невинным, не отягощенным мудростью взглядом?..
– Но наивность, невинность и есть мудрость. Когда я говорю «наивность», я подразумеваю просто ясность взгляда, а значит, и мудрость. На моем предыдущем фильме «Прерванный шаг аиста» мне пришлось работать с детьми, в частности с мальчиком пяти с половиной лет. По-моему, мне никогда никто не задавал таких серьезных вопросов, какие задавал этот ребенок. Перед ним я порой сам чувствовал себя бо́льшим ребенком, чем он. Он то и дело поражал меня какой-то кристальной ясностью видения жизни.
– Вы словно пытаетесь столкнуть ту безмятежную картину жизни, которая предстает перед нами в кадрах старой кинохроники начала века, которую ищет ваш герой, и кошмарную, полную катаклизмов, балканскую реальность сегодняшнего дня?.. Это так или не так?
– Я бы не стал так утверждать. Первые, действительно мирные, кадры архивной кинохроники были сняты в 1905 году… Но не забудем, что уже в 1908-м в том регионе произошла Младотурецкая война, четырьмя годами позже – I Балканская, потом II Балканская война, Первая мировая, Вторая мировая… Братья Манакисы, чью хронику ищет герой Харви Кейтела, действительно начали снимать в мирное время, но какой может быть мир в районе, оккупированном оттоманами, где то тут то там происходили маленькие революции, все это было как раз перед взрывом, перед вспышкой. Фильм как бы соединяет конец века с его началом, он соединяет взгляд режиссера начала века со взглядом режиссера конца века. Эта сцепка происходит, когда в одной из сцен герой что-то говорит и на его лице мы видим, возможно, отсветы демонстрируемого фильма, который он уже открыл для себя. Это попытка подвести итоги века. Века кино.
– Сейчас многие утверждают, в частности Александр Сокуров, что снимать войну с ее ужасами, смертью аморально. Эта проблема дебатируется еще со времен Якопетти. Вы считаете, что можно эстетизировать смерть, или художник должен себя как-то ограничивать?
– Все зависит от того, зачем это делается, что ты этим хочешь сказать. Если ты используешь войну, чтобы не упустить «горячие факты» или хочешь просто засвидетельствовать свое присутствие – раз в Боснии идет война, надо снимать в Боснии – да, наверно, это нехорошо. Но если ты показываешь войну как часть человеческого существования, давая всем понять, что конца ей не видно, – почему бы и нет? Ведь слово «Сараево» уже не означает только лишь Сараево как таковое. Сараево – это символ всех осадных положений, включая наше внутреннее состояние людей, которых осаждают страх и смерть. Ведь я не снимал войну как таковую – в моем фильме нет боев и ничего такого. Я показываю последствия войны. Есть режиссеры, которые делают фильмы, чтобы показать: здесь хорошие, а там – плохие. Я же говорю о человеческом существовании в этих условиях. Я говорю о людях, попавших в ловушку истории, показываю, что даже в этом немыслимом положении, когда идет война, когда тебя повсюду окружает смерть, человек пытается сохранить память о мире. Он проявляет пленку, запечатлевшую взгляд начала века, взгляд пленного, чтобы встретиться с ним и сказать: вот свидетельство, благодаря кино оно сохранилось. А это означает, что останутся свидетельства и нашего времени, и их увидят люди будущих времен, подобно тому как мы в конце столетия видим потерянные изображения этих двух людей. Фильм говорит о ценности памяти. Чтобы идти вперед, нужно знать, что было вчера. Для меня прошлое, настоящее и будущее едины, каждое мгновение является одновременно прошлым, настоящим и будущим. Помните сцену на танцплощадке? Там одновременно сосуществуют два времени, в небольшую сцену укладываются пять лет истории. Мне хорошо понятен ваш вопрос, им задаются многие: идет война, а мы снимаем кино… Но у меня совершенно нет ощущения, что я чем-то злоупотребляю, наоборот, есть ощущение, что я повествую о ситуации гораздо более широкой, чем конкретная война в Боснии. Сегодня подобное случилось в Боснии, а завтра – где-нибудь еще. Воюют в Палестине, в Африке. Везде. И повсюду такое же Сараево.
– Обычно, когда происходит подобный катаклизм, к нему обращаются оперативные средства массовой информации: телевидение, информационные агентства и т. д. Я не могу припомнить ни одного полноценного художественного произведения, которое бы создавалось синхронно с самим событием. Как вам удается абстрагироваться от события, составляющего основу сюжета, чтобы обрести эпический взгляд?
– Во-первых, я очень рад все это слышать, так как стремился создать фильм, в котором реальность выступала бы в качестве преходящей, сиюминутной и в то же время в некотором смысле приобретала типическое измерение. Конечно, именно этим некогда занимался и Гомер… Кстати, Троянская война происходила задолго до Гомера, он свои поэмы написал гораздо позже… Но в принципе это очень лестное для меня замечание.
Проблема же заключается в том, что всегда испытываешь очень сильное влияние реальности: она так ужасна, что ты рискуешь быть захваченным ею в плен, в результате чего может получиться документальный фильм, или же, сгустив краски еще больше, ты можешь родить на свет некое подобие американского кино… Например, Албания не такая, какой я ее показал, она полна людей, которые ничего не делают, у них нет работы, но улицы буквально наводнены людьми. Когда я увидел массу людей с совершенно отсутствующим взглядом, так как они не знали, куда идти и зачем, я почувствовал их одиночество и передал его в фильме через их… отсутствие в кадре. На площади сидит одна старуха – и больше никого. Сараево в моем фильме – полная противоположность тому Сараеву, которое можно увидеть по телевизору. Метод определялся стилем фильма, а он был устремлен к тому, чтобы не быть по-рабски захваченным реальностью, вообразить реальность твоих внутренних ощущений, может быть, более выразительную, чем та, что существует на самом деле. Проблема взгляда – «вижу» – «не вижу» – проходит через весь фильм, особенно характерна с этой точки зрения сцена расстрела в тумане.
– Когда композитор сочиняет музыку, он часто сперва слышит тему, скажем, флейты или какие-то другие разрозненные инструментальные темы, и лишь потом все складывается в целостную, объемную музыкальную картину. Что для вас является первоначальным посылом к фильму, та образная нота, что рождается первой?
– То, о чем Вы спрашиваете, заставляет меня вспомнить Тонино Гуэрру, моего постоянного соавтора по сценариям, он у меня спрашивает: «Ну, какую ты взял ноту?» А я ему: «Какую еще ноту? Там нет никаких нот!» Я мог бы привести Вам в пример то, как рождалась одна из важнейших сцен в фильме «Прерванный шаг аиста». У меня там свадьба происходит на границе между Грецией и Албанией, и девушка, невеста – по одну сторону границы, а жених – по другую. Они молча подходят к берегу с разных сторон, и венчание проходит в полной тишине, священник лишь делает какие-то знаки. Сцена совершенно немая, только журчит вода в реке – так совершатся весь церковный ритуал. Меня многие спрашивали: «Как вам пришла в голову эта сцена?» Она мучала меня очень долго, скажем, я думал про нее, когда как-то раз ехал на автобусе из Бродвея в Бронкс, видел большие лимузины и тут же – бедность, обветшалые дома… с кинематографической точки зрения это было совершенно необыкновенно. Пока мы проезжали Гарлем, мысли об этой сцене не выходили у меня из головы. Это вообще все происходит подспудно – хотя на поверхности все спокойно, внутри словно кровоточит… И я вдруг вспомнил, как когда-то читал в газете заметку о жителях острова Крит, который находится, как известно, к югу от Греции. Вокруг Крита расположены маленькие необитаемые острова и среди них один, чуть больше остальных, на котором живут пастухи. Теперь все стало проще, а в 1958 году было просто ужасно, потому что из-за стремительного морского течения туда невозможно было доплыть, и порой пастухи оказывались на острове в совершенной изоляции. Но жизнь есть жизнь, они должны были жениться, они умирали, их надо было хоронить, и если кто-то умирал, они брали куски дерева и стучали ими один о другой так, чтобы их услышали на Крите, по другую сторону бушующего моря. Критский священник выходил на берег, поднимался на скалу и, стараясь перекричать шум моря и ветра, служил мессу. А на другой стороне в это время хоронили усопшего. И я подумал: вот! Река, здесь – одни, там – другие, здесь – жених, там – невеста, эта заметка вдруг помогла мне найти решение. Представляете, как долго я носил в себе эту историю, чтобы она оформилась в законченную сцену… Многое вокруг тебя ведет эту подспудную работу по выращиванию образа, в том числе и время. Мой первый фильм – об убийстве, он называется «Реконструкция», и это тройная реконструкция. Убийство произошло в горах, женщина с помощью любовника убивает своего мужа, приехавшего из Германии, куда он ездил на заработки. В сущности, это классическая трагедия об Агамемноне, который возвращается с войны, после чего его убивают. Я эту историю вычитал в газете. Мой сюжет – моя реконструкция события. Полиция провела расследование – это ее реконструкция. Журналисты рассказали эту историю – они тоже по-своему провели реконструкцию. В результате мы видим три реконструкции, которые, сплетаясь, ни к чему не ведут. Всё упирается в тайны, которые охраняет человек. Женщина отказывается участвовать в реконструкции события. Ей дают веревку, чтобы она показала, как она убила мужа, она отбрасывает ее со словами: «Никто мне не судья». Ужасные слова. В результате героев арестовывают, после того как их уводит полиция, следует финальная сцена, в которой я показываю закрытую дверь дома, в котором есть входы и выходы, показываю, как приходит любовник, как возвращается муж, как он зовет жену, как он входит в дом, как приходят из школы дети, как они играют во дворе, как входит в дом любовник, как он выходит из дома, а вслед за ним выходит женщина, но убийства, происшедшего внутри дома, никто так и не видит. Когда я придумал эту сцену и рассказал о ней оператору, он спросил: «Ты думаешь, это можно снять одним планом?» Я ответил: «Да». «Представляешь, сколько времени это займет, – ведь у нас бобины только по сто двадцать метров…» – тогда еще не было трехсотметровых. Я сказал: «Минуточку, я закрою глаза и мысленно просчитаю длительность». Получилось четыре минуты с секундами. Видите, время, хронометраж – дело интимное, внутреннее. Внешнее – это монтаж, при помощи которого можно сделать всё, что хочешь, но, как это ни ужасно, в своих фильмах я ничего не могу спасти при помощи монтажа. Сцены остаются такими, какими они получились. Или они хороши, или – нет. Снимать то, что я хочу, при помощи трех или четырех камер невозможно. Я признаю только один взгляд, то есть одну возможность, камера должна быть там и больше нигде, нельзя расставить камеры и там, и там – нет: для камеры возможно только одно положение.
– Может быть, поэтому ваши герои пьют за Эйзенштейна, которого они любят, а он их – нет?..
– Это просто шутка. Эйзенштейн был крупной фигурой немого кино и остается великим до сих пор. Но, на мой взгляд, у него все слишком выстроено, слишком уж рассудочно, хотя видно, что над этим работал гений. Я люблю Дрейера, он рассуждает на высокие темы, скажем, говорит о Боге, на очень простом языке, он творит свои простые чудеса. Например, фильм “Слово” – он говорит о чуде и сам является чудом.
– Можно сказать, что вы научили Грецию, страну с богатейшими культурными традициями, говорить на языке кино. Нас всегда учили, что театр с его условностью – заклятый враг кино. В ваших картинах кинематографизируется сам театральный принцип…
– Я считаю, что кино – это всё, что запечатлено на пленку. Вы, конечно, видите, что изображение в моих картинах играет огромную роль. Текст менее важен. Бывают и безмолвные куски. В театре это невозможно. В современном театре, правда, скажем, у Петера Штайна, есть вещи, которые можно определить как «не-тексты». Например, я видел в Париже несколько лет назад очень известную пьесу Боба Уилсона «Взгляд глухого» – абсолютно немую, там нет текста, нет диалога. Тем не менее это не кино, это театр. Правда, когда ваш глаз следит за актером, он как бы мысленно меняет фокусное расстояние, совершает мысленные наезды и отъезды, трэвеллинги. Вы можете получить представление как о всей сцене целиком, так и о частностях, сфокусировав свой взгляд то на декорации, то на актере, на его лице, его движениях… то есть ваши глаза как бы производят съемку с движения. Это своего рода внутренний монтаж, который совершает каждый из зрителей. Лично я предпочитаю снимать именно так, используя трэвеллинг, съемку в движении. Кто-то другой предпочитает монтажный стык. Мои фильмы называют театральными, потому что рамки кадра часто остаются неподвижными, актеры то входят в кадр, то выходят из него. Но по этой логике театрально все великое японское кино, театральны Одзу, Мидзогути. А глубина кадра, когда мы ощущаем второй, третий его уровни?.. А неподвижные кадры, например, вид темной воды – это театр или нет? Не думаю. Словом, я повторюсь, кино – это всё, что запечатлено на пленку. Вы говорите о греческих культурных традициях… Было бы трагедией, если бы все вокруг делали только американское кино. Воцарилось бы ужасное однообразие. Это замечательно, что существуют разные способы смотреть на мир. Известно, что Бергман признает лишь одну биографию – биографию человеческого лица. Но есть Антониони, он мастер пейзажа. У Висконти многое определяет предметно-декоративная среда: поскольку он рассказывает о крупной буржуазии Милана, он хочет, чтобы, скажем, пепельница была непременно из чистого золота, он фетишизирует предметы… Есть Орсон Уэллс, есть Эйзенштейн… И хорошо, что все они есть. Я, например, совершенно не могу представить героев в отрыве от окружающей среды, вне их отношений с природой и домом. Жизнь человека обусловлена тем местом, где он живет. Декорации и действующие в них герои находятся в постоянном диалектическом взаимодействии. И море можно снимать по-разному. Один из привлекательных моментов в нашей работе – возможность что-то изменять, причем не только действия, но и места. Я создал некоторые вещи, которых в действительности не существовало, это чисто воображаемые вещи. Например, деревню на дне озера. В течение зимы она пустует, но потом поднимается и заполняется людьми. Поскольку я считаю этот фильм трагедией, необходимо было единство места, времени и пространства. Фильм начинается в этом месте и заканчивается в том же месте. Он начинается в несуществующей деревне, потом она создается, потом затопляется, потом полностью уничтожается. Или же дом, в котором жил один из героев. Дом тоже в руинах, нет дома.









































