Текст книги "АЛЛЕГРО VIDEO. Субъективная история кино"
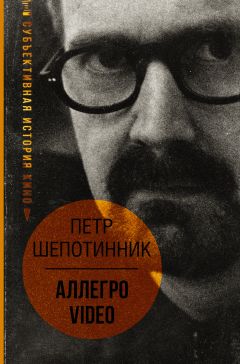
Автор книги: Петр Шепотинник
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Какие стереотипы истории вы хотели разрушить в этом фильме?
– Ну прежде всего я не историк, история – лишь фон, на котором я рисую. Меня интересует то, что происходит с людьми, судьба моих персонажей. Они родились где-то в другом месте, уехали со своей родины, прибыли в Грецию как беженцы. Они перебираются из города в город, всё больше и больше, без остановки. У них нет своего дома. Определение этого фильма простое – греческая трагедия.
– Образ Греции, как видится вам, скорее женский, чем мужской?
– Говоря метафорически, да. Возможно, да. Ведь по-гречески «Греция» женского рода.
Частично напечатано в журнале «Искусство кино»
Рой Андерссон
В 2019 году Рой Андерссон в Венеции интервью никому не давал. Заболел. Время берет свое. Никому не хочется представать перед журналистами – в большинстве своем бестолковыми – в инвалидной коляске. Да и что тут объяснять, доказывать, досказывать, уточнять: он из породы режиссеров, от которых даже странно требовать комментов к своим произведениям. Вербализировать его кино небезопасно – словесные выкладки могут обесценить ту летучесть мгновенного попадания в образ, который он, подобно Набокову с сачком, пытается поймать и сразу придать ему скульптурную законченность и грустную и в то же время комичную театральность. Кому-то его последний на сегодняшний день фильм «О бесконечности» показался усталым, типа некогда великий автор выдохся. А по-моему, наоборот – он сознательно уходит от нарратива, в большей степени задействуя наше зрительское соавторство «смотрения». Есть поэмы, а есть трехстишия – что лучше? – ведь идиотский вопрос, не правда ли? Да и есть ли грех в том, что автор и так не слишком резвый, окончательно решил не спешить? Он избежал посредников в своем разговоре со зрителям, сославшись на здоровье, но и тогда, в 2015-м, когда состоялась эта беседа, тоже в Венеции, выглядел неважно, давно ушедшая шальная молодость светилась задорными хитринками разве что в его глазах, в которых невероятное участие и неравнодушие. Глупость заключалась в том, что мне пришлось – первый и последний раз в жизни! – говорить с автором, посмотрев лишь развернутый шестиминутный ролик «Голубя, который сидел на ветке и размышлял о бытии» – так странно были организованы журналистские джанкеты… Он знал об этом, и, ничуть не расстроившись, разговор начал сам…
«Последний раз я плакал лет сорок назад…»
– …На этот раз в моем новом фильме – будут кое-какие ассоциации с Россией.
– И какие же?
– В Швеции долгое время существует определенная проблема русофобии, и в новом фильме я затрагиваю эту проблему, но слегка, не очень подробно.
– Интересно. Завтра поглядим. А вот эта история с ноутбуком, которую я видел в ролике… Мне показалось, что вы все время стараетесь – как бы это сказать? – шутить со смертью. Так ли это?
– Да, так, потому что все мы боимся смерти. Мы стараемся избегать смерти как можно дольше, но я хочу посмеяться над тем, что смерть нас пугает. По-моему, в смерти, в том, как мы ее встречаем, есть что-то очень комичное. Мне вообще иногда хочется смеяться надо всем на свете, даже над серьезными вещами. Я большой поклонник некоторых старых киноартистов, например Оливера Харди и Стэна Лорела, и когда еще ребенком я впервые увидел их фильмы, то смеялся, но одновременно грустил, почти плакал. Так что, наверное, мне даже в детстве была близка трагикомедия.
– Как вы думаете, на протяжении вашей жизни ваши фильмы становятся смешнее или печальнее?
– Вы об этом фильме спрашиваете? Я надеюсь, что люди сочтут его более смешным, но, с другой стороны, в нем есть кое-какие очень страшные вещи, очень страшные и очень жестокие.
– Сколько времени ушло у вас на работу над фильмом? Я слышал, что вы очень долго готовились.
– Четыре года. Это, наверно, в два с лишним раза дольше, чем стандартный срок работы в шведском кино над игровыми фильмами. Но большая часть времени была потрачена на создание декораций. Потому что все сцены – это своего рода натюрморты. В павильоне было построено тридцать девять декораций – большие и маленькие. Это и заняло четыре года. Кстати, кстати… у вас в России был необычайный художник, он жил в XIX веке… погодите, и до XX тоже дожил… Илья Репин… Так вот, когда он писал картину «Казаки пишут письмо турецкому султану» (изображает жестом), то потратил на подготовительную работу одиннадцать лет. Конечно, он параллельно и другие картины писал, но все равно – одиннадцать лет! На этом фоне четыре года, которые я потратил на фильм, – просто ничто! После чего «Казаки» вошли в историю живописи. Надеюсь, что и мои фильмы, хотя бы какие-то их кусочки, войдут в историю кино.
– Непременно. А замысел вашего фильма как-то менялся за эти четыре года, пока вы готовились к съемкам? Может быть, какие-то небольшие изменения в сценарии?
– Да нет, ничего существенного. А вот мир изменился – Европа, Ирак, Афганистан, кризис на Украине. Но в основном все по-прежнему. Я интересуюсь историей, я могу разобраться во всех этих исторических переменах. Самое новое явление, которое сейчас есть, – это группировка «Исламское Государство» (признано незаконным в РФ – П.Ш.), джихадисты. Я думаю, мы разгромим «Исламское Государство» быстро, насколько это возможно… Что же касается Украины, я воздержусь от таких смелых прогнозов. Но я не уверен, что надо так жестко критиковать Россию из-за Украины, но, возможно, вам лучше не спрашивать меня об этой теме…
– Безусловно. Давайте поговорим о голубе, который дал имя вашему фильму.
– Голубь? Ну-у, голубь – это не самая уважаемая птица, особенно городской голубь. К лесным голубям уважения больше. Но вот что случилось: я сидел и писал сценарий, на втором этаже, а за окном, очень близко, уселся голубь. А я сидел, обдумывал сценарий, и мне пришло в голову: «Может, у голубя тоже какие-то проблемы?» И действительно, у голубя тоже есть проблемы, голубю всегда приходится думать, что делать дальше.
– Ваши фильмы – нечто уникальное. Ваши фильмы невозможно представить на бумаге – их можно только нарисовать, как рисует художник.
– Не совсем так. В молодости я хотел стать писателем, я вдохновлялся литературой и историей, в особенности Чеховым, Гоголем тоже. Меня также сильно вдохновляла история живописи, от Ренессанса до наших дней. И мне кажется, во мне были способности к этим двум видам творчества. И это сочеталось с кое-какими способностями к музыке: я в молодости играл на тромбоне (показывает жестом). И если объединить все эти страсти – к живописи, к музыке, к познанию мира и к писательству… я решил, что кинорежиссура дает возможность проявить все эти таланты.
– Мне кажется, когда смотришь ваши фильмы, очень трудно понять, как реагировать – плакать или смеяться.
– Очень рад это слышать. Хотя я сам снял эти фильмы, тоже никак не могу понять – плакать или смеяться. Иногда надо плакать, потому что это сплошная безысходность, сплошное безумие. Но, думаю, по большей части надо смеяться.
– Я знаю режиссеров, которые плачут, когда осознают, что сняли очень хорошую сцену. Плачут оттого, что здорово получилось. А с вами так бывает?
– Ох… Если я и плачу, то над жестокостью мира. Когда вижу, как люди обходятся друг с другом. Но вообще-то я не плачу. Мне как-то трудно плакать. В последний раз я плакал лет сорок назад. Но я считаю, что юмор – очень полезное средство выживания. Юмор нам всем полезен. Когда накаляется политическая обстановка, юмор восстает, бунтует против начальства, против власти, юмор – средство выживания.
– Отличается ли шведский юмор от русского юмора? Что такое, на ваш взгляд, типично шведское чувство юмора?
– Не знаю. Мне кажется, шведский и русский юмор очень похожи, в конце концов, всё это – юмор человечества. Мы очень близки друг к другу, несмотря на то, что вы говорите по-русски, а мы – по-шведски, несмотря на специфическую политическую обстановку… мы очень похожи. Потому-то я с удовольствием снимаю свои фильмы и хочу показывать их людям в России и по всему миру, чтобы вы узнали, как мы смотрим на мир. И мне также интересно знать, как смотрят на мир русские режиссеры или, скажем, норвежские писатели.
– А почему вы не обратились к другому Андерссону – великому и могучему Бенни Андерссону, который писал музыку для ваших фильмов «Ты, живущий» и «Песни со второго этажа»?
– Увы, на этот раз у него не нашлось времени, хотя я его приглашал. Они вместе с сыном создали продюсерскую компанию, чтобы снять игровой фильм. Это экранизация очень знаменитого романа шведского автора. Так он хотел помочь сыну продвинуться в киноиндустрии. Я пока не знаю, что у них получилось, надеюсь, фильм будет хороший.
– В вашем фильме много персонажей. Кто из них, возможно, является вашим alter ego?
– Олаф, потому что я сам из рабочей семьи, и мне очень симпатичны люди из этого слоя, люди пролетарского происхождения. Они формулируют философские вопросы не самым заумным языком. Они говорят на общечеловеческие темы, но очень простыми словами. Вот чему я хотел бы подражать.
– А как, по-вашему, изменился рабочий класс?
– Со времен моего детства он изменился полностью. В современном обществе рабочий класс – не такой уж многочисленный. Это раньше в Швеции был настоящий рабочий класс, потому что у нас была успешная промышленность: судовые верфи, «Вольво». Теперь пролетариат сильно изменился. Мне кажется, во всем мире происходит то же самое. И всё-таки до сих пор есть люди, которые не имеют философского образования, но стараются выразить философские понятия самыми простыми словами. И я стараюсь это показать, особенно в фильме «Песни со второго этажа», потому что это фильм о вине, о коллективной вине. Как определить коллективную вину, что это такое? А теперь я пытаюсь сформулировать основные вопросы человеческого бытия. Можем ли мы превращать других людей в игрушки ради нашего собственного удовольствия? Допустимо ли это делать? Люди считают, что могут использовать других людей как вздумается, без малейшего уважения и просто для своего развлечения.
– Когда я смотрел ваши фильмы, у меня было чувство, что люди, мужчины, женщины, животные и даже вещи словно уравнены в правах – они имеют для вас одинаково большое значение.
– Да, я стараюсь визуализировать жизнь в сконцентрированной форме, в форме, очищенной от случайных деталей. Я иногда вспоминаю слова Матисса: «Уберите с картины всё, кроме абсолютно необходимого». И я пытаюсь сделать то же самое. И тогда определенные вещи станут более четкими. Диван станет диваном и тому подобное. Я увлеченно работаю в этом стиле, потому что никак не смог бы снимать реалистические фильмы, просто выходить на улицу с камерой… Нет-нет, мне это ничего не дает…
– А как вы относитесь к новым технологиям, к цифровому кино? Дают ли они вам что-то новое в процессе работы?
– Да, снимать стало легче, потому что когда у тебя есть дисплей на съемках, не надо ждать до следующего дня, пока материал проявят в лаборатории, ты немедленно видишь, хорошо ли получилось. Мне также нравится, что новые технологии позволяют тебе четко сфокусироваться. Биться до самого конца. И мне это нравится. Это такой новый объективизм – когда всё абсолютно четко, возможно всё.
Печатается впервые
Оливье Ассаяс
В чистом жанре Оливье Ассаяс работал разве что однажды – в его лишенной артхаусной расслабленности, искусной, беспощадно-реалистической телевизионной саге о венесуэльском революционном террористе «Ильиче» Карлосе. В остальном же в ассаясовских фильмах, несмотря на обманчивое название его единственного чистого «ретро» – фильма «Сентиментальные судьбы», – сюжеты развиваются, скорее, по законам интеллектуального спора, а не привычных драматургических схем, предусматривающих развязки/завязки, усиление или же убывание эмоциональной напряженности, наконец, катарсис. Его кинематограф – несмотря на то что он щедро развил талант одного из самых «кинематографичных» операторов современности Эрика Готье, – что называется, идейный. Наверное, это плохо, но и хорошо, ведь он такой, в сущности, единственный – именно поэтому все большие фестивали непременно включают его в свой оборот, как ни пародийно «джинсово-маечный» Ассаяс смотрится на всевозможных красных дорожках в отутюженном тукседо с бабочкой. Ассаяса часто упрекали в некоторой рассудочности сюжетных ходов, бестелесности героев, но он как никто в кино активно пытался экранизировать нервно пульсирующую современную общественную мысль. И делал и делает это он всегда небанально, то заглядывая в вечно актуальное, по-детски революционное, прошлое конца 60-х, то введя в кинематографический арсенал («Персональный покупатель) такое новейшее приспособление, как messenger, выполняющий в фильме функцию постороннего сознания, продвигающего сюжет, или же – как совсем недавно в «Двойных жизнях» – пытаясь вмонтировать в нехитрую в фабульных векторах галантно-богемную эротическую неразбериху волнующую его тему исчезновения книги в ее классическом «книжном» варианте. У него меньше всего отводится места героям как таковым, больше – идеям, которыми они одержимы. Вот так, буквально захлебываясь от моментального счастья высвобождения протестных идей вели нескончаемые споры не о любви герои-любовники, еще не испившие до конца чувство эйфории конца 60-х, так же, передоверив свои мысли айфону, разговаривает со своими таинственными собеседниками – и реальными и полу-вымышленными – героиня Кристен Стюарт в «Персональном покупателе» и в таком же неуёмном темпе, перебивая друг друга, ищут спасения в слове герои фильма «Двойные жизни», что более чем объяснимо, ибо речь идет о существовании книг в нашем быстро обновляющемся, все больше напоминающем виртуальный, мире. Мы трижды встречались с Оливье Ассаясом – сначала в Венеции в связи с фильмом «После мая» (или «Что-то в воздухе»), затем – в Париже, беседуя о «Персональном покупателе» и, наконец, вновь в Венеции – сразу после премьеры его последней на данный момент картины «Non-Fiction» («Двойные жизни»). Беседовать с Ассаясом – сплошная радость для журналиста – он не ограничивается двумя-тремя фразами, охотно включается в спор, словно договаривая, уточняя все то, что сказано или недосказано его героями. Поэтому, несмотря на то что визуальный ряд ассаясовских картин соткан из причудливых, беспокойных трэвелингов, словно пытающихся угнаться за временем, его главное кинематографическое орудие – всё-таки слово. Хотя я не вполне в этом уверен.
Не-революция школьников
«После мая». «Что-то в воздухе»
– Каким образом революция конца 1960-х изменила язык кино?
– Вообще-то язык кино изменился еще раньше. Его изменила «новая волна», его изменили кино-эксперименты конца 50-х – начала 60-х, независимое кино разных стран… Вот вам мой личный пример: мое отрочество пришлось на середину 70-х. Конечно, кинематограф на меня тогда повлиял, но кино в то время не было главным искусством, а самое главное происходило в области музыки. И больше всего на меня влияла именно музыка, политическая жизнь, свободная пресса. А фильмы как-то всему этому вторили, и мне нравились те из них, которые были созвучны тому, чем я жил, этому духу определенной культуры… Например, это были картины американских независимых режиссеров…
– А какие отголоски 60-х вы замечаете в сегодняшней культуре? И как эта перекличка времен «носится в воздухе» вашего фильма «После мая»?
– Да, все это присутствует в культуре, никуда не уходит. Это феномен – и интересный, и удручающий. Иногда у меня появляется ощущение, что время идет по замкнутому кругу: музыкальные стили, мода 60-х – всё это возвращается постоянно, как будто та эпоха вообще не ушла в прошлое. И это даже действует на нервы: хочется, чтобы жизнь, наконец, сдвинулась с мертвой точки, чтобы все развивалось, усложнялось. Поразительно.
– А в наше время слово «свобода» понимают так же, как в 60-е? Или по-другому?
– По-другому. И я глубоко поражен тем, как изменилось мироощущение людей. В 70-х люди верили в будущее, в грядущую революцию, верили, что преобразить мир вполне возможно. И, делая революцию, они оглядывались назад, изучали прошлое, политическую историю двадцатого века, века, который столько всего изменил. Теперь все эти традиции утеряны. Люди не верят в будущее и не интересуются прошлым. Им важны только материальные ценности сиюминутной жизни.
– А ощущали ли вы некий разрыв между поколениями, когда снимали фильм? Ведь молодежь сейчас – совсем другая, она ничего не знает о революциях и прочих подобных вещах…
– Совершенно верно, не знает. Но, впрочем, не всё так просто. Ведь всегда есть некие трения между личностью и коллективом. Когда я был подростком, я интересовался всякими завиральными идеями, контркультурой. И эти интересы были созвучны интересам моего поколения. И в других школах, городах, странах мне все время попадались на пути мои единомышленники: они точно так же интересовались свободной прессой, андерграундными пластинками, политикой, демонстрациями, но… Но в то же самое время в своей школе я чувствовал себя в полной изоляции. Потому что большинство моих одноклассников ничем таким не интересовалось, им на всё это было наплевать. Как и нынешней молодежи. Мои подлинные единомышленники всегда были и есть в меньшинстве. Всё то же самое стало очевидно, когда я проводил кастинг. И я выбрал тех, кто был «не из толпы», кто был по-своему уникален.
– Пусть уникальные, но способны ли эти ребята сделать революцию?
– Ну, что вы! Школьники не делают революций. Они могут поддержать революцию, могут на нее откликнуться, но делать революцию – это не по их части. Нынешнее поколение менее доверчиво. Оно меньше надеется на то, что идеи или политики способны изменить мир. Нынешние молодые делают вид, что способны изменить мир, но в глубине души им самим в это не очень верится. И это печально.
– В наше время намного проще сделать революцию, используя интернет, «facebook». Или нет? Или получится не революция, а что-то другое?
– Получится не революция, а что-то другое (смеется). Ну-у, со всей уверенностью утверждать не могу – может, и получится. Факт, что интернет и социальные сети создают ощущение, будто ты обретаешь могущество, будто ты хозяин своей жизни. Но это всего лишь жизнь здесь и сейчас, в момент, оторванный от прошлого и будущего, и это не может заменить глубокое понимание социальных процессов, социальную критику событий. Надо книги читать, надо анализировать современное общество. А по-моему, очень многие современные политические теории заимствованы у прошлых эпох и не имеют прямого отношения к конфликтам и противоречиям нашего сегодняшнего дня.
– У вашего героя рождается замысел его дебютной работы – фильма про монстров. А в чем состоял замысел вашего первого фильма?
– Если быть точнее, это не его личный дебют в кино, а первый фильм, в создании которого он участвует. У него просто стажировка на киностудии, где снимают этот самый ужастик старой школы. Но это отчасти отражает мою собственную биографию. Я стажировался на киностудии в Лондоне и работал над экранизацией «Супермена». Так что всё чуть-чуть совпадает.
– Вам трудно было в фильме «После мая» воссоздать тогдашний мир?
– Нет, ничуть, потому что было с чем сравнить – я так намучился на предыдущем фильме! Это был «Карлос», там я воссоздавал мир 60-х, 70-х, 80-х скрупулезно, во всей его сложности. Кроме того, на «Карлосе» каждую сцену, каждую деталь, каждую реплику приходилось выверять, подтверждать историческими источниками. Это был очень сложный процесс. А здесь я сам мог все сверить с другого рода «источниками» – с собственной памятью, с собственными переживаниями, ведь я жил в то время.
Месть подсознания
«Персональный покупатель»
– Возможно, странный вопрос. Я посмотрел ваш фильм сейчас во второй раз, первый раз это было в Канне. И мне показалось, что именно этот ваш фильм надо пересматривать много раз (режиссер кивает). Когда вы его снимали, вы предполагали, сколько раз его следует смотреть?
– Ну-у, знаете ли… Это как приезжать в одно и то же место много раз, – каждый раз непременно видишь его по-новому. Я считаю, что так происходит и с фильмами, и вообще со всеми произведениями искусства. Но у кино есть одна проблема: очень мало зрителей, которые смотрят один и тот же фильм два и уж тем более три раза. Полагаю, фильмы заранее создаются так, чтобы действовать на зрителя с первого же раза. Но если фильм хоть сколько-нибудь глубокий, если в нем рассматривается неоднозначность человеческих переживаний, то и сам фильм меняется в зависимости от того, в каком настроении, в какой ситуации ты его смотришь. Этот закон вдвойне верен для фильмов из программы Каннского фестиваля: ты делаешь свой фильм для аудитории, которой приходится отсматривать по четыре фильма в день. И подсознательно реакция на твой фильм будет зависеть от взаимодействия с впечатлениями от других фильмов в тот день. Так что, по-моему, остается только одно: насколько это в твоих силах, постараться снять действительно хороший фильм, и сознавать, что у тебя будут самые разные зрители в самых разных странах, в разных ситуациях. Главное – вложить в фильм все свои силы, и всё, будь что будет.
– Сегодня мы начали день с интервью с Тьерри Фремо. И мы обсуждали с ним уходящее глубоко в историю противопоставление кино Луи де Люмьера и кино Жоржа Мельеса. Возможно, это противопоставление надуманное…
Нет-нет, оно вполне реально, это что-то вроде разницы между Энди Уорхолом и «Кинг-Конгом». Есть кинематограф, который стремится показать всю сложность восприятия материального мира, а есть фильмы, которые погружаются в подсознание человека. Но по большому счету ты должен еще и попробовать разглядеть, как взаимодействуют материальный мир и подсознание, и я лично старался это сделать при работе над «Персональным покупателем». Так же и в живописи: есть импрессионисты, которые стараются передать все тонкости освещения, колорита, всё богатство ощущений, а есть художники-традиционалисты, которые работают исключительно в мастерской, сами ставят свет, используют натурщиков, свой набор костюмов. Эти два противоположных подхода можно встретить везде.
– Я не случайно вас об этом расспрашиваю. Мне всегда казалось, что вы как режиссер – законченный реалист. Но теперь, после «Персонального покупателя», я начинаю в этом сомневаться (режиссер смеется).
– А знаете, я думаю, что реальность – нечто сложноустроенное. Реальность – это еще и мир нашего воображения. Одно дело – материальный мир, а совсем другое (показывает на свою голову) – наше восприятие этого мира, которое предопределяется нашим подсознанием, нашим воображением, нашими представлениями о мире, которые вообще-то не менее реальны, чем осязаемая реальность. Они столь же реальны и даже, если позволите, еще более реальны.
– Но вы не реалист в подобном смысле.
– Ну-у, я думаю, что… всё зависит от того, как понимать термин «реальность».
– Хорошо. Но всё же сколько в вашем фильме уровней? Вы пытаетесь заглянуть за грань реальности?
– Да, да. Думаю, это как проводить химический эксперимент. Ты смешиваешь всякие вещества, и из них получается что-то новое, иное. Я считаю, что кино и наше существование сопоставимы по степени сложности. У нас есть наша повседневная жизнь, есть фильмы, которые мы смотрим, книги, которые мы читаем, телепередачи, текущая политическая жизнь. И мы живем на самых разных уровнях одновременно. В «Персональном покупателе» я имею дело – с одной стороны, преимущественно с материальным миром, но с другой, с миром духов. Но в мире духов тоже много разных уровней, один – это уровень твоих собственных устремлений, другой – уровень таинственного, на этом уровне ты взаимодействуешь со своим собственным подсознанием. Я считаю, что наши действия, наша жизнь предопределяются некими подсознательными силами, которые мы не вполне контролируем, не вполне понимаем. И точно так же существует и искусство – оно поднимает нас на уровень духовных поисков, когда мы пытаемся найти ответ на вопросы, которые нас волнуют. И вот поэтому здесь я пытаюсь нарисовать портрет женщины, которая одинока, ее дурацкая работа не приносит ей никакого удовлетворения, и она начинает искать нечто такое, что позволит ей вступить в контакт с глубинными, духовными аспектами своей личности.
– А какова роль дома в этом фильме? Дом – тоже важное действующее лицо…
– Обычно, когда я пишу сценарии, я подробно не описываю антураж, декорации и тому подобное, потому что мне важно другое – найти натуру, дом, квартиру, пейзаж, которые будут, так сказать, сами по себе создавать мой фильм. Эти решения я принимаю, когда уже непосредственно приступаю к работе. Здесь же у меня были заранее очень четкие представления о месте действия, о квартире, в которой разворачивается сюжет. Я чувствовал: фильм не «выстрелит», если я не найду именно такой антураж и реквизит, которые я навоображал, когда писал сценарий. Поэтому для этого фильма я решил специально изготовить декорации интерьеров квартиры. По большей части мы снимали в павильонах в Праге. Когда героиня находится в этой квартире, возникает некий подспудный надрыв. В ней есть что-то нервирующее – мы вроде бы ничего неладного не замечаем, об этом не задумываемся, пока смотрим фильм, но происходит нечто нереальное, искусственно сконструированное. Мы находимся в пространстве, которое замыкается на мир сновидений. Но многое снималось в абсолютно реалистичном антураже. Например, мы много снимали в гуще толпы в Париже, в метро, на вокзалах, на железной дороге, в подземке – и запечатлели повседневную жизнь Парижа 2016 года.
– В этом фильме вы также рассказываете о своеобразном современном рабстве. Героиня – в сущности, никто. Мы не видим – или почти не видим – ее в обществе хозяйки.
Меня заинтересовал образ человека, который выполняет некую совершенно отчужденную от реальности работу: она – сейчас так поступают очень многие – работает на хозяина, которого видит крайне редко, она не любит свою работу, не может самореализоваться. И поэтому героиня нуждается в установлении контакта с духовными сторонами жизни – это дает ей хоть какое-то утешение. Я считаю, что в мире погони за материальными благами нам нужна какая-то отдушина, ведущая в мир духовности, в мир чего-то незримого, неких мысленных представлений.
– Трудно ли режиссеру рассказывать историю с помощью мессенджера «whatsapp» и телефона? И как этот новый менталитет меняет если еще не язык кино, но что-то безусловно меняет в кинематографе?
– Для меня это суровая правда жизни – то, как смартфоны и другие новые средства связи формируют наше сознание. Они меняют то, как мы воспринимаем самих себя, наши отношения с другими людьми. Поскольку у всех нас есть смартфоны, которые подключены к интернету – то есть к совокупности всех знаний в мире, эти аппараты становятся продолжением нашего мозга и нашей памяти, а также сетью, которая связывает нас с родными и друзьями, знакомыми, с кем угодно! И это, по-моему, вопрос не только в том, пользуюсь ли я телефоном, мессенджерами и подобными вещами, – эти вещи становятся частью нас. В физическом смысле слова. И это одна из важнейших реалий современного мира.
– А насколько проблема, с которой сталкивается героиня, близка к вашей собственной жизни?
– Мне кажется, она близка и к моей жизни, и к жизни каждого из нас, потому что мы живем в мире, который почти не соприкасается с духовностью, и мы вынуждены сами себе изобретать духовную жизнь, ведь каждый человек нуждается в самоопределении.
– Возможно, «духовность» означает религию?
– Я тщательно выбираю слова. Я бы сказал: да, конечно, в том смысле, что религия для множества поколений людей в прошлом удовлетворяла эту нашу потребность. Но сегодня очень мало людей, у которых есть вера. Я и сам не имею веры… Я бы хотел уверовать, но так сложилось, что во мне этого нет, и поэтому мне нужно изобрести нечто, очень похожее на религию.
– По-моему, Франциск Ассизский говорил: «Человек, ищущий веру, уже уверовал».
– Да, да (смеется). Я его поклонник.
– Это было сложно для Кристен – играть, не произнося ни слова, играть в одиночку? В фильме столько безмолвия, столько тишины…
– Да, да. Мне кажется, играть в одиночку – самая трудная задача для любого актера. Вот почему в этом фильме вклад Кристен огромен. Я дал ей огромный простор для творчества, много сцен, где она играет одна… Ведь когда актер взаимодействует с партнерами это помогает ему играть, а когда актер один – гораздо сложнее с темпом, с проявлением эмоций. По-моему, Кристен нравится, когда перед ней ставят трудные задачи. Она так давно в актерской профессии, что могла бы, наверно, сыграть в любом фильме на автопилоте. Поэтому она нуждается в том, чтобы перед ней ставили по-настоящему трудные задачи, которые ее пугают, которые ее мобилизуют.
– А внесла ли она в фильм то, чего вы не ожидали?
– Разумеется! Во многих случаях я давал ей большую свободу. Ведь когда ты снимаешь диалог на восьмерке, ты можешь контролировать темп, либо темп предопределяется взаимодействием двух разных персонажей. А в этом фильме много панорамирования, когда камера долго следует за героиней. Я не так уж строго контролировал эти длинные планы, она сама выбирала темп. Кристен может играть и медленно и быстро, – обычно она играла гораздо медленнее, чем я планировал (улыбается), – но ей нужно было прочувствовать реальность этих ситуаций, вжиться в них, наладить свое особое взаимодействие с собственными эмоциями в этих ситуациях, найти свою собственную истину. Я не планировал за нее, что она будет делать, именно она взяла на себя, так сказать, «хореографию» фильма, сама задавала темп, сама выбирала, в какие именно моменты проявлять эмоции.
– Вы никогда не задумывались, почему кино родилось именно во Франции?
– (Опускает голову.) Действительно ли во Франции? Вопрос спорный. Но вы задали мне совершенно абстрактный вопрос, и мне придётся дать вам абстрактный ответ. Я думаю, что есть некоторые специфические черты, которые были свойственны французскому кино с самого начала. Взгляните на Францию в девятнадцатом веке: с одной стороны, возникла живопись импрессионистов. И импрессионисты нам словно говорят: мы не будем писать картины, затворившись в мастерских, – нет, мы будем писать под открытым небом, мы будем смотреть на реальный мир, на реальное, естественное освещение. С другой стороны, в тот же период работают поэты-символисты. И их интересует только все иррациональное, мир, который изобилует непостижимыми для нас явлениями, мир, устройство которого нам неведомо. Импрессионисты и символисты – люди одного поколения, одной эпохи, те же самые люди. И когда вы говорите, что в диалектическом противостоянии Мельеса и Люмьера есть нечто специфически-французское, это та же самая диалектика присутствует в противопоставлении живописи импрессионистов и поэзии французских символистов. Поэтому можно сказать, что эти установки Люмьера и Мельеса, которые определили облик раннего французского кино, пришли из французской культуры, из французского искусства. Но я считаю, что они стали предопределяющими и для истории кинематографа в целом, в самых разных культурах.









































