Текст книги "АЛЛЕГРО VIDEO. Субъективная история кино"
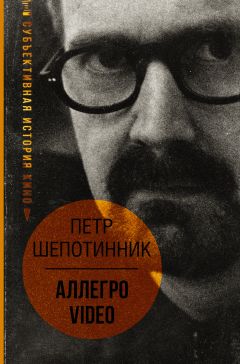
Автор книги: Петр Шепотинник
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Я чуть отвлекся. Неважно. И вот на основе этих традиций я должен был создать собственный язык. Когда я его только создавал, я чувствовал себя совершенно свободно, а сейчас, сняв огромное количество фильмов, я чувствую некоторое беспокойство. Мобилизуя свое чувство самокритики, я начинаю испытывать всё большее и большее чувство неловкости, поскольку приходится очень стараться, чтобы не сделать пастиш на самого себя.
– Какова концепция кадра для вас? Скажем, когда недавно я посмотрел фильм в IMAXe, у меня создалось ощущение, что кино как целое ускользает от моего взгляда? Вас, кстати, никогда не приглашали снять что-то для IMAXa?
– Да, меня приглашали, но само понятие кадра… Вы, наверное, видели множество моих фильмов, где я пытался играть с кадром, со множеством кадров хотя бы ради привлечения внимания к тому, что на бо́льшую часть западного искусства в последние 600 лет смотрели через кадр. Только задумайтесь: первоначально живопись отделилась от архитектуры, изобрела кадр как приспособление, часто основанное на понятии золотого сечения, предусматривающего гармоничную оценку пространства. В театре люди вроде Монтеверди копировали живопись, позже кино копировало театр, а еще позже телевидение копировало кино. Так что на всё пластическое искусство мы смотрим через это неестественное приспособление. Кое-что здесь можно поставить под вопрос, и конечно же, живопись, например американский экспрессионизм, пытается это сделать. Картины Марка Ротко и компании становились всё больше, больше и больше. Обрамление по периметру всего произведения уходило за пределы человеческого поля зрения. Вы упомянули IMAX, здесь такая же ситуация. Вы находитесь так близко от экрана, что не замечаете рамки. Но это западное изобретение. Восточная, например японская, живопись не использует рамки, но это совершено другой разговор. Эйзенштейн говорил об этом применительно к кино еще в 1927 году. Самый смелый эксперимент в области так называемого кадра был предпринят Абелем Гансом, который в 1929 создал фильм «Наполеон», в котором использовал три экрана. Я полагаю, для своего времени он достиг технологических вершин. Только представьте себе три огромных 35-миллиметровых проектора в обычном кинотеатре, управляемых единым синхронизирующим механизмом, что само по себе было очень сложно сделать, особенно с технологиями того времени. Естественно, никто за Абелем Гансом не последовал. Техника не дала им такой возможности. Нам пришлось долго ждать пришествия новых технологий, которые смогли бы подхватить и развить этот потенциал. Теперь же с цифровой революцией это стало очень просто.
Но, как я постоянно повторяю, я страдаю от трех тираний – тирании текста, тирании кадра и тирании актера. Ведь мы пришли к актерскому кино, которое, по-моему, совершенно неудовлетворительно. И наконец, самая сложная тирания, которую очень трудно понять, – это тирания самой камеры.
– Вы пренебрежительно высказываетесь об актерах, но Хелен Миррен сыграла в «Поваре…» едва ли не лучшую свою роль. У вас снимались Рэйф Файнс, Юэн Макгрегор, Джон Гилгуд был блестящим рассказчиком в вашем фильме «ТВ Данте»… Те же преувеличения содержатся в вашем отрицании «документализма».
– Да, потому что внутри понятия «документ» гнездится понятие «текст». Мы почти с самого начала шли не по той лестнице. И даже самые ранние документальные фильмы, вроде «Нанука с Севера» Флаэрти, не были подлинно документальными фильмами, а всего лишь конструкциями, как и всё остальное. Мы недавно познакомились с откровениями Бунюэля по поводу фильма «Забытые», о том, как всё было подстроено. Я с большим подозрением отношусь к людям, которые пытаются рассказать мне правду при помощи документального фильма. Я бы, скорее, докапывался до правды, намеренно рассказывая ложь, представляя вымысел, – через грамматику и синтаксис рассказывания этой лжи надежнее всего можно добраться до правды. Помню мое последнее окончательное разочарование. Я делал документальные фильмы для «Темз телевижн», где в 70-е было очень хорошее документальное подразделение. Мы снимали документальный фильм о пагубных привычках современных детей, которые заходят в хозяйственные магазины и покупают клей и нюхают его, чтобы получить кайф. У нас никак не получалось хороших кадров, работа шла плохо. Продюсер посмотрел на часы и сказал: «Вот 5 фунтов, дайте их какому-нибудь мальчишке, пусть заедет в магазин, купит клей и мы его снимем». Это было просто позорно. После этого я решил, что больше никогда не буду иметь ничего общего с документальным кино. Это просто неприличная процедура, доведенная до неприличных пределов. Например, натуралист Дэвид Аттенборо снимает льва в понедельник, а оленя во вторник, а в среду он соединяет их в монтажной. Так что вся этика документального кино вызывает у меня большие сомнения.
– А актеры?
– Я думаю, что одно из понятий, на которое я бы хотел обратить особое внимание, – это потенциал актера. Я придерживаюсь, возможно, реакционной точки зрения, что актеры могут играть лишь одну роль – себя. Так что мне всегда хочется найти способ показать вам, что, когда вы смотрите на актера в моем произведении, вы бы понимали, что перед вами всего лишь актеры. Есть множество способов этого добиться – включить язык, текст, поведение, освещение, кадр, искусственность игры. Всё это дает возможность убедиться, что вами не манипулируют при помощи лже-исполнения. Хелен Миррен должна быть Хелен Миррен, когда она играет Джорджину в «Поваре, воре, его жене и ее любовнике».
– А что, собственно, вы ищете здесь, в Москве?
– Я ищу актеров, мы подбираем место съемок, я просто осматриваюсь. Полагаю, мы просто ищем поддержку и благосклонность, уверенность в своем проекте, хотим разобраться, кто сможет нам помочь, кто сможет прокатывать, как его можно будет распространять, какова будет связь с нашими предприятиями, – как долгосрочными, так и краткосрочными, – которые мы, возможно, здесь организуем. Возможно, в конце концов я вообще не буду здесь снимать. Возможно, мы устроим на улицах Москвы что-нибудь другое или же поставим оперу. У меня есть пьеса, которую я бы с большим удовольствием привез сюда, она сейчас идет в Национальном театре Франкфурта. Ведь «Чемоданы» – это такой большой зонтик. И в нем многое связано с атомным числом урана. У нас 92 актера, 92 события и 92 «чемодана». И я хочу, чтобы каждый из этих 92 чемоданов породил новый крупный проект. Филипп (произносит: «Фил») Гласс согласился сделать оперу из чемодана 21. Ведутся переговоры по поводу японской мыльной оперы на телевидении из чемодана 64. Из других чемоданов получились выставки картин и тому подобное. Вполне возможно, что сфера наших интересов здесь расширится. Но пока это только разговоры.
– Эти изменения с аналога в цифру для вас неизбежные или есть еще желание побороться? Или, наоборот, это для вас – прорыв в будущее?
– Возможно, кто-то и будет испытывать ностальгические чувства по пленке. Но я сыт по горло снобизмом традиционного 35-миллиметрового кино, меня раздражает конформизм режиссеров, у меня вызывают отвращение способы решения проблем финансирования и проката, которые в основном становятся монополией Калифорнии. Как всякий здравомыслящий практик, я бы хотел удерживать новые технологии на расстоянии вытянутой руки, чтобы они превращались в средства, помогающие мне работать, а я бы не превращался в их раба. Пока мне они представляются свободным миром. Грустная ирония заключается в том, что фильм как явление сделался совершенно недоступным. Если я хочу посмотреть «2001» Кубрика в оригинальном варианте, это почти невозможно. Это относится к огромному количеству кинопродукции последних 105 лет. Мне легче увидеть малоизвестное полотно Караваджо в маленьком городке на юге Италии, чем посмотреть свои любимые фильмы.
– Вы упоминаете разные имена, рассуждая о своем творчестве. Кого бы еще холи добавить?
– К этому перечню я мог бы добавить Алена Рене и Жан-Люка Годара. Есть очень немного людей, которые изменили лицо кино, и в недавней истории они – двое из них.
– Именно это объясняет ваше сотрудничество с Саша́ Верни?
– Это, скорее, счастливый случай. Хотя, опять же, тут дело не обошлось без прагматиков. Несколько моих фильмов демонстрировалось на Роттердамском кинофестивале. Там была небольшая ретроспектива фильмов Саша́ Верни, который работал вместе с Рене и Бунюэлем и чьё имя ассоциируется с новым барокко. Он посмотрел «Контракт рисовальщика», и фильм ему понравился. Катализатором был мой продюсер Кис Кассандер. Он свел нас вместе. Я не слишком хорошо говорю по-французски, а он по-английски, но у нас завязались прекрасные отношения. Потом мы сделали фильм «Зед и два нуля». К несчастью, он умер шесть месяцев назад. Я могу с уверенностью сказать, что он был моим лучшим коллегой.
– Вы обрели славу блистательного перфекциониста. Какую роль играют ошибки в ваших замысловатых конструкциях?
– Мои критики пойдут еще дальше и скажут, что я уделяю слишком много внимания мелочам, ничего не упускаю. Но, опять же, надо говорить о прагматизме. У нас очень маленький бюджет. Я должен сделать нечто за восемь недель, наспех. Вспомните, что у вас Тарковскому давали два года на то, чтобы снять фильм. Я же должен снять его на какие-нибудь 2,5 млн долларов и всего за какие-то восемь недель, а потом закончить монтаж за два месяца. Так что приходится быть очень прагматичным. Я пишу очень подробные сценарии, в которых есть всё, даже то, что просто невозможно снять, как, например, описание запаха цветов и мельчайшие подробности того, как заходит солнце над каким-то конкретным лесом. Я думаю, можно сказать, что сценарий напоминает партитуру для оркестра, которая необходима не только всем музыкантам, но и рекламным агентам. У слушателя может быть партитура в руках, когда он слушает музыку, сидя в зале. Мне приятно писать сценарии, для меня это не проблема, мне приятно проявлять свой ум. Но есть непредсказуемый фактор – это актер. Вы изо всех сил пытаетесь подобрать наилучших актеров, но не всегда это получается. В конечном счете вы всё равно не в состоянии контролировать всё. В «Контракте рисовальщика» есть сцена, в которой главный герой говорит: «Мадам, какой солнечный день», и именно в этот миг на солнце наползает большая черная туча. Оператор в ужасе машет рукой, говорит, нет, нет, это невозможно, из этого ничего не получится, но мы всё равно сняли эту сцену и использовали ее. И это было совершенно замечательной божественной случайностью, проникнувшей в сценарий, написанный Гринуэем.
– Вы в первый раз упомянули Бога…
– Вообще-то я атеист. Это была метафора.
– А как же вдохновение?
– Всегда трудно отвечать на этот вопрос. Я никогда не могу с уверенностью сказать, что это такое. У меня очень рациональный склад ума, и я готов, видимо, всё объяснять, а если я не могу объяснить, я готов придумать объяснение. Идеи рождаются из наблюдений за миром, из моих увлечений и страстей. Я придумал для себя множество хитростей, помогающих организовать эту информацию. Я составляю списки, хотя это, наверное, очень буржуазно. Я полагаю, большинство моих фильмов – это фильмы-каталоги. «Повар, вор» – это каталог меню. В понедельник мы едим это, во вторник – это. Я создаю решетку. Очень четкую, очень жесткую, и в нее можно вставлять различные элементы. «Контракт рисовальщика» – список из 12 плюс одного рисунка. Я уже говорил вам, как делался фильм «Падения», – на основе списка, позаимствованного у Джона Кейджа. Это обмундирование защищает мое творчество от всяких излишних наваждений и соблазнов…
В фильм «Живот архитектора» был заложен социальный подтекст – я намеревался поговорить об ответственности архитектора. Мне кажется, что у европейцев есть ощущение, что архитекторы уничтожают города, попустительствуя своим желаниям. Появляются скульптуры, которые никогда не смогут быть нигде использованы. Но и политики и бизнесмены тоже разрушают крупные города, потому что их центры практически умирают, превращаясь в деловые места, где нет ни души в субботу и воскресенье. И я хотел таким образом прокомментировать сложившуюся ситуацию в архитектуре. Так что вы видите, что все эти кусочки нельзя в полном смысле назвать результатом вдохновения, здесь сыграли роль и любовь, и навязчивые идеи.
– Идиотский вопрос – какие впечатления произвела на вас архитектура Москвы?
– Это один из тех вопросов, от которых я пытаюсь уклониться, потому что не могу дать на него удовлетворительного ответа. Все мы подвергаемся воздействию клише и фальшивой пропаганды, мы представляем себе то или иное место через призму нашего субъективного восприятия. Но дайте подумать, может, на ходу я придумаю какой-нибудь вразумительный ответ на ваш вопрос. Когда-то с Майклом Найманом мы обсуждали сложные отношения между Прокофьевым и Эйзенштейном. Прокофьев определил то, как я смотрю на некоторые учреждения в Москве. В молодости одним из первых русских романов, которые я прочитал, был роман Достоевского «Записки из мертвого дома». Оттуда же я уже почерпнул некоторые представление о меланхолической русской душе, о понятиях свободы. Изучая школьную программу по истории, я всегда с интересом читал о Екатерине Великой. 1861-й – отмена крепостного права, волшебная дата. Я никак не мог понять, как Россия может быть частью Европы, если до 1861 года в ней практически были рабы. Это опять же накладывало свой отпечаток на мое отношение. Потом я конечно же прочитал все русские романы, которые смог достать. Особенно меня поразили Тургенев и Пушкин. Я постарался прочитать абсолютно всё, конечно же по-английски, так что, наверное, смог оценить их только на 50 %. Английская система образования исчерпывается границами Лондон – Париж – Рим, всё, что восточнее, не является частью британского образования, поэтому если вас интересуют эти вопросы, вы должны сами в них разбираться. Потом я узнал другие имена. Благодаря своему интересу к теории монтажа я познакомился с Довженко, Пудовкиным, разумеется, Эйзенштейном. Я даже сделал для BBC короткий фильм о творчестве «непонятного» Прокофьева, о Симфониях № 5 и 6, которые очень редко играют. Я использовал классическую симфоническую музыку Прокофьева в одной из программ, которые опять же сделал для BBC. Из этих частичек мало-помалу складывалась целостная картина восприятия вашей страны. Но это только начало…
Москва, 2002
От Таймс-Сквер до унитаза
«Три в 3D»
(Питер Гринуэй, Жан-Люк Годар и Эдгар Пера, сегмент Гринуэя называется «Just in Time»/«Как раз вовремя»)
– Теперь вы работаете с 3D?
– Раньше я очень скептически к этому относился, и мой скептицизм сохраняется. Я не считаю, что 3D что-либо привносит в кинематографическое восприятие. Оно не изменяет концепции, просто меняет синтаксис или словарь. Полагаю, мы уже видели начало, середину и конец. Это просто местное, говоря точнее, калифорнийское, ухищрение, попытка отвлечь людей от домашних экранов.
– 3D – это больше кино или меньше кино?
– Я долгое время думал над возможностями 3D. У меня есть немало проектов, где используется множество экранов в круговом окружении. Мне кажется, что это интереснее, увлекательнее с точки зрения кинематографического восприятия, нежели ограничения этой новой весьма локальной визуальной техники.
– А что будет дальше?
– 4D, наверное. Архитектоническое кино с погружением. Идеальным местом мог бы стать Таймс-сквер с его 126 экранами разных размеров и форм, с разными источниками изображения, разной прозрачностью. Мы хотим предложить новое явление, которое бы не ограничивалось одним экраном.
– Для этого нужен и новый зритель…
– По мнению Голливуда, 95 процентов фильмов просматриваются не в кинозалах. Кино вне кинозалов куда интереснее, увлекательнее и важнее, чем в этих странных темных домах, называемых кинотеатрами. Кинотеатры устарели. Этот (Каннский. – П.Ш.) фестиваль – глупость. Фестивали нам больше не нужны.
– Как дела с вашим русским проектом?
– Мы снимаем фильм про Эйзенштейна. Когда кино умирает по всему миру, думаю, нам следует отдать дань самому великому режиссеру, Эйзенштейну. Он прекрасно понимал кино, его теория монтажа предложила единственное объяснение механизмов киновосприятия. Как вы, наверное, знаете, в 1929 году он ездил в Мексику. Он уехал из России, а значит, смог посмотреть на нее со стороны, как иностранец. У меня есть теория о его первых трех великих фильмах «Потемкин», «Стачка» и «Октябрь», которые очень сильно отличаются от его последних трех великих фильмов. Первые очень интеллектуальные, диалектически-материалистические, пропагандистские. Последние же «Александр Невский», «Бежин луг» и «Иван Грозный» намного человечнее, более открытые, они о людях, а не о идеях Я очень часто гадал, почему так произошло? Думаю, дело в тех трех годах – с 1929 по 1931 – которые он провел за пределами России. Сначала в Голливуде, где его постигла полнейшая неудача, а потом на съемках документального фильма о временах до Колумба. Снова неудача. Но я совершенно уверен, что существуют лишь две темы. Одна – это секс, а вторая – смерть. В 33 года в Мексике он понял свою сексуальную ориентацию. Он ездил в музей мертвых и вплотную столкнулся с понятием смерти. Есть достаточно свидетельств, что наряду с Тиссэ и Александровым в «Бежином луге» он хотел снять более камерную катастрофу, где у героя на руках умирал ребенок. Если посмотреть на то, как много у Эйзенштейна образов детей, – меня эта связь интригует. Вот этот тезис я использую для того, чтобы объяснить, почему потрясающее, замечательное кино Эйзенштейна стало к концу жизни более человечным. Он по возвращении в СССР столкнулся с разными обвинениями, с осознанием собственной сексуальной ориентации и собственной смертности.
– Вы спорите или соглашаетесь с фильмом Годара, который тоже вошел в этот альманах?
– Поверьте, я прежде ни фильм Годара, ни другой фильм не видел. Впервые я посмотрел их вчера вечером. Две характерные особенности годаровского фильма – одна формальная – текст на экране, чем я занимался уже многие годы. И вторая – все эти три фильма как бы ссылаются сами на себя, это фильмы о фильмах. Я уверен, что кино стремительно умирает, и часть этого процесса – раздумья о себе самом. И когда кино умирает, повторюсь, очень интересно отдать дань величайшему кинорежиссеру всех времен. У меня с кино отношения любви и ненависти. Это должна была быть очень увлекательная отрасль искусства, но она таковой не стала. Nokia только что предложила мне 2 миллиона евро, чтобы я снял фильм с помощью вот этого (показывает свой смартфон). Жду с нетерпением. Придется полностью перестроить свое восприятие масштабов, пространства, времени, контраста, звука. Теперь мои фильмы будут смотреть люди на трамвайных остановках или сидя на унитазе.
Канн, 2013
Очищение Эйзенштейна
«Эйзенштейн в Гуанахуато»
– Спасибо за фильм. Скажите, кино, которое снимал Эйзенштейн, и кино, которое снимаете вы – это одно и то же кино? Или это разные виды кино?
– Мы же больше не делаем кино, мы делаем ТВ и даже пленку уже не используем. Но вы можете увидеть дань уважения традиционному кино в том, например, как мы освещаем персонажей. И монтаж тоже рассчитан на то, чтобы вызвать определенный эффект. Я считаю, что главный талант Эйзенштейна заключался в его подходе к монтажу. И в этом также и главная трагедия фильма «Да здравствует Мексика!», потому что ему не позволили самому монтировать фильм. А ведь это могло бы быть что-то потрясающее. Попытки предпринимали многие менее талантливые люди, включая Александрова, и, конечно, в итоге получалась очередная банальность, и настоящие идеи и эмоции оказались утеряны.
– А как вам кажется, Эйзенштейн является частью современного кино?
– Да, думаю, да. Именно он и изобрел современное кино. Мы все знаем о теории монтажа. Эйзенштейн создал шесть теорий монтажа: интеллектуальную, геометрическую и так далее. То, что потом исчезло и осталось только как пособие на учебных занятиях. Но мне кажется, есть некий центральный феномен, необходимый для понимания метафоры. Кино – это механизм мечты, и способность мечтать конструктивно, сохраняя сознание, встречается в кино очень редко. Но взгляды Эйзенштейна – это доказательство того, что это возможно. И я считаю, что надо ценить его и как-то вернуть в поразительно скучное современное кино, целиком основанное на текстах, историях. Для внутреннего очищения почти не остается места.
– Мне кажется, фильм не только о сексе, но и о смерти. И поэтому мы видим все эти черепа и маски мертвецов. Как они связаны в вашем представлении?
– Я бы не хотел упрощать, но это фильм об Эросе и Танатосе. В принципе всё кино – об Эросе и Танатосе, всё Западное искусство – об Эросе и Танатосе. Это неизбежно. Это самое начало. Ваша мать когда-нибудь рассказывала вам о вашем зачатии? А ведь это самый важный момент в вашей жизни! И я уверен, что когда-нибудь вы умрете. А смерть непостижима. Боль, отрицание, утрата – все это мы можем понять, но сам момент смерти остается непознаваемым. Я думаю, что в 2015 году мы можем выторговать для себя чуть больше времени, деньги и современные лекарства позволяют прожить дольше, хотя сомневаюсь, что это так уж ценно. Применительно к нашей эволюции во времени, а не в физическом плане, я – ярый сторонник теории Дарвина. Я согласен с библейским изречением: «Дней лет наших – семьдесят лет». После этого срок годности человека выходит. Знаете кого-нибудь, кому за восемьдесят, с кем можно вести интересную беседу? У кого есть возможность привнести что-то в развитие цивилизации?
– Как вы думаете, в чем для Эйзенштейна заключалась свобода?
– В фильме у него есть монолог, где он говорит: «Русские думают, что нет никакой “заграницы”, Россия сама по себе настолько огромная и как идея, и территориально, что ни на какую “заграницу” просто не остается места». Я думаю, этот монолог как раз об этом… Ну что ж, допустим, вы за границей. Вы ведь ведете себя в чужой стране не так, как дома? Думаю, да, все мы так делаем. Надо использовать свободу быть за границей, и Эйзенштейн сделал это. Он оказался в стороне от диалектического материализма, никто не смотрел ему через плечо. Он смог освободиться и позволить своему внутреннему «я» выйти на поверхность. Вы когда-нибудь были в Мексике? Это совсем другая цивилизация, с одной стороны, дикая, но если вы познакомитесь с настоящими мексиканцами, вы увидите что это удивительно приветливые и дружелюбные люди, они с радостью приглашают вас стать частью их жизни. И я уверен, что если это справедливо в 2015 году, то и в 1929 дела обстояли так же. Так что каждый человек должен в своей жизни побывать за границей. К тому же я думаю, что даже «Гладиатор» Ридли Скотта в той же степени повествует о XX веке, в какой он рассказывает о Римской империи. Мне кажется, когда ты снимаешь фильм, это всегда комментарий к тому, что происходит здесь и сейчас. Это все история о России сегодня. Это неизбежно. Как может быть иначе?
– У меня создалось впечатление, что повествование в этом фильме более традиционно, чем обычно.
– Мы специально использовали широкий экран, такое пространство, чтобы я мог сравнить старое и новое, так называемую реальность с так называемой реконструкцией. Я никогда раньше этого не делал. Конечно, одной из трудностей было найти актера, который мог бы соотнести реальное и его воспроизведение. Это заняло у нас довольно много времени. Но знаете, я недавно снимал фильм о Рембрандте, в Голландии. Я думал, что в Голландии каждый слышал о Рембрандте. Но я сомневаюсь, что многим людям известно что-то об Эйзенштейне. «Мистер Гринуэй, вы сами придумали этого персонажа?» Когда мы только начали, журналисты в аэропорту Роттердама были в замешательстве: Эйнштейн или Эйзенштейн? И даже сейчас: «Мистер Гринуэй, вы снимаете фильм о знаменитом ученом, да?» Люди не знают о нем!
– Ваша история основана не только на фактах – потому что они никому не известны, но также и, например, на его рисунках. Может быть, вы представляли, какие эротические фантазии могли быть у него?
– Меня спрашивают, «Мистер Гринуэй, вы же сами делали эти рисунки?» Люди ничего не знают! А еще в первом веке нашей эры Гораций сказал, что искусство должно не только развлекать, но и обучать! И только развлекать, ничему не обучая, или только учить, не развлекая – проблематично.
– Насколько я знаю, он не был евреем, как вы показали в фильме. Всего на одну восьмую.
– Да, и он не был обрезан, а это важно, потому что мы довольно часто показываем на экране его пенис. Так что этой отличительной особенности еврейского мужчины у него не было. Но у него была весьма запутанная история. Насколько я знаю, Эйзенштейн до четырех или пяти лет вообще не говорил по-русски. Он воспитывался в Латвии, в основном гувернантками, которые говорили преимущественно на немецком. Его отец учился в Германии и работал в Риге. Его мать не была еврейкой. Хотя тут надо быть осторожным из-за всех этих секретов, тайн типа еврей ли я, что значит быть евреем и так далее.
– Вы видели здания, построенные его отцом?
– Да, я был в Риге несколько раз, и в одном из них я попросил остаться на ночь. И мне ответили: в принципе остаться вы можете, но нам нужно 24 часа, чтобы мы нашли для вас кровать, избавились от крыс… И там была консьержка… Окна одного из домов выходят в сад. И она сорвала для меня несколько яблок с дерева из этого сада. Потом у нас в фильме Эйзенштейн будет рассказывать о своих детских воспоминаниях – как он смотрит из окна на этот сад, на ломовых лошадей… Так что я пытался почувствовать себя им, понять, каково это было – сидеть в комнате его отца, есть яблоко из этого сада, глядеть на лошадей. Я ведь занимался Эйзенштейном с 17 лет.
Берлин, 2015Печатается впервые
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































