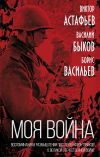Автор книги: Петр Шолохов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Ну Петь, узнал ты колхозницу-то аль нет? А?! Сам-то ты никак весь седой? А?.. – Потом она обратилась к матери: – Я ведь, хрёсная, его махоньким знала, а теперь… Чаво получилось! А?!
Я справился у неё о мельнице-ветрянке, которую собирался рисовать.
– Их, Петя, все, как ни ни есть всё, поломали, и чего надыть и чего не надыть, – да разве ж это дело? А?!
– Фрось, – обратилась к ней Прасковья Андреяновна, – а в колхозе у вас как?
– Да как? Работать задарма никому не хочется, да и некому, к вам в город бегуть. Хрёсная! Бегуть, все бегуть.
– Ну, а как ты сама? – допытывалась мать.
– Дык картошка у меня, хрёсная, многа, огурцы свои – во какия! – показала она на вилку, которую держала в руках, – помидоры, и свёкла есть… А? Чего ещё? Хлебца вот маловато, не всегда достанешь. Очередя сама видела какие. Сахару ребятам, хрёсная, вовсе нет, а мяса-то – мы его и раньше не часто едали… Слава богу, пока живём, помирать не собираемся. А? – Весело рассмеявшись, Фрося задрала юбку изнанкой, громко высморкалась и, вытерев губастый рот рукой, заключила так: – Их, хрёсная, и поковырялась я в навозе за свою-то жисть! Петь, – обратилась Фрося снова ко мне, – слухай, чего я табе скажу, – при этих словах она положила на стол свои мозолистые корявые руки, – вот ты, я смотрю, всё малюёшь? А ты сними с носу свои очки, а посмотри суды, вот чего табе нужна рисовать, а не кошку. А?! – При этих словах Фрося снова залилась смехом, закашлялась, смешно размахивая руками.
Я сидел, восхищённый родственницей, рассматривая Фросю, выслушивая её такие простые и мудрые слова. Я думал о природном уме русского человека, о его неистребимой жизненности и душевной теплоте.
На следующее утро мы собрались в обратную дорогу. Простились с Анисей, вырядившейся в свой праздничный монастырский наряд. Я едва узнал в ней прежнюю хилую старушку. Фигурка её стала ещё миниатюрней, но она выглядела теперь стройней и моложе. Чёрная монастырская одежда с широким кожаным поясом в талии шла её аскетически строгому лицу. Я пожалел, что не сделал её портрета. Забрав церковные книги, она отправилась на село, а Матрёна Михайловна собралась провожать гостей. Пасмурный денёк грозился дождём, но мы смело тронулись в путь. Авоська Прасковьи Андреяновны распухла от щедрых даров крестницы. По дороге у нас с Матрёной Михайловной возник интересный разговор о былой монастырской жизни и её молодости. Распростившись у моста через Хопёр, мы остались вдвоём и долгое время шли молча.
– Обстановка-то у них изменилась к худшему, Петь, не узнать вовсе! – заговорила Прасковья Андреяновна. – Помнишь, раньше чистота-то какая была, на столе скатерть городская, а к чаю мариновка всякая… жизнь кубыть как лучшает, а у них как в голодовку.
– Одним словом, Прасковья Андреяновна, в гостях хорошо, а дома лучше! – рассмеялся я, отгоняя от неё грустные мысли.
Глядя на меня, повеселела и моя Прасковья Андреяновна. Село Поворино позади смотрелось уже далёким силуэтом. Стоявшее на высоком берегу Хопра, оно когда-то было очень красиво, но сейчас, без ветряных мельниц, с изуродованной церковкой, было неузнаваемо. Прасковья Андреяновна, прощаясь со своей родиной, оглянулась в последний раз и, обращаясь ко мне, промолвила:
– Да, так вот и я, Петь, когда-то была молодая – вспомнишь теперь прежнюю жизнь, и грустно становится. А глупая была, подслушала раз в лавке у папаши разговор поворинских мужиков… «Богатые-то, они богатые, – это они про нашу семью говорили, – а вот девка-то у них одна дюже страшная…» Побежала я домой и прямо к зеркалу, посмотрела на себя – так и есть, думаю! Про меня мужики в лавке говорили, переживала страсть как! А после узнала, что про тётку Дашу на селе так говорили, после оспы рябая она. В селе нашем в волостном правлении, писарь был один, увидала его раз в окне да и влюбилась… очень он мне пондравился. Он, я тебе скажу, с виду на благородного был похож, выделялся как-то. Отец твой приехал к нам из города свататься. Сёстры мне завидуют – он ведь красавец был, Иван-то Александрович, весельчак да балагур, всем пондравился – а я в слёзы. Ух, и горько мне было тогда с любовью своей расставаться.
Прасковья Андреяновна умолкла. Некоторое время мы шли с ней молча, я терпеливо ждал продолжения, но она упорно молчала… видимо, вся ушла в пережитое.
– А Вы с ним, с писарем-то этим, встречались когда-нибудь наедине? – спросил я.
Прасковья Андреяновна ответила не сразу – развязались её матерчатые туфли. Поправив завязки, она заговорила:
– Один раз он в лавку к папане пришел, а я там – в лавке за касцией сидела, деньги получала – вот и всё! Через окно бывало больше им любовалась… а потом в город меня увезли, и всё забылось, а тут в скорости и вы пошли…
Впереди в котловине уже возникал город, заявляя о себе огнями и копотью в небе. По выходе из лесочка идти стало труднее… топкая, сырая почва местами переходила в сплошное болото.
– Что же нам делать с тобой, Петь? – беспомощно оглядываясь на меня, сказала Прасковья Андреяновна.
– А разуваться! – не подумав, беспечно ответил я…
Она запротестовала:
– Какой ты, Петя, чудак! У меня ведь ноги больные, промочу, тогда уж конец ведь, я-то знаю.
Между тем сумерки сгущались, быстро темнело, раздумывать было некогда, я предложил Прасковье Андреяновне свою спину. Вначале ей показалось это смешным:
– Ты всё шутишь, Петь…
В её голосе слышалась обида, но другого выхода не было, и Прасковье Андреяновне пришлось согласиться. Груз для меня был, конечно, тяжеленёк, я рисковал свалиться в болото. Ноги мои, да и брюки по колено были уже мокры, в грязи. Но, миновав трясину, мы оба весело смеялись, бодро вступив в предместье города – станичную слободу.
Друг из Дорогомилово
Реконструкция Москвы на наших глазах преображает столицу. Исчезают уютные особняки, сносятся целые кварталы. В районе Киевского вокзала, неподалёку от Дорогомиловского моста, разбит новый сквер; бывая там, я невольно сбавляю шаг, отыскивая приметы былого. Где-то здесь была скромная квартира моего друга Николая Ивановича Иванова-Бурмистрова. Очутившись в Москве, я был принят этой семьей как родной. Ей я и посвящаю свою повесть.
– Бабуска, а бабуска, Петька Иванысь маленький в очках плисол, – возвестил карапуз, выбегая на кухню.
У плиты в облаках пара стояла высокая пожилая женщина с ложкой в руках, она озабоченно смотрела на фыркающий примус и на огромную миску с кипящей водой. У неё готовился скудный обед. Старушка была одета во всё чёрное. На голове чёрный платок с белым горошком. Во всей фигуре, особенно в лице сквозила покорность судьбе и природная доброта. Её карие глаза, всё ещё живые, слезились, но лицо не утратило следов былой красоты. Приветливо улыбнувшись внуку, вытирая на ходу руки фартуком, она направилась в переднюю, а звонкий голосок малыша подобно колокольчику раздавался уже в другом углу:
– Мама, мама! Петрысь Иванысь маленький в очках плисол…
В тесной уютной спаленке сидела симпатичная молодая женщина за шитьём. Выслушав с улыбкой сынишку, она подхватила его на руки и, передразнивая, стала целовать, называя малыша ласковыми именами.
– Петя Иванысь маленький… як ты мой Игорёк… ну, иди, иди встречай гостя, – с этими словами, отложив своё шитьё, она привела себя в порядок.
Родившаяся на Украине, по происхождению полька, Мария Васильевна – так звали молодую женщину – на вид казалась моложе своих двадцати семи лет. Небольшой, чуть вздёрнутый нос, большие серые глаза с длинными ресницами, пышная коса, плечи – всё в ней было привлекательно. Даже отсутствие одного зуба в переднем ряду нисколько не было в ущерб этому милому лицу, придавая ему какую-то особую прелесть.
В коридоре, протирая вспотевшие очки, близоруко щурясь, стоял молодой человек лет двадцати двух – двадцати трёх. Высокий, худой, в рыжем коротком пальтишке, без перчаток – он, видимо, промёрз, руки были красны и плохо слушались! Лицо посинело, обильная шевелюра на голове топорщилась во все стороны. Гость, положив свой треух и альбом на сундук, нерешительно толокся у входа. Клубы морозного пара, впущенные снаружи дверью, расходились по полу, открывая взору худую обувь и концы заснеженных брюк.
– Замёрз-то Пётр-то Иванович, – сказала старушка. Подавая молодому человеку негнущуюся руку, приветливо глядя на гостя, добавила: – Раздевайся, да прямо на кухню к бабушке, супику горячего похлебаешь, согреешься.
Из спаленки в коридор приоткрылась дверь, показалась молодая хозяйка:
– Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте… Вот муженёк будет рад, разоблачайтесь, – так приветливо встречали гостя хозяйки: старая и молодая. – Игорёк! Принеси-ка Петру Ивановичу теплые валенки, они у печки.
Скоро молодой человек, сидя на кухне, потный и красный с видимым удовольствием хлебал «бабушкин супик».
– Ты Петрив! Не обессудь нас, хлебца-то нет! Вот к вечернему чаю по пышечке всем сготовлю, – говорила старушка, протирая концом платка слезящиеся глаза.
Молодой человек, студент художественного вуза, шёл не в свой подвал на 3-ю Тверскую-Ямскую, а устремлялся сюда, в Дорогомилово. В семье друга, бухгалтера по профессии, страстного любителя искусства, он был принят как родной. Вся неделя молодого человека проходила в напряжённой борьбе за учёбу и самосуществование. Суровая обстановка двадцатых годов не давала учащимся всех тех удобств и поощрений, которыми пользуется студенчество наших дней. Молодой человек был, что называется, предоставлен самому себе. Его родители жили далеко от столицы, где ещё более, чем в центре, свирепствовали разруха и голод, все последствия, вызванные длительной гражданской войной. Сейчас на кухне, покончив с едой, поблагодарив хозяйку, гость перешёл в комнату, где обычно собиралась вся семья. После темноватого грязного подвала, в котором он жил, после холодных стен художественных мастерских на Рождественке всё тут радовало его глаз чистотой, уютом и напоминало ему дом родителей. Устроившись возле печки-времянки… молодой человек уже который раз с большим удовольствием осматривал знакомую обстановку.
Но что это? Поблёскивая чёрным лаком, у стены стояло новенькое пианино. В переднем углу перед золочёным иконостасом мирно мерцала лампада. В больших банках уютно стояли цветы. Крашеный пол устлан половиками. А в окне, в морозных узорах, уже сгущались зимние сумерки. Отогревшись, гость принялся внимательно рассматривать на стенах новые наброски хозяина. За стеной прервалось усыпляющее жужжание швейной машины, и вслед за тем в комнату вошла молодая хозяйка с сыном на руках.
– Ну, похлебали бабушкиного супика, Пётр Иванович? Вы обратили внимание? – Мария Васильевна указала гостю на пианино. – Взяли на прокат… хотим дочку, Галю, обучать музыке.
Молодой человек знал, что у самой хозяйки хороший голос.
– А ведь Вы сами, Мария Васильевна, могли бы заниматься.
– Ну, где уж мне, старухе, да и носом не вышла, – кокетливо засмеялась молодая женщина, спуская мальчика с рук и садясь возле гостя на стул. – Сейчас придёт наш папенька… это все его затея, – сказала она, кивнув в сторону пианино. – Николай всякий раз Вас так ждёт. Вчера освободился рано, усадил меня «рисовать», – шутливо сказала она.
Молодой человек оживился:
– Ну и как?
– Да как Вам сказать: мучил, мучил меня, что-то у него не получается… Вас вспоминал…
Мальчик между тем, открыв дверку печки, тянулся к огню.
– Игорёк! Сядь сюда, не смей шалить! Ты слышишь, что тебе мама говорит? Ручки сожжёшь! Будет больно.
В передней раздался стук в дверь.
– Ну вот, кажется, и наш папенька.
Мария Васильевна, встав, с улыбкой направилась к двери. Молодой человек обрадованно встряхнулся, отгоняя дремоту, но в коридоре раздался незнакомый женский голос, нервный смех, поцелуи…
– Совсем запропала наша тётушка, – говорила Мария Васильенва.
– Фу-ты, ну-ты! Как расфрантилась, – вслед за ней заговорила старушка, появляясь на кухне. – Уж не вышла ли, думаю, замуж наша Марья-то Николаевна?
– Ах, что Вы, бабушка, как Вам не стыдно смеяться? – воскликнула гостья.
– Чего бабушка-то, чего стыдно-то, не маленькая чай, слава богу! Поди уж за тридцать. Какой смех? – невозмутимо продолжала старушка… – Ну проходи, проходи в комнату… у нас гость!
Слышался голос молодой хозяйки:
– Я тебя, тётушка, сейчас представлю!
– Да полно, Маня, будет тебе…
С этими словами в комнату, где сидел молодой человек влетела и остановилась в дверях брюнетка с нервным, некрасивым лицом; увидев в самом деле постороннего, она испуганно вскрикнула, смешно всплеснула руками и повернула было обратно. Мария Васильевна загородила ей дорогу и, обняв за плечи, подвела к молодому человеку:
– Друг Николая, художник! Знакомьтесь. Пётр Иванович, это наша родственница, тётушка Николая Ивановича – Мария Николаевна!
Представив гостей друг другу, молодая хозяйка ушла на кухню к бабушке… оставив их наедине. Молодой человек был тоже несколько смущён…
– Так Вы в самом деле художник? – нарушила молчание гостья.
– Пока учусь во ВХУТЕМАСе, – скромно ответил молодой человек, рассматривая собеседницу, а та, помолчав, обратилась с вопросом:
– Скажите, а Вы случайно не знаете художника Фалька?
– Ну, как же, как же, это профессор ВХУТЕМАСа, где я учусь. А что?
– Мы живём с Фальком в одной квартире, на Сретенке… он рисовал моего отца.
– Да? Это интересно! – сказал молодой человек, и у них возник оживлённый разговор.
– Ну и что же, портрет Фалька Вам нравится?
– Совсем нет. Он писал что-то очень долго, налепил на полотно бугры красок – вблизи ничего не разобрать… он, наверно, футурист… – Уловив улыбку на лице собеседника, дама смутилась, заговорила снова: – Вы что? Может быть, и сами так работаете?
Молодой человек откровенно рассмеялся. Вспыхнув, собеседница вскочила было с места, но новый стук в передней прервал эту сцену – на этот раз пришёл сам хозяин. Не раздеваясь, он мимоходом заглянул в комнату и, увидев молодого человека, радостно воскликнул:
– Петруша пришёл, вот славно!
И кивнув родственнице, исчез на кухню. Дама, успокоившись, села и снова заговорила:
– Вы что, видно, думаете, что я ничего не понимаю в искусстве? Я, знаете, много читала…
Молодой человек слушал рассеянно, посматривая на дверь…
– Тётушка, иди, тебя Маруся зовет, – послышался голос Николая Ивановича. И когда дама скрылась в дверях, он вошёл в комнату со словами: – Вот сорока! Чего она тут наговорила? Вечно суётся не в своё дело, болтушка! – Всё это было высказано добродушно…
Николай Иванович страстно любил искусство, он был одарён, но трудная жизнь взваливала на его плечи всё новые заботы.
Нелюбимая им работа бухгалтера отнимала всё время, рисовать ему приходилось урывками. Планы возникали и рушились, приходила усталь и разочарование, и время уходило… Из сельскохозяйственного института возвратился младший брат Николая Ивановича Михаил, мало похожий на него, внешне апатичный, вялый блондин и вслед за ним дочь хозяев, Галя, девочка лет одиннадцати-двенадцати. Зажглось электричество, в печку подбросили дров, и стало ещё уютнее.
К вечернему чаю собралась вся семья. Бабушка принесла из кухни кипяток в огромном чайнике. Друзья сидели в стороне на диване, беседуя об искусстве… Они просматривали учебные рисунки молодого человека. Николай Иванович искренне восхищался работами, по-хорошему завидуя другу, затем, сняв со стены гитару, он закурил и, не выпуская из рук дымящейся папиросы, негромко, еле перебирая струны, запел:
Дивлюсь я на небо тай думку гадаю,
Чому я не сокiл, чому не лiтаю…
Голос у него был небольшой, но очень приятный, задушевный. Он пел, чуть грассируя, как и говорил… что очень шло ко всему облику этого на редкость красивого человека. Действительная военная служба во флоте оставила в нём заметный след, он служил матросом-радистом подводного корабля. Всегда трезв, тщательно выбрит, с засученными рукавами и стройной открытой шеей. Прямой нос с горбинкой, ласковые глаза с прищуром, красивого рисунка губы, стройность и изящество во всей фигуре.
– Петруша! Мы с тобой сейчас чайку хлебнём, погреемся, да и за работу, – сказал он, обращаясь к другу… готовый тут же расстаться с гитарой.
Женщины запротестовали:
– Успеете, ещё насидитесь со своими гипсами, побудьте немного с нами, – обиженно сказала Мария Васильевна и, глубже вздохнув, запела: – Стоит гора высокая, а пид горою чай!.. Зеленый чай, густесенький…
Муженёк, раскурив потухшую было папиросу, взял в руки гитару, вторя жене.
Украинские песни следовали одна за другой:
Розпрягайте, хлопцi, конi,
Та лягайте спочивать.
А я пiду в сад зелений,
В сад криниченьку копать.
Гитара нежно звенела, а эти два согласных голоса, будто сговорившись, крепко хватали за душу. Остальные пытались подтягивать, даже совсем безголосый молодой:
А молодость не верится,
Не вернётся никогда…
Старушка, у которой стыл кипяток и давно были поданы к столу обещанные ею пышки, теперь замерла в дверях, концом головного платка утирая слезы…
Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная,
Видно, хоч голки збирай…
Вийди, дiвчиненко, выйди, коханая,
Хоч на хвилиночку в гай.
Тётушка Мария Николаевна сидела с красными от слёз глазами. Под конец, неожиданно для всех вскочив со стула, убежала на кухню.
– Расчувствовалась, наша тётушка, – с милой улыбкой сказала Мария Васильевна и, перейдя к столу, пригласила всех к чаю.
Игорёк, свернувшись клубочком, спал на диване. Покончив с чаем, женщины, прихватив с собой Михаила и детей, отправились в кино смотреть фильм «Приваловские миллионы» по роману Мамина-Сибиряка.
Друзья-художники, радуясь одиночеству, уселись рисовать гипс. Судьба, как нарочно, посылала Николаю Ивановичу интересные знакомства из мира искусства, которые подогревали его любовь к нему. Ещё во флоте, будучи матросом, он случайно познакомился с Фёдором Ивановичем Шаляпиным и после в Москве ходил к нему на дом.
– Один раз так было… – рассказывал он молодому человеку. – Пришёл я к нему, а он репетировал Бориса Годунова – ты помнишь, Петруша, я тебе особняк-то показывал на Новинском бульваре… Так вот, представляешь себе, пришёл я к нему, а он в цветном халате по зале расхаживает… Увидев меня, кивнул головой на кресло… садись, мол, а сам что-то бормочет себе под нос; подошёл вплотную ко мне – вот так!.. – ручищи свои поднял над моей головой, да как закричит: «Я царь ещё!» Сижу в кресле, смотрю на него снизу, а у самого мурашки по телу… испугался! Глазищи вот такие, безумные… силища была! Как его Серов угольком в рост на полотне-то изобразил?
Николай Иванович достал альбом репродукций, и они отыскали коровинские этюды с Шаляпина и, просмотрев их, решили назавтра отправиться на открывшуюся только что выставку Коровина.
– А вот, Петруша! Я тебе сейчас покажу, что мне подарил скульптор Конёнков Сергей Тимофеевич. – Он развернул папиросную бумагу, в ней бережно был завёрнут рисунок карандашом: – «Пушкин в Царскосельском парке».
Друзья долго любовались тонкой работой. В сетке путаных штрихов возникал образ великого поэта.
– Конёнков ужасно пил, – заговорил Николай Иванович. – Я проводил с ним ночи напролёт, а потом он уехал за границу.
Молодой человек знал и высоко ценил замечательные произведения скульптора, а потому с гордостью смотрел на своего старшего друга.
– Как-нибудь, Петруша, я покажу тебе мастерскую Конёнкова возле зоопарка, она во дворе, небольшая, бревенчатая.
Работа и беседа наших двух друзей были прерваны возвратившимися из кино. Они были возбуждены, веселы, шумны – даже молчаливый Михаил. Только дети устали и капризничали, так как был уже поздний час.
– Ну будет вам… подвижники – Мария Васильевна властно сняла со стены гипс. – Сидите здесь и ничегошеньки не знаете, друзья! Как вы думаете, где вы сейчас находитесь? Оказывается, мы в трущобах.
Они смеялись, перебивая друг друга, потом стали рассказывать. По роману действие происходит на Урале, но вот купцы поехали кутить в трущобы на тройках.
– Смотрим, на экране наше Дорогомилово, друзья! Да вы слушайте! Открываются наши ворота, наш двор показан и вот тут окна… – Мария Васильевна указала какие именно, – открыты настежь… Наш Игорёк совсем было заснул, а тут вдруг как закричит на весь зал: «Мама, мама, смотри-ка дяди к нам во двор плиехали». Вокруг нас зрители смеются. Прославился наш Игорёк! Ну а теперь, друзья, спать, спать… Петра Ивановича устроим в комнате на диване.
Дверь в эту комнату обыкновенно была закрыта: она принадлежала родственнице, которая сейчас в квартире не жила, а была только прописана. Друзья расстались утомлённые, но довольные друг другом. Молодой человек чувствовал себя так хорошо, будто к нему вновь вернулась беспечная юность в доме родителей.
Под утро квартира была разбужена громким стуком в дверь… Сквозь сон молодой человек слышал в коридоре неожиданно строгий, решительный голос Николая Ивановича и другой незнакомый, хриплый, будто нетрезвый. Шум голосов и топот перешёл в кухню. Тут уже более отчётливо послышался негодующий шёпот бабушки:
– Вот ждали тебя, в такую рань заявился, пьяница! Тебе что сын-то сказал, слышал?
Тот, к кому были обращены эти слова, молчал, кашлял, видимо, курил… потом заговорил:
– Уйду, уйду… вот посижу немного, погреюсь и уйду…
– Тише ты ори-то! – вновь испуганно зашептала старушка. – Детей напугаешь, поразбудишь всех! – Она возбуждённо продолжала ворчать: – Бессовестный, пьяница, как только тебя земля-то держит.
Одновременно слышалось и бормотанье того, другого:
– Ну и пришёл, ну и пьян, что ж такого? Небось к сыну пришёл, согрей-ка горяченького, мать, слышь? Согрей!
Проснувшись наутро, молодой человек старался припомнить, как-то осмыслить ночную сцену. Она казалась ему обрывком сна, тем более ни в комнате, ни в кухне никого не было, и за весь день никто не обмолвился об этом. После чая друзья, не теряя времени, отправились на выставку Константина Коровина, открывшуюся в бывшем Салоне Дмитриевой. Художник недавно вернулся из-за границы. По дороге на Дорогомиловском мосту длинной вереницей стояли мёрзлые трамваи. Несмотря на отчаянный мороз, друзьям пришлось добираться в центр пешком. Преодолевая сугробы, они вышли к Арбату – здесь по всей улице были видны очереди, люди стояли за хлебом, дровами, керосином. Улицы были неуютны… Московские дамы, укрывшись платками, шли в валенках, грязные фасады зданий, в редком окне не дымила железная труба. Витрины пустых магазинов забиты хламом, стёкла побиты, посреди улицы увидели тощих крыс, перебегавших дорогу. На площади разбирали красивую, ампирного стиля, красную церковь Бориса и Глеба. Вверху темнели рёбра обнажённых куполов. В узких переулках леденил сквозной ветер. Идти приходилось то боком, то пятясь назад. На перекрёстке Козловских переулков из-за угла вынырнул грузовик, сбоку затянутый чёрным крепом траура. Его сопровождали печальные звуки духовых инструментов… они тут же умчались, растаяли в морозном воздухе вместе с ветром.
Подбадривая друг друга, наши друзья добрались наконец до цели… Отряхиваясь в подъезде огромного дома от снега, они вступили на лестницу. Им навстречу молодцеватой походкой бежал крепкий на вид седой старик с розовым лицом. Одет он был не совсем обычно: в серую бекешу, на ногах чёрные боты и на его груди в петлице алая роза. Друзья невольно остановились. Они заметили, что лицо этого человека было недовольное… Энергично открыв входную дверь, он с силой сердито хлопнул ею. На друзей, снявших было перед ним свои шапки, незнакомец не обратил никакого внимания.
– Петруша! А ведь это, пожалуй, сам Коровин! – восхищённо сказал Николай Иванович.
Спутник его подумал то же самое… Торопливо поднявшись вверх по лестнице, они прошли на выставку… Картин было много и, как всё у этого художника, блестяще по колориту, так что у наших друзей глаза разбежались. Но было заметно, что в хлёстких мазках на этот раз чувствовался упадок, бросалась в глаза эскизность, слабая форма: у эффектных балерин не хватало конечностей, грешила и композиция. Восторженный по натуре Николай Иванович, щуря глаза, то и дело восклицал:
– Ну что за мастер, как ловко мазанул вот здесь… смотри, Петруша!
Молодой человек разглядывал внимательно, но молчал… У входа продавались снимки с картин художника, Николай Иванович выбрал две открытки и тут же, надписав карандашом, подарил молодому другу: «Январь 21 год, на память о выставке Константина Коровина. Петруша, не забывай радостно проведённого дня, он приведёт нас к желанному искусству. Любящий тебя, твой друг Николай». На другой стороне открытки с розами он написал: «Сегодня у нас, Петруша, счастливый день, мы были на выставке Константина Коровина, где имели счастье видеть самого художника. Его искусство полонило нашу душу, и мы никак не можем насмотреться на его солнце, море и цветы. Одна мысль в душе: надо работать, не унывать, помнить, что ты не один на этом пути». Поставив дату, расписавшись, прочитал другу и спрятал открытку в боковой карман.
Когда они вернулись домой, в большой комнате слышались звуки пианино и шум голосов. В квартире было тепло, их ждало целое общество. Пётр Иванович старший, артист реалистического театра…
– Это мой земляк, – объяснял Николай Иванович молодому человеку.
Их пригласили к бабушке на кухню. Под аккомпанемент глухой мужской голос, задыхаясь, пел партию Варяжского гостя: «О скалы грозные дробятся с рёвом волны…»
– Неважнецки поёт, Пётр, – сказал Николай Иванович – сам он имел слух и был музыкален.
Они хлебали на кухне «бабушкин супик».
– Петруша, а аккомпанемент-то каков, ты слышишь? Ах! Молодец Цецилия Львовна! Пальчики у неё совсем маленькие, а так бегают по клавишам! – с восторгом говорил Николай Иванович о новых знакомых. – Они живут у нас в подвале: брат, скрипач, Александр и сестра Циля – мы с Марусенькой пригласили её заниматься с Галей. Оба скромные, симпатичные…
– Ну что же оно, друзья? Поели, согрелись… и сидите тут… неудобно! Вас все ждут. – Мария Васильевна забрала у бабушки чайник с кипятком и в дверях задержалась, обращаясь к молодому человеку: – Вас, Пётр Иванович, я сейчас плясать заставлю. – И с этими словами Мария Васильевна, кокетливо повернувшись боком, подставила гостю карман сарафанчика: – Залезайте сами, молодой человек, у меня, видите, руки заняты… Вам письмо.
– Петруша! Рисовать-то нам сегодня, как видно, не придётся, – огорчённо сказал Николай Иванович, направляясь в комнату.
Молодой человек задержался, рассматривая конверт со всех сторон. Письмо было из родительского дома, читать на ходу ему не хотелось – он спрятал его в карман. В большой комнате за пианино сидела миниатюрная блондинка с пепельными волосами. Возле, с нотами в руках, стоял сравнительно пожилой человек… лет сорока, коренастый, среднего роста, с лицом, изъеденным оспой… он приготовился петь «Блоху» Мусоргского. От напряжения лицо его было красно… и потно; расставив локти, прижимая руки к груди, он запел: «Жил король когда-то!..» Увидев вошедших, поющий театральным жестом приветствовал их поднятой рукой, продолжая: «Жила-была блоха!..» Это и был Пётр Иванович старший. Молодой человек слышал о нём, но увидел впервые. Тетушка Мария Николаевна оживилась! В стороне от всех сидел брат Николая Ивановича Михаил, ещё более меланхоличный, чем обычно…
Девочка Галя по просьбе взрослых довольно мило исполнила «Жаворонка» Глинки. Сам Николай Иванович мастерски прочёл два-три рассказа Чехова, вечер пролетел незаметно. Проводив гостей, Мария Васильевна занялась уборкой… Бабушка уже улеглась на кухне. Николай Иванович, достав из шкапа альбом своих набросков, увёл друга в маленькую комнату на диван, предназначенный молодому человеку. Тот, просматривая рисунки, обратил внимание на лицо старика, часто повторяющееся в набросках. Огромный лоб, нахмуренные густые брови, нос горбинкой, толстые губы в зарослях бороды и усов.
– Что за человек тебе позировал? – спросил он. – Интересное лицо!
Николай Иванович ответил не сразу; собираясь курить, он долго чиркал спичкой…
– Это, Петруша, мой отец! – выговорил он невесело и, настроив гитару, запел под сурдинку:
Тишина и мрак непроглядный,
Хотя мелькнул бы луч отрадный!..
«Так вот кто приходил ночью. С кем ворчливо говорила бабушка на кухне, – думал про себя молодой человек. – Тут, очевидно, кроется какая-то семейная драма». Наслаждаясь уютной обстановкой, пением друга, молодой человек бессознательно нащупал в кармане родительское письмо… ему мучительно захотелось сейчас же прочесть его, но в дверях появилась Мария Васильевна в спальном халатике, с распущенными по плечам волосами… она была очень хороша!
– Муженёк, а я приготовилась уже бай-бай, – шутливо сказала она. – Вы что-то засиделись, друзья, я сейчас разъединю вас. – С этими словами она опустилась на диван между ними.
Выходной день кончился… Молодой человек смотрел в тёмные окна. Сильные порывы ветра чуть колебали лёгкую занавеску… морозные узоры на окнах напоминали ему о завтрашнем дне – снова холод, грязь, борьба за жизнь! Лицо его помрачнело…
– Вы что задумались, Пётр Иванович? Всё о своём творчестве? «О слава!» – как скажет наша тетушка Мария Николаевна… А между прочим, знаете, Вы ей очень понравились…
– Вот тоже чудачка! – сказал Николай Иванович, отставляя в сторону гитару.
Некоторое время они сидели молча, думая каждый о своём…
– Ну, смотрите, голубчики, – неожиданно с какой-то грустью заговорила молодая женщина, – если вы меня забудете, Бог вас накажет.
Оба друга посмотрели на неё – в её глазах стояли слёзы.
– Мне почему-то кажется, – еле слышно проговорила она, – что… я скоро умру!
Это заключение Марии Васильевны было так нелепо, так неожиданно… Молодая, цветущая женщина. «Видимо, нервы», – подумал молодой человек.
– Ну что ты надумала, Марусенька… – Николай снова взял в руки гитару: – «Ах, убил, так убил, ну и что же толковать…»
– Постой, отец! Не так, немного ниже… – Она с чувством пропела: – «Оттого и убил, что так крепко любил…»
Оставшись один, молодой человек вскрыл конверт… Писала мать: «Петь, мы осиротели!» Она коротко сообщала о смерти отца. Строки прыгали в глазах… чудовищный смысл их ещё не доходил полностью до сознания, но вот спазмы сдавили ему горло… уткнувшись в подушку, обильно орошая её слезами, молодой человек постепенно забылся.
Вскоре молодой человек простудился в своём подвале и, заболев, две недели не появлялся в Дорогомилово. Когда Николай Иванович возвратился с работы, Игорёк встретил его вопросом:
– Пап, а пап, почему не плиходит к нам Петя Иванысь маленький в очках?
– В самом деле, он ведь не был у нас и прошлый выходной, – сказала Мария Васильевна, – не заболел ли наш художник в своём подвале? Ты бы сходил, отец, к нему завтра.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?