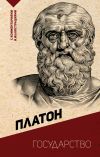Читать книгу "Государство. Диалоги. Апология Сократа"

Автор книги: Платон
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Да, – отвечал он, – исключая только тех, которые бывают обмануты ими и думают, что они в самом деле политики, если слышат одобрение со стороны черни.
– Что ты говоришь? Не соглашаться с этими мужами? – сказал я. – Разве можно, думаешь, человеку, не умеющему мерить, когда многие, тоже не умеющие, говорят ему, что он – четырех локтей, – разве можно не почитать себя четырехлоктевым?
– Это-то невозможно, – отвечал он.
– Так не досадуй. Ведь эти, как я недавно говорил, законодатели и всегдашние исправители законов, может быть, забавнее всех с своим ожиданием, что они найдут какой-нибудь конец зол, проистекающих из сношения людей; хотя, как сейчас сказано, сами не знают, что на деле точно будто рассекают гидру[244]244
В народном правлении всякий демагог, сообразуясь с личными своими видами, старался склонить народ к постановлению известного закона. Но так как этот закон покровительствовал только частной пользе, то скоро оказывалось вредное его действие на выгоды общие. Тогда всходил на трибуну другой такой же демагог и, скрывая не менее эгоистическую цель, требовал у народа другого закона. Таким образом, кодекс законов увеличивался, а обществу пользы от них все-таки не было. Всякий старался отрубить голову гидре; но вместо одной, отрубленной, у ней вырастало их десять. Пословицу о гидре лернейской объясняет Scholiast. ad h. I. Erasm. Adagg. Chii. 1, cent. X, 9.
[Закрыть].
– Да так и есть; они и не иное таки что делают, – сказал Адимант.
– А по моему-то мнению, – продолжал я, – истинный законодатель не должен трудиться над таким родом законов и управления, – будет ли город устрояться хорошо или худо; потому что в первом случае такие законы бесполезны и ни к чему не служат, а в последнем они частью могут быть найдены каждым самим по себе, частью вытекают из прежних постановлений.
– Так что же наконец остается нам определить законом? – спросил он.
– Нам-то нечего, – отвечал я, – но Аполлону Дельфийскому – так; надобно постановить величайшие, прекраснейшие и первые из законоположений[245]245
Так как все внешние действия определить законом Платон не находит никакой возможности, если жизнь гражданина в явлении будет рассматриваема вне связи ее с внутренними, нравственными расположениями души, то для определения их ему оставалось обратиться к авторитету божественному, к законодательству Аполлона, которое формы внешнего поведения приводило бы в гармонию с природою духа и вместе с тем сообщало бы им характер религиозный. Сравн.: Legg. VI, р. 759 С. Отсюда в государстве Платона начало религии обрядовой.
[Закрыть].
– Какие это? – спросил он.
– Относящиеся к сооружению храмов, к жертвам и иному чествованию богов, гениев и героев, также к гробницам умерших и ко всему, что должно совершать, чтобы боги были нашими заступниками; ибо таких-то вещей сами мы не знаем (а если, устрояя город, имеем ум, то не поверим и другому), да не обратимся и ни к какому иному истолкователю, кроме отечественного бога[246]246
Аполлон чтим был афинянами под именем бога отечественного – τοῦ πατρώου, как родоначальник их племени; потому что Ион, по имени которого афиняне назывались ионянами, почитаем был сыном Аполлона от Креузы. О причине прозвания Аполлона богом отечественным Платон говорит в «Эвтидеме» р. 305 D; также Schol. Aristoph. ad Nubb. v. 1470. Conf. Creuser ad Cicer, de Nat. Deor. pp. 595. 599. 614.
[Закрыть]: этот-то отечественный бог, истолковывающий подобное всем людям, сидит среди земли, на пупе ее[247]247
Среди земли. У греков была мысль, что Дельфы стоят на средине земли и оттого получили название τοῦ ὀμφαςοῦ τῆς γῆς. Аст замечает, что ὀμφαςόν собственно было каменное седалище в дельфийском храме. См. Aeschyl. Eumen. V, 40. Pausan. X, 16.
[Закрыть], и объясняет (все вышеупомянутое).
– Ты хорошо говоришь, – примолвил он, – так и надобно сделать.
– Итак, пусть город будет уже устроен у тебя, сын Аристонов, – продолжал я. – После сего, достав откуда-нибудь свету, посмотри при нем вот на это-то – и сам, да позови и брата, и Полемарха, и других, – не увидим ли мы как-нибудь, где бы могла тут быть справедливость и где несправедливость; чем они отличаются одна от другой и которую из них надобно приобретать человеку, желающему быть счастливым, – утаивается ли она от всех богов и людей или нет.
– Это пустяки, – сказал Главкон. – Ведь ты обещался сам исследовать: неблагочестиво-де было бы, говорил, не помочь справедливости всячески, сколько есть сил[248]248
Главкон ссылается на слова Сократа Libr. II, р. 368 С: δέδοικα γὰρ μὴ ούδ’ ὅσιον ἦ παραγενόμενον δικαιοσύνῃ κακουργουμένῃ ἀπαγορεύειν καὶ μὴ Βοηθεῖν ἔτι ὲμπνέοντα καὶ δυνάμενον φθέγγεσθαι.
[Закрыть].
– Верно припоминаешь, – сказал я, – так-то, конечно, и надобно сделать; однако должны помогать и вы.
– Да, мы будем, – примолвил он.
– Так надеюсь найти это следующим образом, – продолжал я. – Думаю, что город у нас, если только он правильно устроен, есть город совершенно добрый.
– Необходимо, – сказал он.
– Явно, стало быть, что он и мудр, и мужествен, и рассудителен, и справедлив.
– Явно.
– Так не остальное ли из того, что нашли мы в нем, было бы еще не найденным?
– Что же более?
– Возьмем, например, что-нибудь иное четверичное: если в которой-либо четверице вещей мы искали одну, то, узнавши ее наперед, остаемся довольными; а когда сперва узнали три, то чрез это самое становится у нас дознанною и искомая; ибо явно, что она есть уже не иное что, как оставшаяся[249]249
Сократ говорит так: если из четырех вещей нам пришлось наперед найти ту, которая нам нужна, то мы успокаиваемся и прочие три оставляем. А когда, между четырьмя ища одной, мы нашли сперва три, которых не искали, то остальная, конечно, будет та, которой ищем, и свойства ее, если по своим качествам известно было нам целое, чрез выделение свойств, принадлежащих прочим трем вещам, легко определятся. Говоря таким образом, Сократ намерен, прежде чем коснется справедливости, решить вопрос о мудрости, мужестве и рассудительности, чтобы потом открылось само собою, что такое справедливость.
[Закрыть].
– Правду говоришь, – сказал он.
– Не таким же ли образом надобно исследовать и это, – поколику оно тоже четверично?
– Очевидно.
– И во-первых таки, в нем мне кажется явною мудрость; только в отношении к ней представляется что-то странное.
– Что такое? – спросил он.
– Мудр в самом деле, кажется, город, о котором мы рассуждали; потому что он благосоветлив. Не так ли?
– Да.
– Но это-то самое – благосоветливость, очевидно, есть некоторое знание; потому что не невежеством же, вероятно, а знанием хорошо советуют.
– Явно.
– Между тем о городе знания-то ведь многочисленны и разнообразны.
– Как же.
– Так не ради ли знания домостроителей надобно город называть мудрым и благосоветливым?
– Отнюдь нет, – сказал Главкон, – ради этого-то он – домостроителен.
– Значит, город надобно называть мудрым и не ради знания щепного, советующего делать, сколько можно лучше, деревянные сосуды.
– Конечно, нет.
– Что же? Медные или какие-нибудь другие?
– И не ради такого чего-либо, – сказал он.
– Так и не ради знания произращать из земли плод; потому что за это называют его земледельческим.
– Мне кажется.
– Что же? – спросил я. – В устроенном нами теперь городе есть ли у некоторых граждан такое знание, которое советовало бы не о чем-либо в недре города, а о нем целом, то есть как бы наилучшим образом мог он сноситься и сам с собою, и с другими городами?
– Конечно, есть.
– Что же это, – спросил я, – и в ком?
– Это знание охранительное, – отвечал он, – в тех властителях, которых теперь мы называем совершенными стражами.
– Так, по этому знанию, каким объявляешь ты город?
– Благосовестливым и действительно мудрым, – сказал он.
– Однако ж в городе у нас, – спросил я, – более ли, думаешь, кузнецов или этих истинных стражей?
– Гораздо более кузнецов, – отвечал он.
– Значит, сравнительно с прочими, которые почитаются имеющими какое-нибудь знание, – сравнительно со всеми ими, последние должны быть весьма малочисленны.
– Много малочисленнее.
– Следовательно, целый, согласно с природою устроенный город может быть мудрым по малочисленнейшему сословию, по части самого себя, по начальственному и правительственному в нем занятию. Это, вероятно, есть согласный с природою малейший род, имеющий право обладать тем знанием, которое одно надобно называть мудростью прочих знаний[250]250
Мудрость государства, по учению Платона, есть правительство. Не многочисленность отличных художников и земледельцев, не специальности в обширной области знаний надобно называть мудростью, а ту все соединяющую и всем управляющую силу, которая вносит свой распорядок и правильность во все занятия общества.
[Закрыть].
– Ты говоришь весьма справедливо, – сказал он.
– Так вот оно – одно из четырех: не знаю, каким-то образом мы нашли и то, каково оно само, и то, где в городе оно укореняется.
– Да, мне кажется, решительно нашли.
– Ведь и мужество-то – и по нем самом, и по месту нахождения его в городе, отчего город должен быть называем таким, – усмотреть не очень трудно.
– Как же это?
– Кто мог бы, – сказал я, – назвать город трусливым или мужественным, смотря на что-нибудь иное, а не на ту часть, которая воюет за него и сражается?
– Никто не стал бы смотреть на что-нибудь иное, – отвечал он.
– Потому что другие-то в нем, – примолвил я, – будучи или трусливыми, или мужественными, не сделали бы его таким или таким.
– Конечно, нет.
– Следовательно, и мужественным бывает город по некоторой части себя, поколику в ней имеется сила, во всех случаях сохраняющая мнение об опасностях, эти ли они и такие ли, которыми и какими законодатель объявил их в воспитании. Или не то называешь ты мужеством?
– Не очень понял я, что ты сказал: скажи опять, – отвечал он.
– Мужество, говорю, есть некоторое хранение, – продолжал я.
– Какое хранение?
– Хранение мнения о законе относительно опасностей, полученном с воспитанием, что такое эти опасности и какие. Вообще, я назвал мужество хранением – потому, что человек и в скорбях, и в удовольствиях, и в желаниях, и среди страхов удерживает то мнение и никогда не оставляет его. Если хочешь, я, пожалуй, уподоблю его, чему, мне кажется, оно подобно[251]251
Это подобие так характеристически выражает предмет – чувство законности, показывающей, что страшно и нестрашно, что многие позднейшие писатели брали его у Платона и развивали в своих сочинениях. Gataker ad Antonin. III, 4, p. 70. Ruhnk. ad Tim. Gloss. p. 75 sq. Wyttenbach. ad Plut. de S. N. V, p. III. Ruhnk. 1. c. приводит слова Цицерона apud Nonium p. 386. 521: Uti qui combibi purpuram volunt sufficiunt prius lanam medicamentis quibusdam, sic literis talibusque doctrinis ante excoli animos et ad sapientiam concipiendam imbui et praeparari decet. Ho Цицерон приноровляет это подобие к общим приготовительным курсам воспитания теоретического, чтобы юноша потом способен был принять и хранить уроки мудрости; напротив, у Платона оно направляется больше к выражению воспитания нравственного. Надобно, чтобы душа юноши прежде всего пропитана была чувством законности действий, или чувством уважения к закону: это – то же, что у живописцев, или вообще у художников, грунт, ручающийся за прочность той краски, какая будет на нем положена. В какой душе этого грунта не имеется, или он составлен фальшиво – из ложных и не гармонирующих с душою начал, на ту какая бы блестящая краска образованности наводима ни была, – тотчас или выгорит она от зноя, или смоется от дождя. Между тем сколько примеров, что юноши не только в отдельных лицах, но и в целых корпорациях размалевываются яркими красками наук без надлежащего грунта!
[Закрыть].
– Да, хочу.
– Не знаешь ли, – продолжал я, – что красильщики, намереваясь окрасить шерсть так, чтобы она была пурпуровая, сперва из множества цветов выбирают один род – цвета белого, потом употребляют немало предварительных трудов на приготовление шерсти, чтобы она приняла наиболее цвета этого рода, и так-то приготовленную уже красят. И все, что красится этим способом, быв окрашено, пропитывается так, что мытье ни с вычищательными средствами, ни без вычищательных[252]252
Вычищательныя средства, ῥύμματα, по Схолиасту, τρίμματα, σμήγματα, – вытиранья, стиранья. Cornarius Eclogg. р. 98, ed. Fischer: «sunt autem ῥύμματα, quae extersoriam et repugnantem vim habent, velut est nitrum (селитра), quod hic χαςαστραῖον a loco vocat, et lixivium (щелок), quod κονίαν hic appellat, quanquam etiam calcem (известь) haec vox significat. Est autem lixivium e calce paratum primarium et maxime vi illa praeditum».
[Закрыть] не может вывести краски. А иначе, знаешь, что бывает, этим ли кто цветом или другим окрашивает вещь, не приготовивши ее?
– Знаю, – сказал он, – она вымывается и становится смешанною.
– Так заметь, – примолвил я, – что это же, по возможности, делаем и мы, когда избираем воинов и учим их музыке и гимнастике. Не думай, будто мы затеваем что другое, а не то, как бы наилучше, по убеждению, приняли они законы – основную краску, и получая природу и пищу благопотребную, пропитывались мнением о предметах страшных и всех других; так чтобы краска их не смывалась теми чистительными средствами, например, удовольствием, скорбью, страхом и пожеланием, которые в состоянии все изглаживать и сделать это сильнее всякого халастра[253]253
Халастр – селитра, по схолиасту, получил свое имя от македонского города Халастры, ἔνθα τὸ χαςαστραῖον νίτρον γιγνόμενον διὰ ἐννεατηρίδος πήγνυται ὁμοίως δὲ ςύεται. Plin. Histor. Nat. XXXI, 19. 5. 46, ed. Hard. Optimum (nitrum) copiosumque in litis Macedonae, quod vocant Chalastricum, candidum purumque, proximum sali.
[Закрыть], пятновыводящего порошка и другого вычищающего вещества. Такую-то силу и всегдашнее хранение правильного и законного мнения о вещах страшных и нестрашных я называю мужеством и в этом поставляю мужество, если ты не почитаешь его чем-нибудь другим.
– Не почитаю ничем другим, – сказал он, – потому что правильное мнение о том же самом, родившееся без образования, – мнение зверское и рабское ты почитаешь не очень законным и называешь его чем-то другим, а не мужеством.
– Весьма справедливо говоришь, – сказал я.
– Так принимаю это за мужество.
– Да и принимай, – по крайней мере за мужество политическое, – примолвил я, – и примешь правильно. В другой раз, если угодно, мы еще лучше рассмотрим его; теперь же у нас исследуется не это, а справедливость; так для исследования ее, о мужестве, как я полагаю, сказано довольно.
– Ты хорошо говоришь, – примолвил он.
– Теперь, – продолжал я, – остаются еще два предмета, на которые надобно взглянуть в городе, – рассудительность и то, для чего исследуется все это, – справедливость.
– Да, конечно.
– Как же бы найти нам справедливость, чтобы уже не заниматься рассудительностью?
– Я-то не знаю, – отвечал он, – да и не хотел бы, чтоб она открылась прежде, чем рассмотрим мы рассудительность. Так если хочешь сделать мне удовольствие – рассмотри эту прежде той.
– Хотеть-то, без сомнения, хочу, – сказал я, – лишь бы не сделать несправедливости.
– Рассмотри же, – сказал он.
– Надобно рассмотреть, – примолвил я, – и если на рассудительность смотреть с этой-то точки зрения, – она больше, чем первые, походит на симфонию и гармонию.
– Как?
– Это – какой-то космос, – продолжал я, – рассудительность, говорят, есть воздержание от удовольствий и пожеланий, и прибавляют, что она каким-то образом кажется выше самой себя и что все другое в этом роде есть как бы след ее. Не так ли?
– Всего более, – отвечал он.
– Между тем выражение: выше себя, не смешно ли? Ведь кто выше себя, тот, вероятно, и ниже себя, а кто – ниже, тот – выше; так как во всех этих выражениях разумеется один и тот же.
– Как один и тот же?
– Но этим словом, по-видимому, высказывается, что в самом человеке, относительно к душе его, есть одно лучшее, а другое – худшее, и что если по природе лучшее воздерживается от худшего, это называется быть выше себя – значение похвалы; а когда лучшее овладевается худою пищей либо беседою и, сравнительно со множеством худшего, становится маловажнее, это значит как бы с негодованием порицать такого человека и называть его низшим себя и невоздержным.
– Да и следует.
– Посмотри же теперь, – продолжал я, – на юный наш город, и ты найдешь в нем одно из этого. Он, справедливо скажешь, почитается выше себя, если только мудрым и высшим надобно называть то, в чем лучшее начальствует над худшим.
– Да, смотрю, – сказал он, – ты правду говоришь.
– Притом многочисленные-то и разнообразные пожелания, удовольствия и скорби можно встречать большею частью во всех – и в женщинах, и в слугах, и во многих негодных людях, называемых свободными.
– Уж конечно.
– А простые-то и умеренные, управляемые именно союзом ума и верного мнения, встретишь ты в немногих, наилучших по природе и наилучших по образованию.
– Правда, – сказал он.
– Так не видишь ли, – в городе у тебя уместно и то, чтобы пожелания многих и негодных были там под властью пожеланий и благоразумия немногих и скромнейших?
– Вижу, – сказал он.
– Следовательно, если какой-нибудь город должно назвать городом выше удовольствий, пожеланий и его самого, то вместе с ним следует назвать и этот.
– Без сомнения, – примолвил он.
– А по всему этому, не назовем ли его и рассудительным?
– И очень, – отвечал он.
– Да и то еще: если в каком-нибудь городе и начальствующие и подчиненные питают одинаковое мнение о том, кому должно начальствовать, то и в этом уместно то же самое. Или тебе не кажется?
– Напротив, даже очень, – сказал он.
– Так видишь ли? Мы теперь последовательно дознали, что рассудительность походит на некоторую гармонию.
– Что это за гармония?
– То, что рассудительность – не как мужество и мудрость: обе эти, находясь в известной части города, делают его – первая мужественным, последняя мудрым; а та действует иначе: она устанавливается в целом городе и отзывается во всех его струнах[254]254
Отзывается во всех его струнах, διὰ πασῶν παρεχομένη, т. е. χορδῶν. Это выражение взято из терминологии музыкантов и означает гармоническое слияние всех главных звуков, или аккорд.
[Закрыть] то слабейшими, то сильнейшими, то средними. Но согласно поющими одно и то же звуками, – хочешь умствованием, хочешь силою, хочешь многочисленностью, деньгами, либо чем другим в этом роде; так что весьма правильно сказали бы мы, что рассудительность есть это-то самое единомыслие, согласие худшего и лучшего по природе в том, кому должно начальствовать и в обществе, и в каждом человеке.
– Я совершенно того же мнения, – сказал он.
– Хорошо, – продолжал я, – в городе у нас три вида обозрены, – по крайней мере так кажется. Что же будет остальной-то вид, по которому город равно причастен добродетели? Ведь явно, что это – справедливость.
– Явно.
– Так теперь, Главкон, мы, подобно каким-нибудь охотникам вокруг кустарника, должны стать вокруг справедливости и быть внимательными, чтобы она как-нибудь не ушла и, скрывшись, не утаилась от нас; ибо явно ведь, что ей надобно быть где-нибудь тут. Смотри же и старайся подметить; может быть, ты увидишь прежде меня, – тогда скажи и мне.
– Да, если бы мог, – примолвил он, – но ты гораздо правильнее употребишь меня как человека, могущего больше следовать за тобою и иметь в виду то, что ему указывают.
– Следуй, помолившись[255]255
Следуй, помолившись со мною, ἕπου – εὐξάμενος μετ’ ἐμοῦ. Это, кажется, была поговорка, подобная нашей: иди с Богом, или ступай с Божией помощью. Таково же употребление ее Phileb. р. 25 В. Tim. р. 27 В. С.
[Закрыть] со мною, – сказал я.
– Следую, – примолвил он, – только веди.
– Тем больше нужно это, – заметил я, – что место-то, по-видимому, непроходимо и во мраке, поэтому темно и не вдруг поддается исследованию. Впрочем, надобно же идти.
– Да, надобно, – сказал он.
Тут я, как бы усмотрев нечто, вскричал:
– А! Главкон! должно быть, попадаем на след, и кажется, этому нелегко уйти от нас.
– Добрая весть, – сказал он.
– В самом деле, – примолвил я, – ведь мы страдаем слабостью.
– Какою?
– Это-то, любезнейший, кажется, давно уже, с самого начала вертится у нас под ногами, а мы все не видели и были смешными. Как те, которые, держа что-нибудь в руках, иногда ищут того, что держат; так и мы на это-то не смотрели, а устремляли взор далее, и оттого-то, может быть, это скрывалось от нас.
– Что ты разумеешь? – спросил он.
– То, – отвечал я, – что мы, кажется, давно уже и говорим это, и слушаем, сами не замечая за собою, что говорили некоторым образом это.
– Для охотника слушать, такое предисловие длинно, – сказал он.
– Так слушай, дело ли говорю, – продолжал я. – Устрояя город, мы ведь с самого начала положили, что надобно действовать относительно ко всему и что это, или вид этого[256]256
Это, или вид этого – справедливость. Сократ дает повод думать, что он видел справедливость не только в частном исполнении своей обязанности, или в делании своего дела, как это является на опыте, но еще больше в законе (εἴδος), который должен обнаруживаться частными действиями, направленными у каждого к своему. Справедливость, понимаемая в смысле делания своего дела как вид, становится добродетелью всех граждан и находится под управлением государственной мудрости, в пределах ее соображений, как запряженные кони в руках возничего. Где этой всеобщей видовой деятельности нет или где делают свое только некоторые частные граждане, там делающие свое несут двойную или тройную тяжесть сравнительно с другими, развлекающимися разнообразием дел; там делание своего становится затруднительным, а иногда вовсе невозможным. Сапожнику, старательно делающему свое, трудно, даже вовсе нельзя приготовлять хорошие сапоги в том обществе, в котором не заботятся о своем деле кожевники.
[Закрыть], как мне кажется, есть справедливость. Мы положили и, если помнишь, многократно говорили, что из дел в городе каждый гражданин должен производить одно то, к чему его природа наиболее способна.
– Да, говорили.
– А что производить свое-то и не хвататься за многое, есть именно справедливость, – это слышали мы и от других, и часто высказывали сами.
– Да, высказывали.
– Так это-то, друг мой, некоторым образом бывающее, – продолжал я, – это делание своего, вероятно, и есть справедливость. Знаешь ли, из чего заключаю?
– Нет, скажи, – отвечал он.
– Мне кажется, в исследуемых нами добродетелях города, то есть в рассудительности, мужестве и мудрости, остальное есть то, что всем им доставляет силу внедряться в человека[257]257
Сократ раскрывает следующую мысль: справедливость есть такая добродетель, которая мудрости, мужеству и рассудительности доставляет как бы свойственную каждой силу; потому что она одна делает то, что эти добродетели могут развиваться и преуспевать. Мудрость есть добродетель правительства, но правительству необходимо быть справедливым, то есть делать свое, чтобы в управлении обнаруживалась мудрость. Мужество есть добродетель стражей, но стражам необходимо быть справедливыми, то есть делать свое, чтобы они являлись мужественными. Рассудительность есть гармония общества, или единомыслие граждан относительно лучшего и худшего, высшего и низшего, управляющего и управляемого, но это единомыслие не иначе возможно, как под условием справедливости, или делания своего дела; потому что иначе низшее, не делая своего как низшее, или подчиненное, не делая своего как подчиненное, перестает быть рассудительным. Итак, справедливость общества состоит в том, чтобы и рабочие, и военные, и управляющие знали свое и исполняли каждый собственную обязанность, а в чужие дела не мешались. Поэтому неудивительно, что справедливость иногда понимается Платоном как вся добродетель. См. I, р. 35 C. D. 351. А. 354. A. VΙΙΙ, 554 Е.
[Закрыть], и в кого они внедряются-то, тем служить к спасению, пока в ком это имеется. Но остальное в них, когда эти три были найдены, мы назвали справедливостью.
– Да и необходимо, – сказал он.
– Если бы, впрочем, надлежало-таки решить, – продолжал я, – что из этого сделает наш город особенно добрым, поколику в нем имеется, то было бы неразрешимым, согласие ли начальствующих и подчиненных, врожденное ли воинам хранение законного мнения о вещах страшных и нестрашных, что такое они, свойственная ли правителям мудрость и бдительность, или наконец это, – когда каждый, как один, делает одно и не хватается за многое, доставляет городу больше доброты, поколику имеется и в дитяти, и в женщине, и в рабе, и в свободном, и в художнике, и в начальнике, и в подчиненном.
– Было бы неразрешимым, – сказал он. – Как не быть?
– Следовательно, сила каждого делать свое борется, как видно, за добродетель города с его мудростью, рассудительностью и мужеством.
– Конечно, – сказал он.
– Так не положить ли, что справедливость есть борьба с ними за добродетель?
– Совершенно полагаю.
– Смотри же и сюда; так ли покажется? Не правителям ли города предоставишь ты дела судебные?
– Как же.
– Но к иному ли чему будет направляться их суд, или к тому, чтобы каждый и не захватывал чужого, и не лишался своего?
– Не к иному чему, а к этому.
– Так как это справедливо?
– Да.
– Следовательно, справедливость и поэтому, вероятно, можем мы почитать удерживанием собственного и деланием своего.
– Правда.
– Взгляни-ка теперь, покажется ли и тебе, как мне. Плотник, решаясь производить работы башмачника, или башмачник – работы плотника, и взаимно обмениваясь орудиями и значением, либо один кто-нибудь, намереваясь исполнять дела обоих и переменяя все прочее, очень ли, думаешь, повредит городу?
– Не очень, – сказал он.
– Но кто, полагаю, по природе художник, или какой другой промышленник, возгордившись либо богатством, либо множеством, либо силою, либо чем иным в этом роде, решился бы войти в круг дел воинских, или военный – в круг дел советника и блюстителя, тогда как он того не стоит, и оба эти взаимно обменялись бы орудиями и значениями, либо даже один захотел бы делать все вместе; тот, как и ты, думаю, согласишься, этим обменом и многодельем погубил бы город.
– Совершенно.
– Следовательно, при трех видах добродетели, многоделье и взаимный обмен занятий причиняют городу величайший вред и весьма правильно могут быть названы злодеянием.
– Конечно, так.
– А злодеяние не назовешь ли ты величайшею несправедливостью против своего города?
– Как не назвать?
– Это-то, стало быть, – несправедливость. Скажем опять и так: своеделье видов – промышленного, вспомогательного и блюстительного, поколику всякий из них в городе делает свое, будет противно той несправедливости, – будет справедливость и сделает город справедливым.
– Мне кажется, не иным, – примолвил он, – но именно таким.
– Твердо мы, может быть, ничего не скажем об этом, – заметил я. – Но если искомый вид подойдет у нас к отдельному человеку и в нем также будет справедливостью, то уже согласимся, – да что тогда и говорить? – а когда не подойдет – станем рассматривать что-нибудь другое. Итак, теперь окончим свое исследование обычным способом, а именно: если прежде мы брались созерцать справедливость в чем-то великом, где она имеется, то гораздо легче можем приметить ее в одном человеке. Нам показалось, что это есть город; так вот мы и устрояли его, как могли наилучше, зная хорошо, что справедливость может находиться именно в наилучшем. Теперь же, что открыли мы там, перенесем на одного; и если уладится – будет хорошо, а когда в одном обнаружится что-нибудь иное – опять воротимся и станем испытывать город. Авось, либо чрез взаимное исследование и трение их, мы извлечем справедливость, как огонь из поленьев дерева, и, выведши ее наружу, утвердим у нас самих.
– Ты говоришь о порядке, – сказал он, – так и надобно делать.
– Пусть что-либо, например большее и меньшее, означается словом то же: подобны ли они, поколику называются тем же, или не подобны? – спросил я.
– Подобны, – отвечал он.
– Следовательно, справедливый человек, по самому роду справедливости, не будет отличаться от справедливого города, а будет подобен ему.
– Подобен, – сказал он.
– Но город-то ведь казался нам справедливым, когда находящиеся в нем три рода природ делали каждый свое; а будучи рассудительным, мужественным и мудрым, чрез самые эти роды, получал он другие качества и состояния.
– Правда, – примолвил он.
– Стало быть, и одного человека, друг мой, мы будем представлять себе так, что он в своей душе имеет эти же самые роды, если городу справедливо приписываются одинаковые с ними и означаемые теми же именами свойства.
– Крайне необходимо, – сказал он.
– Ну так не на маловажное исследование души попали мы, почтеннейший, – заметил я, – как скоро возник вопрос: есть ли в ней эти три рода или нет?
– По-видимому, очень не на маловажное, – сказал он, – ведь, может быть, и справедлива поговорка, Сократ, что прекрасное трудно[258]258
Прекрасное трудно, χαςεπὰ τὰ καςά: пословица, встречающаяся также lib. VI, р. 450 D. Cratyl. р. 384 A. Hipp. Maj. р. 304 Е. Это изречение схолиаст приписывает Солону.
[Закрыть].
– Кажется, – примолвил я. – Да и то знай, Главкон, что тем путем, которого мы в своей беседе держались теперь, нам, я думаю, никогда не достигнуть этого с точностью; потому что к этому ведет путь более длинный и широкий; хотя, применительно к прежним исследованиям, прилично было бы взять нам тот[259]259
Сократ разумеет привычную себе простую и доступную для понятия методу аналитическую и говорит, что, пользуясь этою методою, нельзя в исследовании предположенного предмета дойти до точности, что для этого требуется другой путь – длинный и широкий, синтетический. Но так как последний был бы слишком широк и учен, а исследования прежним способом все же сообразны с целью труда, то он и решается продолжать дело, идя тем же путем.
[Закрыть].
– Так не оставаться ли на нем? – спросил он. – Ведь для меня, по крайней мере, в настоящее время, он был бы достаточен.
– А меня-то и очень удовлетворит, – сказал я.
– Не затрудняйся же, – примолвил он, – и исследуй.
– Итак, не крайне ли необходимо согласиться нам, – продолжал я, – что в каждом из нас есть те самые роды и нравы, какие в городе? Ведь не откуда же, вероятно, все идет туда[260]260
Все идет туда, то есть в город. Общество, по учению Платона, есть не иное что, как образ, или собирательное выражение одного человека. Отсюда – δεῖ αὐτὴν καθάπερ ἔνα ἀνθρωπον ζῆν εὖ. Legg. VIII, p. 328 Ε. Итак, каковы нравы и наклонности частных людей, такой характер получает и общество; но не наоборот: общество, по своим законам и постановлениям, хорошее не ручается за добрую нравственность всех частных лиц.
[Закрыть].
– Да и смешно было бы, если бы кто подумал, что гневливость прирождается городам не частными лицами, которые точно такими и оказываются, например, во Фракии, да в Скифии, и в местах еще выше; тогда как около наших мест можно замечать особенно любознательность, а около Финикии и Египта не менее заметна склонность к любостяжанию[261]261
Финикияне, по своей любостяжательности, в древности не пользовались хорошим мнением. См. Boisson. ad Philostr. Heroic. p. 286. Аст хорошо говорит: «Это место Платона замечательно: стихии человеческой природы и человеческого общества, τὸ θυμοειδες, τὸ ἐπιθυμητικὸν καὶ τὸ σοφὸν, обнаруживаются не только в отдельных людях, но характеризуют и отдельные государства. Соответственно природе вещей, τὸ θυμοειδές, или в обществе – τὸ ἐπικουρικόν, из чего проистекает мужество, есть стихия, господствующая на Севере; ὲπιθημητικόν, или в обществе – τὸ χρηματιστ.κόν, особенно господствует на Востоке, где люди преданы неге и роскоши; а τὸ ςογιστικόν или φΐςομαθές – преуспевает в поясах умеренных, где больше процветает наука и образование».
[Закрыть].
– И очень, – сказал он.
– Это-то так, – примолвил я, – это знать нетрудно.
– Конечно.
– Но следующее уже трудно: тем же ли самым делаем мы каждое (дело), или, так как у нас три (природы), то одною одно, – познаем, то есть тем, гневаемся этим в нас, а похотствуем опять чем-нибудь третьим, имеющим отношение к пище, к рождению удовольствий и ко всему с этим сродному, или, – когда стремимся к чему-либо, относительно каждого из тех предметов, – действуем целою душою? Это трудно определить по-надлежащему.
– И мне кажется, – сказал он.
– Так вот как примемся определять, то же ли это одно с другим или иное.
– А как?
– Явно, что то же, относительно к тому же самому и для того же, не захочет вместе действовать или терпеть противное; так что если в том же мы найдем эго (т. е. противное), то будем знать, что то же было не то же[262]262
Для большего прояснения этого места сравн.: libr. I, р. 335 E; II, р. 357 А; X, р. 609 В: οὐκ ἤδη εἰσόμεθα, ὅτι ὄςεθρος οὐκ ἦν. Matth. Gr. § 505, 2. Явно, что тут высказывается обыкновенная логическая формула закона противоречия: о том же нельзя утверждать не того же. Но Платон, как известно, с этими логическими формами всегда соединял содержание, то есть брал их реально и полагал, как первые стихии для развития теории идей. Здесь свое учение об идеях прилагает он к решению предложенного сейчас вопроса: сама ли по себе делает каждая часть души, что делает, или все совершаемое в душе, которою бы ее природою что-либо ни совершалось, совершается целою душою? Речь Платона в этом месте довольно сжата и потому темна: для сего после слов: ὲν αὐτοῖς ταῦτα γιγνόμενα, я повторяю в знаке вместительном τἀναντία – противное, a фразу ὰςςὰ πςείω дополняю словами: ἢ τἀυτόν – чем то же.
[Закрыть], а больше, чем то же.
– Пусть.
– Смотри же, что я говорю.
– Говори, – сказал он.
– Возможно ли, чтобы одно и то же в отношении к одному и тому же стояло и двигалось? – спросил я.
– Никак невозможно.
– Однако ж условимся в этом еще точнее, чтобы, простираясь вперед, не прийти к недоумению. Ведь если бы кто говорил, что человек стоит, а руками и головою движет, и что (таким образом) он и стоит, и вместе движется, то мы, думаю, не согласились бы, что так должно говорить, а (сказали бы), что одно в нем стоит, другое движется. Не так ли?
– Так.
– Или если бы тот, кто лукаво утверждает это, еще больше подшучивал, что-де и все кубари стоят и вместе движутся, когда вертятся, средоточием уткнувшись в одно место, да и всякое другое на своей подставке вертящееся тело делает то же самое, – мы, конечно, не приняли бы этого, потому что такие вещи вертятся и не вертятся в отношении не к одному и тому же, – а сказали бы, что в них есть прямое и круглое, и что по прямоте они стоят, ибо никуда не уклоняются, а по окружности совершают круговое движение. Когда же эта прямота, вместе с обращением окружности, уклоняется направо либо налево, вперед либо назад, тогда в вещи уже ничто не может стоять.
– И справедливо, – сказал он.
– Итак, нас не изумит никакое подобное положение и уже не уверит, будто что-нибудь, будучи тем же в отношении к тому же и для того же, иногда может терпеть или делать противное.
– Меня-то не уверит, – сказал он.
– Впрочем, – продолжал я, – чтобы, чрез рассуждение о всех таких недоумениях и чрез доказывание их несправедливости, не подвергаться нам необходимости растягивать свою речь, мы положим это за верное и пойдем вперед с условием, – если бы иное показалось нам иначе, а не так, – решать все, заключая от этого.
– Так и надобно делать, – сказал он.
– Хорошо, – согласие и несогласие, желание взять что-нибудь и отрицание, приведение к себе и удаление от себя, и все такие действия ли то будут или страдания (различия здесь нет никакого), – не поставишь ли ты в числе предметов, противоположных один другому? – спросил я.
– Конечно, в числе противоположных, – сказал он.
– Но что, – продолжал я, – жаждания и алкания, вообще пожеланий, также хотения и стремления, – всего этого не причтешь ли ты как-нибудь к тем родам, о которых мы сейчас говорили? То есть душу желающего не назовешь ли душою, всегда стремящеюся к тому, чего она желала бы, или привлекающею то, что хотела бы она иметь при себе, или опять душою, сколько хочется ей приобрести чего-нибудь, соглашающеюся на это, как будто кто спрашивает ее, и домогающеюся, чтобы это было?
– Причту.
– Ну, а отвращения, нехотения и нежелания не отнесем ли мы к отогнанию и удалению от души и ко всему, что противно прежнему?
– Как не отнести?
– Если же это так, то желания не признаем ли мы некоторым родом, живейшими же желаниями не сочтем ли тех, из которых одно называется жаждою, а другое голодом?
– Сочтем, – сказал он.
– Но первое не есть ли желание питья, а последнее – пищи?
– Да.
– Итак, поколику есть жажда, – большего ли чего желает душа, чем того, о чем мы говорили? То есть жажда есть ли жажда теплого питья либо холодного, многого либо немногого, – одним словом: какого-нибудь?[263]263
Мысль такова: жажда, рассматриваемая как жажда сама по себе, желает ли чего-нибудь больше, кроме того, что мы говорим, то есть кроме питья? Когда мы определяем понятие жажды, нужно ли нам, для определения ее, не только питье, которого собственно желаем, но еще питье теплое либо холодное, в большом или малом количестве? Вообще, когда говорится просто о жажде, берется ли в расчет качество и количество питья? Под словами ποίον τινος πώματος надобно разуметь не ηοιότης в смысле теснейшем, а τὸ ποίον – форму, или ограничение жажды какими бы то ни было, количественными или качественными, признаками.
[Закрыть] А как скоро к жажде прибавилось бы теплое, не пробудилось ли бы этим желание холодного, либо, когда холодное, – желание теплого? Если же, чрез присущие многоразличия, жажда была бы многоразлична, то не пробудилось ли бы этим желание многоразличного, либо, когда немногоразлична, – желание немногоразличного? Или самое жаждание есть желание не иного чего, как ему сродного, то есть просто питья, равно как голод есть желание просто пищи?[264]264
Желание, – ἐπιθυμία, и желание само по себе – αὐτὴ ἡ ἐπιθυμία, Платон различает так, что первое есть род природы пожелательной, и формы ее многоразличны; так что, как скоро пробуждается желание теплого, тотчас противополагается нежелание холодного, и вообще, она есть желание τοῦ τοίου ἢ τοίου; напротив, последнее есть желание в значении чистой идеи силы, действующей в недре ума и тождественной с свободою.
[Закрыть]
– Так, – сказал он, – самое-то желание, взятое отдельно, есть желание только отдельного, что ему сродно, а такое или такое (питье), это (ограничения) привзошедшие.
– Но как бы кто-нибудь не возмутил нас, будто людей недальновидных, говоря, что всякий желает не питья, а пригодного питья, и не пищи, а пригодной пищи. Ведь все желают себе благ; следовательно, если жажда есть желание, то оно должно быть желанием пригодного – питья ли то, или чего другого подобного; то же – и прочие желания.
– Да, может быть, и дело сказал бы тот, кто сказал бы так, – заметил он.
– Однако ж все такое, что поставлено в связь с чем-нибудь, по некоторым качествам, относится, как я думаю, к известному качественному предмету, а что существует само по себе, то относится только к себе[265]265
Что поставлено в связь с чем-нибудь, οἶα εἶναι τοῦ, то есть ὥςτε εἶναι πρός τι. Всякая вещь имеет некоторые свойства существенные, по которым она существует сама по себе и для себя: с этой стороны существование ее самостоятельно или безусловно. Но во всякой вещи есть и такие качества, по которым она есть вещь для других вещей и чрез которые находится в связи с ними: с этой стороны бытие ее называется относительным. Это различие между сторонами одной и той же вещи Платон далее объясняет примерами.
[Закрыть].
– Не понимаю, – сказал он.
– Не понимаешь того, – возразил я, – что большее бывает больше чего-нибудь?
– О, конечно.
– Значит, меньшего?
– Да.
– Поэтому и гораздо большее – гораздо меньшего; не правда ли?
– Да.
– Следовательно, и некогда большее – некогда меньшего, и будущее большее – будущего меньшего?
– Да как же, – сказал он.
– Не так же ли относится и множайшее к немногому, двукратное к половинному и все подобное? Не так же ли опять – тяжелейшее к легчайшему, скорейшее – к медленнейшему, да и теплое к холодному и все тому подобное?
– Без сомнения.
– А что сказать о науках? Не то же ли отношение? Сама-то наука есть наука о ее учении, в чем бы ни надлежало полагать его; а наука некоторая, и некоторая качественная, есть знание чего-то качественного. Рассуждаю так: не знанием ли своего дела наука отличается от других наук, когда называется домостроительством?
– Как же.
– Стало быть, не тем ли, что она такова, какою не бывает ни одна из них?
– Да.
– Следовательно, поколику она есть наука какого-нибудь предмета и сама делается какою-нибудь наукою? И таким же образом прочие искусства и науки?
– Правда.
– Так вот и полагай, что это-то хотелось мне тогда сказать, – примолвил я, – если теперь ты понял, что все, поставленное в связь с чем-нибудь, одно, само по себе, принадлежит себе одному, а по некоторым качествам принадлежит чему-нибудь качественному. Впрочем, разумею не то, будто, чему что принадлежит, таково то и есть, будто, например, наука о здоровом и больном здорова и больна, а о злом и добром – зла и добра[266]266
Это замечание Сократа напоминает о многих умозаключениях или софизмах Эвтидема и Дионисиодора, которые, принимая относительные признаки вещей за существенные и существенные – за относительные, из своих посылок легко выводили следствия самые нелепые. См. Euthyd. passim.
[Закрыть]: нет, но поколику она стала наукою не того, чего есть наука, а какого-либо качественного предмета, именно здоровья и болезни, – ей и самой пришлось сделаться качественною, и это заставило назвать ее уже не просто наукою, но с прибавлением некоторого качества, – медициною.
– Понял, – сказал он, – и мне кажется, это так.
– А жажда? – продолжал я. – Не отнесешь ли ты и ее к чему-нибудь такому, что есть? Вероятно, и жажда есть жажда чего-нибудь?
– Конечно; я отнесу ее к питью, – отвечал он.
– Но между тем как качеством известного питья определяется качество и жажды, самая жажда опять не бывает ли жаждою не многого и не малого, не хорошего и не худого, одним словом – не какого-нибудь, а только самого питья?
– Без сомнения.
– Следовательно, душа жаждущего, поколику жаждет, не хочет ничего более, как жаждать; к этому она направляется и к этому стремится.
– Уж конечно.
– Посему, что отвлекает ее от жаждания, когда она жаждет, то не есть ли в ней нечто отличное от самого жаждущего и ведущего ее, будто животное, к питью? Ведь то же в отношении к тому же, говорим мы, не делает противного самому себе.
– Конечно.
– Так-то и о стрелке, думаю, нехорошо было бы сказать, будто его руки в одно и то же время тянут лук и к себе и от себя, но следует полагать, что одна рука тянет его от себя, другая к себе.
– Без сомнения.
– А скажем ли, что есть люди, не хотящие пить, когда они жаждут?
– Да, и очень много; это часто случается, – отвечал он.
– Что же подумать о них? – спросил я. – Не то ли, что в душе их есть одно повелевающее, а другое возбраняющее пить, и что последнее отлично от повелевающего и господствует над ним?
– Мне кажется, – отвечал он.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!