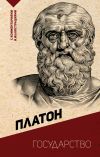Текст книги "Государство. Диалоги. Апология Сократа"

Автор книги: Платон
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
– И очень.
– И которое весьма близко подходит к состоянию одного человека: например, когда у кого-нибудь из нас ушиблен палец, тогда, по общению тела с душою, сосредоточенному в одном распорядке господствующего в душе начала, все чувствует и вместе все разделяет страдание больного члена; а потому мы и говорим, что человек страдает пальцем. То же должно сказать и о всякой другой принадлежности человека – о скорби, когда член болезнует, и об удовольствии, когда он здоров.
– Конечно, то же, – сказал он, – и отлично управляемый город, в самом деле, живет весьма близко к тому, о чем ты спрашиваешь.
– Итак, если и один кто-нибудь из граждан испытывает добро или зло, этот город непременно будет говорить, что он сам испытывает это, и станет либо весь сорадоваться, либо весь сострадать.
– Необходимо, – сказал он, – как скоро город поистине благозаконен.
– Теперь время бы нам возвратиться к своему государству, – продолжал я, – и сообразить то, на что мы согласились, – оно ли, то есть именно таково, или скорее какое-нибудь иное.
– Да, надобно, – сказал он.
– Что же? Как в других государствах есть правители и народ, так есть, конечно, и в этом?
– Есть.
– И все они друг друга называют гражданами?
– Как не называть?
– Но в других государствах к имени некоторых граждан народ присоединяет еще имя правителей?
– Во многих – имя властелинов (δεσπότας), а в городах демократических соответствует этому название архонтов (правителей).
– Что же в нашем народе? Имя каких правителей присоединяет он к имени некоторых граждан?
– Имя хранителей и попечителей, – сказал он.
– А эти как называют народ?
– Мздовоздаятелями и питателями.
– В других же государствах правители как называют народ?
– Рабами, – сказал он.
– А правители друг друга?
– Соправителями, – отвечал он.
– Ну а наши?
– Состражами.
– Скажи теперь о правителях в других государствах: может ли кто там одного из соправителей наименовать как собственным, а другого – как чужим?
– Да, и многих.
– Поэтому собственного он почитает и называет как своим, а чужого как не своим?
– Так.
– Что же твои-то стражи? Может ли кто из них почитать или называть известного стража как чужим?
– Отнюдь нет, – сказал он, – потому что, с кем бы он ни встретился, будет думать, что встретился либо как с братом, либо как с сестрою, либо как с отцом, либо как с матерью, либо с сыном, либо с дочерью, либо с их детьми, либо с их родителями.
– Прекрасно говоришь ты, – примолвил я, – но скажи еще вот что: назначишь ли ты им только собственные имена родства или по именам узаконишь совершать и всякие дела, например, в отношении к отцам – уважение, заботливость и послушание – все, чего требует закон касательно родителей, поколику не делающему этого не будет добра ни от богов, ни от людей, так как, делая иное, а не это, он не делает ни честного, ни справедливого? Эти ли речи от всех граждан или другие тотчас прозвучат у тебя в ушах детей, отцов и прочих родственников, на каких кто укажет им?
– Эти, – сказал он, – ибо смешно было бы, если бы слетали с языка только собственные имена, без дел.
– Следовательно, в этом государстве, более чем во всех других, когда кто один находится в хорошем или худом состоянии, граждане будут единогласно произносить недавно сказанное нами слово: мои дела хороши или мои дела нехороши.
– Совершенная правда, – сказал он.
– А не говорили ли мы, что с этою мыслью и с этим словом идут об руку и удовольствия и скорби?
– Да, и правильно говорили.
– Но не в том ли самом граждане у нас особенно будут иметь общение, что станут называть своим? И имея в этом общение, не будут ли так-то обобщаться равным образом в скорби и удовольствии?
– И очень.
– Так кроме других постановлений государственных, не в этом ли причина – иметь стражам общих жен и детей?
– Конечно, особенно в этом, – сказал он.
– Но величайшее-то благо государства мы согласились выразить тем, что благоустроенное государство уподобили телу, испытывающему и скорбь, и удовольствие относительно к своему члену.
– Да и правильно согласились, – сказал он.
– Стало быть, причиною величайшего блага в государстве становится у нас общность детей и жен между попечителями.
– И очень, – сказал он.
– Впрочем, этим мы сходимся и с прежде уже допущенным положением. Ведь говорено было, кажется, что если стражи должны быть истинными стражами, им не следует иметь ни частных домов, ни земли, ни стяжания, но, в награду за охранение получая пищу от других, иждивать ее всем сообща.
– Правильно, – сказал он.
– Так и прежде, говорю, сказанное, и теперь утверждаемое не характеризует ли еще более самих истинных стражей и не делает ли того, что они не расторгают государства, как расторгали бы тогда, когда называли бы своим не одно и то же, но иной – иное, поколику один все, что может приобрести особо от прочих, влек бы в свой дом, а другой – в свой отдельный, – влек бы и иную жену, и иных детей, которые, как особые, возбуждали бы в нем особые также и удовольствия, и скорби? Между тем как имея одну мысль о собственности, все стремятся, сколько возможно, и скорбь и удовольствие чувствовать вместе.
– Совершенно так, – сказал он.
– Что же? Так как никто из них не приобретает никакой собственности, кроме тела, так как, исключая тело, все прочее у них общее, то, по поговорке, не уйдут ли от них тяжбы и взаимные обвинения? А поэтому не будут ли они гражданами самыми невозмутимыми, когда все возмущения между людьми бывают за приобретение денег, детей и родственников?
– Весьма необходимо исчезнуть этому, – сказал он.
– Да и принуждений, и телесных наказаний по закону не будет у них; ибо, подчиняя их необходимости заботиться о телах, мы, вероятно, скажем им, что сверстникам похвально и справедливо помогать друг другу.
– Правильно, – сказал он.
– Да и то в этом законе правильно, – продолжал я, – что кто гневается на другого и на нем вымещает гнев свой, тот не вдается в большие возмущения.
– Без сомнения.
– Впрочем, старшему будет предписано начальствовать над всеми младшими, наказывать их.
– Явно.
– А младший-то, лишь бы не приказывали правители, никогда не решится ни как-нибудь иначе насиловать, ни бить старшего, что и естественно, да не обесчестит его, думаю, и другим способом, потому что это возбранят ему два довольно сильных стража – страх и уважение: уважение не опустит его касаться родителей, а страх обуздает его тою мыслью, что обижаемому помогут со стороны – одни как сыновья, другие как братья, иные как отцы.
– Обыкновенно так, – сказал он.
– Значит, под этими законами люди непременно будут жить между собою в мире?
– И в великом.
– А когда эти не будут возмущаться друг против друга, то нечего бояться, что на них, либо одни на других, восстанут прочие граждане[300]300
Что на них, либо одни на других, восстанут прочие граждане, μή ποτε ἡ ἄςςη πόςις πρὸς τούτου ἢ πρὸς ἀςςήςους διχοστατήσῃ. Под словами ἡ ἄςςη πόςις надобно разуметь не весь город, или не urbs universa, как переводит Аст, a reliqua urbs, или прочие граждане, кроме стражей. Постановленный закон, по понятию Платона, предотвратит не только восстание прочих граждан на стражей, но и возмущение их одних против других.
[Закрыть].
– Конечно, нечего.
– О самых же мелочных видах зла, от которых они избавились бы, по неприличию, не хочется и говорить, – например, о ласкательстве бедных богатым, о всех затруднениях и беспокойствах, с которыми сопряжено бывает воспитание детей и приобретение денег для необходимого содержания прислужников, когда надобно бывает либо брать деньги в долг, либо запираться в них, либо доставать их всячески и прятать у жен да у слуг, поручая им хранение своего залога, – о всем этом, что терпят и могут терпеть граждане, друг мой, низко, неблагородно, да и не стоит говорить.
– Это ясно и для слепого, – сказал он.
– А избавившись от всех этих хлопот, они будут вести жизнь блаженнейшую, блаженнее той, какую ведут олимпийские победители[301]301
О счастье олимпийских победителей см. interprett. ad Horat. Carm. 1,1,3 sq.
[Закрыть].
– Как?
– Те наслаждаются, может быть, малою частью того, что достается этим; потому что и победа их превосходнее, и содержание от города полнее: цель победы их – спасение целого государства; пищей и всем прочим, что нужно для жизни, снабжаются и сами они, и дети; а почести от государства, предоставляемые им при жизни, по смерти их увенчиваются достойным погребением.
– Да, велики награды, – сказал он.
– Но помнишь ли, – спросил я, – прежде[302]302
Указывается Lib. IV, р. 419 А.
[Закрыть], по случаю какого-то рассуждения, нас поразила мысль, что своих стражей мы делаем несчастными, если, владея возможностью иметь все, принадлежащее гражданам, сами они не имеют ничего? Мы, кажется, сказали тогда, что рассмотрим это после, где придется, теперь же постараемся стражей сделать стражами, а государство, сколько достанет сил, счастливейшим, имея в виду доставить в нем счастье не одному этому сословию.
– Помню, – сказал он.
– Что же? Жизнь попечителей, представляющаяся нам теперь уже гораздо высшею и лучшею, чем жизнь даже олимпийских победителей, идет ли, по-видимому, в какое-нибудь сравнение с жизнью сапожников, либо иных мастеровых, либо земледельцев?
– Не думаю, – сказал он.
– Поэтому, что тогда уже говорили мы, то самое справедливо будет сказать и теперь: если страж вздумает сделаться так счастливым, что и не будет стражем и не станет довольствоваться столь мерною, постоянною и, как мы говорим, наилучшею жизнью, но, водясь безумным и ребяческим мнением о счастье, устремится все усвоять себе в государстве силою, то да узнает он слова Исиода[303]303
Указывается на слова Исиода Орр. et DD. v. 40: νήπιοι οὐδ’ἴσασιν, ὅσω πςέον ἤμισυ παντός.
[Закрыть], – тот был истинный мудрец, кто сказал: половина в некотором смысле больше целого.
– Если хочет он следовать моему совету, пускай остается в этой жизни, – сказал он.
– Следовательно, ты допускаешь, – заключил я, – рассмотренную нами общность жен у мужей, применительно к воспитанию, к детям и стражам прочих граждан? Допускаешь, что женщины должны иметь место в государстве, ходить на войну, разделять с мужчинами обязанность стражей, участвовать в ловле, как собаки, и по возможности иметь общение во всем и всячески? Допускаешь, что делая это, они будут делать наилучшее и не противоречащее природе женского пола, относительно к мужескому, на чем обыкновенно основывается взаимное общение их?
– Допускаю, – сказал он.
– Не то ли остается исследовать, – спросил я, – возможно ли и у людей, как у прочих животных, такое общение и каким образом оно возможно?
– Ты предупредил меня своим вопросом, – сказал он, – я сам хотел предложить его.
– Что касается до участия женщин в войне, – начал я, – то явно, думаю, как будут они воевать.
– А как? – спросил он.
– Они станут сообща ходить в поход и сверх того водить с собою на войну возрастных детей, чтобы последние, как дети прочих художников, всматривались в то, что должны будут делать, достигнув совершеннолетия. Кроме смотрения, дети будут служить и приготовлять все, относящееся к войне, также прислуживать отцам и матерям. Разве не знаешь, как бывает в искусствах? Дети гончаров, например, сперва долгое время служат и смотрят, прежде чем сами начнут гончарничать.
– И очень.
– Так неужели гончарам надобно старательнее воспитывать своих детей, заставляя их наблюдать и всматриваться в то, что к ним относится, чем стражам – своих?
– Это было бы очень смешно, – сказал он.
– Да и сражается-то всякое животное с особенною храбростью в присутствии тех, кого оно родило.
– Так; но при этом, Сократ, настоит немалая опасность, как бы, – что нередко случается на войне, – кроме себя, не потерять и детей, и чрез то не сделать невозможным восстановление государства.
– Ты правду говоришь, – сказал я, – это значит, что первым делом почитаешь ты приготовить им то, чтобы они не подвергались опасностям?
– Отнюдь нет.
– Что ж? Если надобно им подвергаться опасностям, то не тем ли, от которых они сделаются лучшими в своих подвигах?
– Явно.
– Разве, думаешь, мало разницы, смотрят ли дети или нет, что бывает на войне, и разве это не стоит опасности для них, имеющих быть мужами воинственными?
– Нет, в отношении к тому, о чем ты говоришь, это – разница.
– Итак, надобно стараться делать детей зрителями войны, а вместе с тем промышлять им безопасность – и выйдет хорошо. Не правда ли?
– Да.
– Для этого отцы их, – продолжал я, – сколько то возможно людям, будут не невеждами, а знатоками того, какие походы опасны, какие нет.
– Вероятно, – сказал он.
– И в одних позволят им участвовать, а в других – поостерегутся.
– Правильно.
– Да и правителей-то, – примолвил я, – поставят над ними не худых, но, и по опытности и по возрасту, способных быть руководителями и наставниками.
– И следует.
– Впрочем, и то сказать, – многое и со многими таки бывает против чаяния.
– И очень.
– Так для этого, друг мой, детей должно тотчас же окрылять, чтобы, когда понадобится, они быстро улетали.
– Что ты разумеешь? – спросил он.
– Надобно с самого детства сажать их на коней, – отвечал я, – и, когда они научатся ездить, возить их на зрелище на конях – не горячих и не бранных, а на самых быстрых и послушных узде; ибо таким образом они весьма хорошо будут смотреть на свое дело и, если понадобится, следуя за старейшими вождями, спасутся с совершенною безопасностью.
– Мне кажется, правильно говоришь ты, – сказал он.
– Но что сказать о войне-то? – спросил я. – Как, по-твоему, должны вести себя воины относительно друг к другу и к врагам? Правильно ли представляется мне это или нет?
– Скажи, каково твое представление, – отвечал он.
– Кто из них оставит строй или бросит оружие по трусости, – начал я, – того не сделать ли мастеровым либо земледельцем?
– Без сомнения.
– Кто среди неприятелей взят живым, того не подарить ли желающим пользоваться этою добычею, как им заблагорассудится?
– Вполне справедливо.
– А кто отличился и прославился, тот, – как ты думаешь? – не должен ли быть увенчан, сперва на походе, каждым из мальчиков и детей, по силам разделявших с ним подвиги воинские? Или нет?
– Мне кажется, должен.
– Что же? Они подадут ему правую руку?
– И это кажется.
– Но вот что тебе, думаю, уже не кажется, – примолвил я.
– Что такое?
– Чтобы он целовал всех, и его целовал каждый.
– Всего более, – сказал он. – Даже к этому закону прибавляю следующее: во все время, пока они будут находиться в этом походе, никто не должен отказываться, кого бы он ни захотел поцеловать; так что, если бы даже случилось ему и полюбить кого-нибудь, будет ли то лицо мужеского или женского пола, всякий обязан с готовностью поднести ему пальму победы.
– Хорошо, – заметил я, – ведь и было уже сказано, что для доброго должно быть готово большее число браков, чем для других, и что таких надобно избирать чаще, нежели прочих, чтобы от такого рождалось сколько можно более детей.
– Да, мы говорили это, – сказал он.
– Впрочем, и по Омиру[304]304
Нот. II. VII, 231.
[Закрыть] всех юношей, которые добры, справедливо украшать такими наградами; ведь и Омир говорит, что прославившийся на войне Аякс νώτεσιν διηνεκέεσσι γεραίρεσθαι, так как эта честь идет к человеку юному и мужественному, который, получая ее, вместе и возвышает свою силу.
– Весьма правильно, – сказал он.
– Итак, в этом-то послушаемся Омира, – примолвил я, – добрых, поколику они являются добрыми, почтим и жертвами, и всем этим, и гимнами, и тем, о чем сейчас говорили, – почтим сверх того и почетными седалищами, и мясами, и полными чашами, чтобы, вместе с почестью, и упражнять добрых – как мужчин, так и женщин.
– Прекрасно говоришь ты, – сказал он.
– Пускай. Но умерший-то в походе, кто умер со славою? Не скажем ли, что он первый должен быть причислен к золотому племени?
– О, всего более.
– Или мы не поверим Исиоду, что как скоро некоторые из этого племени умирают, – тотчас:
– Конечно, поверим.
– Так вопросив Бога, как должно погребать людей, причисляемых к духам и богам, и с какими преимуществами, не будем ли мы погребать их так и тем образом, каким он прикажет?
– Почему не будем?
– Да и в последующее время не будем ли чествовать их, как духов, и поклоняться их гробам? Не узаконим ли того же самого и в отношении к тем, которые скончались от старости или иным образом и оставили память о себе как о людях, в жизни бывших отлично добрыми?
– Действительно справедливо, – сказал он.
– Что же? Как будут поступать у нас воины с неприятелями?
– В каком отношении?
– Во-первых, в отношении к порабощению: справедливым ли кажется тебе, чтобы эллины порабощали города эллинские, или пусть они, по возможности, не внушают этого и другим, и привыкают щадить эллинское племя, опасаясь рабства со стороны варваров?
– Всем и каждому полезно щадить, – сказал он.
– Следовательно, эллинов и сами они не должны иметь рабами, и другим эллинам то же советовать?
– Без сомнения, – сказал он, – это заставит их, конечно, более направляться против варваров и воздерживаться друг от друга.
– Что же еще? Хорошо ли будет, одержав победу, брать у убитых что другое, кроме оружия, или это трусам послужит предлогом – не подходить к сражающемуся, но, как бы совершая что должное, обыскивать умершего, от какового хищения погибли уже многие войска?
– И очень.
– Не кажется ли тебе низостью и любостяжательностью обдирать мертвого, и не женоподобию ли и малодушию свойственно почитать враждебным тело убитого, когда неприятель ушел и бросил то, чем сражался? Думаешь ли, что делающие это отличаются от собак, которые злятся на брошенные камни, не трогая того, кто бросает их?
– Нет ни малейшего различия, – сказал он.
– Следовательно, обдирание мертвых и препятствование уносить их надобно оставить?
– Конечно, оставить, клянусь Зевсом, – сказал он.
– И оружия также не понесем мы в храмы, в качестве посвящений, особенно же оружия эллинского, если сколько-нибудь заботимся о расположении к себе эллинов: напротив, скорее будем бояться, чтобы внесение в храм таких вещей, взятых нами у ближних, не было каким-нибудь осквернением, если только не повелит иначе Бог.
– Весьма правильно, – сказал он.
– Что же теперь – об опустошении эллинской земли и сожжении домов? Как в этом отношении воины у тебя будут поступать с неприятелями?
– Об этом я с удовольствием выслушал бы твое мнение, – сказал он.
– Мне-то кажется, – продолжал я, – что не надобно делать ничего такого, но должно отнять годовой плод; а для чего это, – хочешь ли, скажу?
– Конечно.
– Мне представляется, что по различию этих двух имен – «война в возмущение», есть также и два предмета, соответствующих сим двум раздорам. Под двумя предметами я разумею – с одной стороны, домашнее и родственное, с другой – чужое и иностранное. Вражда между домашними названа возмущением, а между чужими – войною.
– И в твоих словах все-таки нет ничего необыкновенного, – сказал он.
– А это-то, смотри-ка, будет ли обыкновенное. Я говорю, что племя эллинское само себе есть домашнее и родственное, а племени варварскому – иностранное и чужое.
– Ну хорошо, – сказал он.
– Следовательно, когда эллины сражаются с варварами и варвары с эллинами, – мы назовем их воюющими и врагами по природе, и такую вражду надобно именовать войною; а когда эллины что-нибудь подобное делают с эллинами, мы скажем, что по природе-то они друзья, только Эллада в этом случае больна и возмущается, и такую вражду надобно называть возмущением.
– Я-то принимаю эти названия, – сказал он.
– Представь же, – продолжал я, – что при определенном теперь возмущении, когда бы происходило нечто подобное и город волновался, – одни опустошают поля и жгут дома других: как гибельным кажется такое возмущение, и как мало любви к отечеству показывают здесь обе стороны! Иначе ведь не дерзнули бы они таким образом брить свою кормилицу и мать. Конечно, умереннее будет победителям отнять плоды у побежденных, – в той мысли, что эта вражда прекратится и что не всегда будут они воевать.
– Да, последнее мнение гораздо мягче первого, – сказал он.
– Что же теперь? – спросил я. – Устрояемое тобою государство не будет ли эллинским?
– Должно быть таким, – отвечал он.
– И граждане его не будут ли добрыми и кроткими?
– О, чрезвычайно.
– И не будут ли они любить Элладу, считать ее своею и участвовать, как и все прочие, в священных ее обрядах?
– Даже до чрезвычайности.
– Посему раздор с эллинами, как домашними, почитая возмущением, назовут ли его войною?
– Конечно, нет.
– Следовательно, будут ссориться с ними в той мысли, что ссора их прекратится?
– Без сомнения.
– Стало быть, будут вразумлять их благосклонно, наказывая не рабством и не гибелью и стараясь быть вразумителями их, а не врагами.
– Так, – сказал он.
– Значит, эллины, будучи эллинами, не станут разорять Эллады, жечь домов и в каждом городе представлять своими врагами всех жителей – и мужчин, и женщин, и детей, но всегда будут видеть врагов в немногих виновниках ссоры; а по всему этому, не захотят разорять землю тех, из которых многие им друзья, и разрушить дома, но только до тех пор станут поддерживать раздор, пока невинно страдающие граждане не заставят виновных понести наказание.
– Я согласен, – сказал он, – что действительно в таком отношении надобно быть к враждебным нашим гражданам; а отношение к варварам пусть будет таково, какое ныне между эллинами.
– Итак, постановим ли этот закон: стражам и не разорять земли, и не жечь домов?
– Постановим, – сказал он, – и заключим, что как это, так и прежнее хорошо.
Но, мне кажется, Сократ, – позволь только тебе об этом говорить, – ты никогда не вспомнишь о том, что пропустил, желая высказать все последнее, то есть: возможно ли такое государство и каким образом оно возможно? Ведь если бы в самом деле было так, – городу, в котором это было бы, все удавалось бы хорошо и – скажу даже то, что ты пропустил, – граждане его превосходно сражались бы с врагами; потому что, зная и называя себя такими именами – братьями, отцами, сыновьями, они никак не оставляли бы друг друга. А если бы еще в войске находились и женщины, и были расположены либо в самом строе, либо позади, чтобы наводить на врагов страх, или, при нужде, подать против них помощь, – знаю, что по всему этому они были бы непреодолимы; да вижу и то, что и дома-то у них, что ни оставляется и сколько бы чего ни оставалось, все хорошо. Но если я соглашаюсь, что все это, да и другое бесчисленное действительно было бы тогда, было бы и такое государство; но ты больше и не говори о нем; теперь постараемся уверить самих себя только в том, что оно возможно и каким образом возможно, а с прочим раскланяемся.
– Ты вдруг-таки, будто сделал набег на мою речь и не даешь мне увернуться, – сказал я. – Может быть, не знаешь, что едва начал я избегать двух волн[306]306
Указывается на стр. 441 С, 463 D и 457 В.
[Закрыть], ты наводишь на меня теперь величайшее и опаснейшее триволние[307]307
Триволние, – τὴν τρικυμίαν, римляне называли fluctum decumanum; потому что у греков самым большим поднятием волны почиталось третье, а у римлян десятое. Об этом, кроме Аста, много говорит Блюмфильд, GIoss. ad Aeschyl. Prom. v. 1051. У нас, как известно, страшнее всех девятый вал.
[Закрыть], которое если увидишь и услышишь, конечно, простишь мне, что я не без причины медлил и боялся говорить такую странную речь, не решался на подобное исследование.
– Чем больше будешь толковать об этом, – возразил он, – тем менее мы позволим тебе не говорить, каким образом возможно то государство. Так говори-ка, не теряй времени.
– Не нужно ли вам, – начал я, – сперва припомнить то, что мы припасли к этому вопросу, исследуя, какова справедливость и несправедливость?
– Нужно; но что же это такое? – спросил Главкон.
– Ничего. Если, однако ж, мы нашли, какова справедливость, то не согласимся ли, что и человек справедливый ничем не должен отличаться от ней, но должен во всем быть таким, какова справедливость? Или для нас будет довольно и того, если он весьма близко подойдет к ней и более других отпечатлеет в себе черты ее?
– Конечно, – сказал он, – мы удовлетворимся и этим.
– Стало быть, исследуя, какова справедливость, можно ли сделаться человеком совершенно справедливым и каким был бы он, сделавшись, – тоже опять о несправедливости и несправедливом, – мы исследовали это самое для образца, – примолвил я, – чтобы, смотря на то, какими они представляются нам в отношении к счастью и противному счастливой жизни, быть принужденными заключать и о самих себе, что это из вас особенно походил бы на них, тот имел бы и особенно подобную им участь, – а не для того, чтобы доказать возможность этого.
– Правду говоришь ты, – сказал он.
– Думаешь ли, что хороший живописец был бы менее хорош, если бы, написав образец того, каков был бы самый красивый человек, и в своей картине достаточно выразив все это, не мог доказать, что такой человек возможен?
– Не думаю, клянусь Зевсом, – сказал он.
– Что же? И мы своим рассуждением не составляли ли, скажем, образец хорошего государства?
– Конечно.
– Так менее ли хорошо поэтому, думаешь, говорили мы, если не в состоянии доказать, что такое государство, о каком было говорено, устроить можно?
– Отнюдь нет, – сказал он.
– Следовательно, истинное-то в этом. Но если уже, в угодность тебе, и надобно постараться доказать, каким образом и до какой степени возможно государство описанное, то для такого доказательства ты опять допусти мне то же самое.
– Что именно?
– Можно ли сделать что-нибудь так, как говорится, – или дело, по природе, менее касается истины, чем слово?[308]308
Платон хочет выразить ту мысль, что слово иногда бывает не выражением обыкновенного понятия, которое может быть осуществлено самым делом, а истолкованием идеи, которая, по своей природе, выше дела и которая, если и осуществляется, то лишь легкими оттенками и подобиями. Итак, кто имел столько силы, что высказал идею словом, тот уже возвысился над делом и этим самым доказывает возможность его, потому что этим самым начертал образец, по которому идея должна быть, по крайней мере, приблизительно переводима в дело.
[Закрыть] Пусть это иному и не кажется; но ты соглашаешься или нет?
– Соглашаюсь, – сказал он.
– Так не принуждай же меня доказывать, что изложенное нами словесно непременно явится осуществимым и на деле. Но когда мы в состоянии были найти, как могло бы устроиться государство приблизительно к словесному изложению, – согласись, что мы нашли, каким образом возможно то, что приказываешь. Или ты не удовлетворяешься таким осуществлением? А я удовлетворился бы.
– Да и я, – сказал он.
– После сего, как видно, мы постараемся исследовать и показать именно это: что ныне в городах делается худо, отчего они не так устрояются и при какой самомалейшей перемене известный город мог бы дойти до этого способа управления, – при перемене особенно одного, если же нет, то – двух, а если опять нет, то самого немногого по числу и малейшего по силе.
– Без сомнения, – сказал он.
– Итак, переменись одно, – продолжал я, – мне кажется, можно доказать, что город примет другой вид, – и это одно действительно не мало-таки и не легко, хотя возможно.
– Что же оно? – спросил Главкон.
– Я иду к тому, – был мой ответ, – что уподобили мы величайшей волне. Это будет высказано, хотя, точно как волна, разольется смехом и поглотит нас бесславием. Смотри, что начну я говорить.
– Говори, – сказал он.
– Пока в городах, – продолжал я, – не будут или философы царствовать, или нынешние цари и властители – искренно и удовлетворительно философствовать[309]309
Об этом парадоксе толковали многие древние писатели. Чит. Morgenstern. Commentatt. de Rep. Plat. p. 203–213. Под именем философов Платон разумел, конечно, не тех мудрецов-теоретиков, которые живут в мире отвлеченных понятий и, хорошо зная область идей, нисколько не знают человеческой природы, как в родовом ее значении, так и в многоразличных ограничениях, коими характеризуется она по временам, местам и другим условиям ее развития. Правитель-философ, по разумению Платона, был бы тот, кто все государственное целое устроил бы как одно, и притом однородное целое, держащееся на одном, непоколебимом основании, огражденное одним, гармонически развитым кодексом законов, так чтобы государственные скрижали внутреннею своею стороною были в неразрывной связи с основными началами общества, а внешнею – с местными, временными и племенными его особенностями, – кто нить всего этого сгармонированного целого держа в единстве своего сознания, чувствовал бы каждый происшедший в какой-нибудь его части диссонанс, как паук чувствует и самое легкое прикосновение инородного тела к какому-нибудь протянутому им волокну, и обладая силою мудрости, все разногласящее приводил бы к согласию. В этом должна состоять правительственная философия или философское управление государством.
[Закрыть], пока государственная сила и философия не совпадут в одно, и многие природы, направляющиеся ныне отдельно к той и другой, будут взаимно исключаться; дотоле ни города, ни даже, думаю, человеческий род не жди конца злу, любезный Главкон, – и описанное в наших рассуждениях государство прежде этого не родится, как могло бы, и не увидит солнечного света. Вот именно то, чем я давно удерживаюсь в слове, видя, что многое придется говорить против господствующего мнения: ведь трудно поверить, что и частное, и общественное благополучие не иначе возможно.
– Да, Сократ, – сказал он, – выпустив из уст эту выраженную словом мысль, ты можешь быть уверен, что весьма многие и немаловажные ныне люди сбросят с себя верхнюю одежду и, обнаженные[310]310
Обнаженные, γυμνοί, называются те, которые, для большего удобства, при совершении какого-нибудь дела, снимают с себя верхнюю одежду, или плащи – τὰ ἱματια. См. Cuper. Observatt. I, с. 7, р. 39.
[Закрыть], схватив, какое кому попадется, оружие, быстро устремятся на тебя – в той мысли, что совершат дивное дело. И если ты не победишь их словом и убежишь, то в самом деле будешь поруган и подвергнешься наказанию.
– А не ты ли у меня виновник этого? – примолвил я.
– Да и хорошо сделано, – сказал он. – Впрочем, я не выдам тебя, но защищу чем могу, – а могу благорасположенностью и увещанием или, может быть, и тем, что буду ревностнее отвечать на твои вопросы. Так имея такого помощника, постарайся доказать неверующим, что дело таково, как ты говоришь.
– Надобно постараться, – сказал я, – когда и ты предлагаешь мне столь великую помощь. Для этого, намереваясь как-нибудь избавиться от тех, о ком ты говоришь, мне кажется, необходимо определить им тех философов, которым мы дерзаем усвоять право начальствования, чтобы, по объяснении этого, можно было защититься, показывая, что одним по самой природе надлежит браться за философию и начальствовать в обществе, а другим и не браться за нее, но следовать правителю.
– Время бы определить это, – сказал он.
– Хорошо же; иди за мною сюда; не объясним ли мы этого сколько-нибудь удовлетворительно.
– Веди, – сказал он.
– Не нужно ли будет напомнить тебе, – спросил я, – или помнишь, что тот, кого мы называем любящим что-нибудь, – чтобы правильно называться ему любящим, не должен одно в том любить, а другое – нет, но обязан любить все?
– Надобно напомнить, как видно, – сказал он, – потому что не очень понимаю это.
– Иному прилично было бы говорить, что ты говоришь, Главкон, – примолвил я, – а человеку любящему неприлично забывать, что любителя детства и служителя Эросова некоторым образом кусают и возбуждают все цветущие красотою, поколику кажутся достойными его заботливости и ласки. Разве не так поступаете вы с красавцами? Одного хвалите, находя его приятно плосконосым, у другого орлиный нос называете царским, а средний между тем и другим величаете правильным; темные, на ваш взгляд, мужественны, а белокурые – дети богов; медокожие же…[311]311
Медокожие, или имеющие цвет меда, – μεςίχςωροι, у Стефана μεςἰχροιο. Однако ж первое чтение удерживается не только схолиастом, но и многими списками. Сократ в этом слове видит выражение лести: вместо того чтобы назвать кого-нибудь желтокожим, называли медокожим, как и у нас красные волосы называют золотистыми.
[Закрыть] Да и самое это имя изобретено, думаешь, иным кем, а не любителем, когда желтоватость кожи в красавце он хотел назвать льстивым и сладким словцом? Коротко сказать: вы пользуетесь всеми предлогами и употребляете все выражения, чтобы не отвергнуть ни одного лица, цветущего красотою.
– Если, говоря о поклонниках Эроса, тебе угодно указывать на меня, – сказал он, – то я, ради настоящего рассуждения, уступаю.
– Что же? – продолжал я. – Не то ли самое, как видишь, делают и любители вина, одобряя всякое вино под всякими предлогами?
– И очень.
– Да и честолюбивые, думаю, – не видишь ли? Когда не могут командовать всею армией, командуют третьею ее частью[312]312
Схолиаст говорит: в Афинах было десять фил: каждая из них разделялась на три части; а каждая третья часть, ἡ τριττύα, – на артели (εἱς ἵθνη), или фратрии. Вожди каждой третьей части назывались τριττύαρχοι.
[Закрыть], и если не замечают уважения от высших и почетнейших, то довольствуются уважением от низших и худших, поколику вообще охотники до почестей.
– Совершенно справедливо.
– Утверди же или отринь вот что: кому мы приписываем желание чего-нибудь, тот всего ли этого рода, скажем, желает, или одного в нем желает, другого нет?
– Всего, – сказал он.
– Не припишем ли и философу желание мудрости – не этой или той, а всей?
– Правда.
– Следовательно, отвращающегося от наук, особенно человека молодого и еще не имеющего понятия о том, что полезно, что нет, не назовем ни любознательным, ни философом, равно как отвращающегося от пищи – ни алчущим, ни желающим есть, а потому – не пищелюбцем, а пищененавидцем?
– И правильно не назовем.
– Напротив, кто готов наслаждаться всяким знанием, кто с удовольствием идет учиться и бывает ненасытен в этом отношении, того по праву признаем философом. Не так ли?
– Но между такими найдется у тебя много и бестолковых, – возразил Главкон, – ведь такими кажутся мне и все охотники смотреть, поколику они с радостью стремятся к познаниям. Да и некоторые охотники слушать слишком бестолковы, чтобы причислять их к философам; так как по своей воле они не захотели бы принять участие в рассуждениях и проводить время в подобных занятиях; а между тем, будто внаем отдав свои уши, чтобы выслушивать все хоры, бегают по Дионисовым праздникам[313]313
В Афинах и в провинциях Афинской республики совершалось множество Дионисовых праздников, или так называемых вакханалий. Scholiastes: Διονύσια ἑορτὴ Αθῆνῃσι Διονύσῳ ἤγετο, τὰ μὲν κατ’ ἀγροὺς μηνὸς Ποσειδεῶνος, τὰ δὲ Ληναῖα μηνὸς Μεμακτηριῶνος, τὰ δὲ ἐν ἄστει ἘςαφηΒοςιῶνος. Ο всех этих праздниках см. Boeckh. Comment. de Lenaeis in d. Abhandlungen der Akad. d. Wissensch., in Berlin a. 1817, et Buttmann. Excurs. 1. ad Demosth. Midian. p. 118.
[Закрыть] и не пропускают ни городских, ни деревенских. Так неужели всем этим и другим любителям таких вещей, гоняющимся за низкими штукарями, дадим мы имя философов?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?