Текст книги "4321"
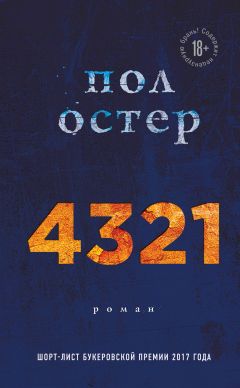
Автор книги: Пол Остер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 66 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Единственным, кто из всей родни разделял его восторги, всего один взрослый, кому хватало тонкости распознать гениальность в его любимых имбецилах, был его дед, непостижимый Бенджи Адлер, кто для Фергусона всегда оставался чем-то вроде загадки: человек этот, казалось, наделен двумя или тремя разными личностями, порой – бурливый и щедрый, в иные дни – замкнутый и рассеянный, временами нервный, даже дерганный и раздражительный, по временам спокойный и экспансивный, поочередно тепло внимательный к внуку и чуть ли не безразличный к нему, но в хорошие дни, когда ему случалось быть в приподнятом настроении и анекдоты из него так и сыпались, он был великолепным компаньоном, сообщником в том, что Фергусон считал Дурской войной (так искаженно переродилась у него недослышанная и недопонятая Бурская война), которую он принимал за военное наступление на дурость жизни. В конце ноября дядя Пол отправил мать Фергусона аж в Нью-Мексико, снимать Миллисенту Каннингем, восьмидесятиоднолетнюю поэтессу, которая выпускала в «Рэндом-Хаусе» собрание своей публицистики, и Фергусон обосновался в квартире своих деда с бабушкой возле Колумбус-Сёркл. В Стране Лорела и Гарди он жил уже больше месяца, полностью обосновался там со своей в них влюбленностью и теперь едва ли не скорбел, когда наступали выходные, ибо по субботам и воскресеньям программа эта в эфир не выходила, но первый же вечер, какой ему суждено было провести на Западной Пятьдесят восьмой улице, выпал на понедельник, что подарило ему пять дней без всякого перерыва с мистером Толстым и мистером Тощим, и когда дед его под конец первого дня вернулся домой с работы пораньше, пояснив, что в конторе медленный день, он плюхнулся рядом с Фергусоном на диван тоже смотреть программу, которая, судя по всему, на его шестидесятидвухлетний рассудок воздействовала так же, как и на восьмилетний Фергусона, и уже совсем немного погодя он весь содрогался от хохота, в какой-то миг – до того чрезмерно, что закашлялся, и лицо у него побагровело, и до того полным был восторг его, что дед на той неделе каждый день возвращался домой пораньше, чтобы посмотреть вместе с внуком кино.
Затем случился сюрприз, воскресный визит в начале декабря, когда прародители Фергусона вошли в квартиру на Западной Центрального парка, нагруженные пакетами, некоторые – до того тяжелые, что Артуру, домоуправу, пришлось вкатывать их на ручной тележке, чем он заработал у Фергусонова деда пять долларов на чай (пять долларов!), а еще там была чрезвычайно длинная картонная коробка, которую прародители его внесли вдвоем, каждый держал свой конец обеими руками, и такой длины была эта коробка, что чуть-чуть – и не поместилась бы в квартиру, и когда он увидел, как его бабушка улыбается (а она улыбалась так редко), и услышал, как дед его смеется, и ощутил, как на правое плечо ему опустилась рука матери, он понял, что сейчас произойдет нечто необычайное, но понятия не имел, что это будет, пока все пакеты не развернули и он не обнаружил, что теперь владеет шестнадцатимиллиметровым кинопроектором, скатывающимся в рулон киноэкраном на складном штативе и копиями десяти короткометражек Лорела и Гарди: «Завершающий штрих», «Два матроса», «Опять неправ», «Крупное дело», «Идеальный день», «Вдрабадан», «Ниже нуля», «Еще одна неразбериха», «Помощники» и «На буксире в яму».
Подумаешь, что проектор купили уже пользованный – он же работал. Подумаешь, что копии были исцарапанными, а звук порой, казалось, доносился как со дна ванны – эти фильмы можно было смотреть. И с фильмами этими у него появился целый новый набор слов, какими следовало овладеть: обтюратор, к примеру, думать про который оказалось гораздо лучше, чем о слове обугленный.
По выходным, если мать его не уезжала из города на задание, а погода была не слишком холодная, не слишком мокрая или не слишком ветреная, почти каждое субботнее утро и день они тратили на блуждания по улицам в поисках хорошего снимка, Фергусон трусил рядом с матерью, а та шагала по тротуарам Манхаттана или вверх по ступеням муниципальных зданий, или залезала на валуны, или пересекала мосты в Центральном парке, а потом, по причине, никогда для него не очевидной, вдруг останавливалась, направляла на что-нибудь фотоаппарат, спускала затвор и – щелк, щелк-щелк, щелк-щелк-щелк, действие, не самое захватывающее на свете, быть может, но и в нем заключалась часть наслаждения тем, что он с матерью, что она вся – снова его, да и как не наслаждаться обедами, которые они вместе съедали в кофейнях вдоль Бродвея и на Шестой авеню в Виллидж, где десять раз из десяти он заказывал себе гамбургер и шоколадный молочный коктейль, всегда одно и то же посреди тех субботних экскурсий, гамбургер, пожалуйста, да, гамбургер, пожалуйста, будто это входило в священный ритуал, что означало: этому никогда нельзя меняться, никак, вплоть до мельчайшей детали, а потом наставали субботние вечера и/или воскресные дни, когда они вместе ходили в кино, усаживались на балконе, где мать могла курить свои «Честерфильды», на кинокартины, что никогда не бывали фильмами Лорела и Гарди, а только новые голливудские постановки, вроде «Всегда хорошая погода», «Высокие мужчины», «Пикник», «Парни и куколки», «Художники и натурщицы», «Придворный шут», «Вторжение похитителей тел», «Искатели», «Запретная планета», «Человек в сером фланелевом костюме», «Наша мисс Брукс», «Разъезд Бховани», «Трапеция», «Моби-Дик», «“Кадиллак” из чистого золота», «Десять заповедей», «Вокруг света за восемьдесят дней», «Забавная мордашка», «Невероятный уменьшающийся человек», «Удар страха» и «12 разгневанных мужчин», хорошие и плохие фильмы 1955, 1956 и 1957 годов, что пронесли их через весь его срок в Гиллиарде и в первый год в следующей школе, куда он ходил, – в Риверсайдской академии на Вест-Энд-авеню между Восемьдесят четвертой и Восемьдесят пятой улицами, заведение с совместным обучением и так называемыми прогрессивными тенденциями, основанное двадцатью девятью годами ранее, ровно через сто лет после учреждения Гиллиарда.
Никаких больше блейзеров с галстуками, никакой утренней часовни, никаких поездок автобусом через Центральный парк, больше не нужно проводить целые дни взаперти в здании без девчонок – все это было, спору нет, лучше, но главную разницу между третьим и четвертым классами составлял не столько прыжок в другую школу, сколько окончание дуэли Фергусона с Богом. Бог был побежден – разоблачен как бессильное ничтожество, более не способное наказывать или внушать страх, а раз теперь небесный надсмотрщик из кадра удалился, Фергусон мог и прекратить свою старую игру «Намеренный провал», или, как он стал иногда называть ее впоследствии, «Онтологический трусишка». Он так преуспел в неудачах, что устал от своего дара уловок и самобичевания. Никто в Гиллиарде ни разу не заподозрил его ни в чем, он одурачил всех, не только учителей и одноклассников, но и мать свою, и тетю Мильдред, ни та ни другая так и не вычислили, что он все это делал намеренно, что его бешено непредсказуемая успеваемость в третьем классе была всего лишь притворным, хитроумно разработанным предприятием, чтобы доказать: если за ним не приглядывает никакая божественная сила, что бы он ни делал, это не имело значения. Он выиграл спор с самим собой тем, что его выгнали из Гиллиарда – не исключили, вообще-то, поскольку ему разрешили доучиться до конца года, но Фергусон встал им поперек горла настолько, что видеть его там больше не захотели. Директор сказал его матери, что Арчи – самая обескураживающая загадка, с какой он сталкивался за все свои годы работы в школе. Одновременно он и лучший, и худший ученик в классе, сказал он, временами блистателен, а иной раз совершенный остолоп, и они уже не знают, что с ним делать. Перед ними латентный шизофреник, спросил он, или же Арчи – просто еще один потерянный мальчик, который со временем обретет себя? Поскольку мать Фергусона знала, что сын ее – не остолоп и не будущий умалишенный, она поблагодарила директора за уделенное время и взялась подыскивать другую школу.
Первый табель Риверсайдской академии он получил в пятницу, в середине ноября. После целого года «плохо» и «неудов» от Гиллиарда мать ожидала от новой школы результатов получше, но ничего и близко не похожего на семь «отлично» и два «оч. хор.», которые Фергусон в тот день принес домой. Ошеломленная размахом преображения, она вошла в гостиную в половине шестого, как раз когда заканчивалось «Шоу Лорела и Гарди», и села рядом с сыном на пол.
Ты хорошо потрудился, Арчи, сказала она, держа конверт с оценками в правой руке и постукивая по нему левой. Я тобой очень горжусь.
Спасибо, ма, ответил Фергусон.
Должно быть, новая школа тебе нравится.
Ничего так. С учетом всего.
Это что значит?
Школа есть школа, а это значит, что нравиться в ней нечему. Туда ходишь, потому что надо.
Но некоторые школы лучше других, разве нет?
Наверное.
Например, Риверсайд лучше Гиллиарда.
В Гиллиарде было неплохо. Для школы, в смысле.
Но тебе же лучше не ездить каждый день в такую даль, а? И форму носить не нужно. И там мальчики и девочки учатся вместе, а не только мальчики. Такая жизнь немного лучше, правда?
Гораздо лучше. Но сама школа не слишком-то и отличается. Чтение, письмо, арифметика, обществоведение, физкультура, рисование, музыка и науки. В Риверсайде я делаю то же самое, что и в Гиллиарде.
А учителя?
Примерно такие же.
Я думала, в Риверсайде они не такие строгие.
Да нет вообще-то. Мисс Донн, музыкантша, иногда на нас орет. А вот мистер Боулс, учитель музыки в Гиллиарде, на нас никогда голос не повышал. Это был у меня вообще лучший учитель и самый приятный.
Но у тебя в Риверсайде больше друзей. Томми Снайдер, Питер Баскин, Майк Гольдман и Алан Льюис – все такие прекрасные мальчики, и еще эта милашка Изабелла Крафт, и ее двоюродная сестра Алиса Абрамс, прекрасные дети, настоящие победители. Всего за два месяца ты себе завел столько друзей, сколько у тебя было в Нью-Джерси.
С ними весело. С какими-то другими детьми – не очень. Билли Натансон – самая гадкая жаба, что мне только попадалась, гораздо хуже кого бы то ни было в Гиллиарде.
Но в Гиллиарде у тебя же вообще не было друзей, Арчи. Только этот славный Дуг Гейс, наверное, а больше я никого и припомнить не могу.
Это я сам был виноват. Я не хотел себе там никаких друзей.
Вот как? И почему это?
Трудно объяснить. Просто не хотел, и все.
В одной школе – без друзей и плохие оценки. В другой – много друзей и хорошие оценки. У этого должна быть какая-то причина. Ты можешь мне сказать какая?
Да.
Ну?
Я не могу тебе сказать.
Не глупи, Арчи.
Ты разозлишься, если скажу.
Чего ради мне на тебя злиться? Гиллиард уже в прошлом. Теперь никакой разницы.
Может, и нет. Но ты на меня все равно разозлишься.
А если я тебе дам слово не злиться?
Ничего хорошего не получится.
Фергусон уже не отрывал взгляда от пола, делая вид, будто рассматривает выбившуюся из ковра нитку, чтобы только не встречаться с матерью глазами, поскольку он знал, что ему настанет конец, если он теперь в них заглянет, глаза ее всегда были для него слишком сильными, они были заряжены такой мощью, что мать могла расшифровать его мысли и вытащить из него признания и повергнуть его ничтожную волю, пусть он и сопротивлялся, и вот теперь, ужасно и неизбежно, она протягивала руку и дотрагивалась кончиками пальцев до его подбородка, мягко вынуждая его поднять голову и снова посмотреть ей в глаза, и в тот миг, когда он ощутил, как ее рука соприкоснулась с его кожей, Фергусон понял, что все пропало, надежды больше нет, в глазах у него собирались слезы – первые слезы, возникшие там впервые за много месяцев, и до чего унизительно было ощущать, как вновь, без предупреждения, поворачивается незримый кран, ничем не лучше глупого плаксы Стана, сказал он себе, девятилетняя детка с прохудившимися трубами в мозгу, и к тому времени, когда он нашел в себе мужество впереть взор свой в материны глаза, два водопада уже текли по его щекам, а губы его шевелились, с них кубарем скатывались слова, рассказывалась история Гиллиарда, борьба с Богом и причина плохих отметок, смолкший голос и убийство его отца, нарушение правил только ради того, чтобы его наказали, а затем – ненависть к Богу за то, что не наказал, ненависть к Богу за то, что тот не Бог, и у Фергусона не было ни малейшего понятия, пронимала ли мать, о чем он ей толкует, в глазах у нее читались мука и смятение, она чуть не плакала, а после того, как он говорил две, три или четыре минуты, она склонилась к нему, обняла и велела прекратить. Хватит, Арчи, сказала она, отпусти все это, а затем они оба плакали вместе, марафон всхлипов, длившийся почти десять минут, и то был последний раз, когда они разнюнились в присутствии друг дружки, почти ровно через два года после того, как тело Станли Фергусона предали земле, и как только плач их медленно подошел к концу, они оба умылись, надели пальто и пошли в кино, где на балконе, вместо того чтобы нормально поужинать, до отвала наелись хот-догов, а потом слопали и большую коробку воздушной кукурузы, которую запивали выдохшимися, водянистыми «колами». Фильм, который они смотрели в тот вечер, назывался «Человек, который слишком много знал».
Прошли годы. Фергусону исполнилось десять, одиннадцать и двенадцать, ему было тринадцать и четырнадцать, и среди семейных событий, произошедших за эти пять лет, самым важным, несомненно, оказалось то, что мать его вышла замуж за человека по имени Гильберт Шнейдерман, это случилось, когда Фергусону было двенадцать с половиной. За год до того клан Адлеров пережил первый развод, необъяснимый разрыв между тетей Мильдред и дядей Полом – парой, которая всегда казалась такой правильной друг для дружки, два болтливых книжных червя, женатых девять лет без каких-либо явных конфликтов или измен, а тут оно вдруг все взяло и закончилось, тетя Мильдред переезжала в Калифорнию работать на факультете английского в Станфорде, а дядя Пол перестал быть для Фергусона дядей Полом. Затем сгинул его дедушка – сердечный приступ в 1960-м, – а вскоре после ушла и бабушка – инсульт в 1961-м, и не прошло и нескольких месяцев после этих вторых похорон, как двоюродной бабушке Перл поставили диагноз: неизлечимый рак. Адлеров становилось меньше. Они начали походить на одну из тех семей, где никто не доживает до глубокой старости.
Шнейдерман был первенцем бывшего материна начальника, человека с немецким акцентом, кто учил ее фотографировать в первые дни войны, и поскольку Фергусон понимал, что мать его в какой-то момент неизбежно выйдет замуж вторично, он не возражал против ее выбора, который счел лучшим из нескольких, ей представившихся. Шнейдерману было сорок пять, на восемь лет старше матери Фергусона, и дорожки этих двоих впервые пересеклись тем утром, когда она вышла на работу в ателье его отца в ноябре 1941 года, это несколько утешало Фергусона знанием, что мать познакомилась с его отчимом еще до того, как встретила его отца, в 1941-м против 1943-го – даты, которая прежде отмечала начало его собственного мира, а вот теперь мир этот сделался еще старше, и обнадеживало, что между ними двумя уже накопилось какое-то прошлое, что она не бросается в новый брак очертя голову, а это всегда пугало Фергусона больше всего: наблюдать, как его мать охмуряет какой-нибудь сладкоречивый паяц, а потом она утром просыпается и понимает, что совершила ошибку всей свой жизни. Нет, Шнейдерман казался человеком солидным, такому можно было доверять. Семнадцать лет был женат на одной женщине, отец двоих детей, а потом вдруг – звонок от дорожного полицейского, вызвавший его в морг округа Датчесс опознавать женский труп, труп его жены, погибшей в дорожном происшествии, следом – четыре года в одиночестве, почти столько же, сколько провела в одиночку мать Фергусона после смерти его отца. В сентябре 1959-го его прародители еще были живы, и свадьбу устроили у них в квартире на Западной Пятьдесят восьмой улице, где Фергусон – ростом пять футов и два дюйма – выступал дружкой. Среди гостей присутствовали его новые сводные сестры: Маргарет, двадцати одного года, и девятнадцатилетняя Элла, обе студентки колледжа, ветхий Эмануэль Шнейдерман, козел-сквернослов, которого Фергусон уже встречал три-четыре раза и нипочем не считал своим дедушкой, даже после того, как умер его собственный дед, брат Гила Даниэль, его невестка Лиз, его шестнадцатилетний племянник Джим и двенадцатилетняя племянница Эми (сплошь руки и ноги эта девочка, со скобками на зубах и рядком угрей на лбу) и Пол Сандлер, бывший дядя Фергусона, оставшийся рыцарем его матери, невзирая на свой развод с Мильдред, редактор двух ее первых книг – полноформатной «Еврейской свадьбы» и недавно опубликованного «Хулиганья»: девяносто черно-белых портретов членов пуэрториканских уличных банд и их подружек, – а вот тети Мильдред не было, она написала, что слишком занята своими курсами в Станфорде, и когда Фергусон замечал, как его бывший дядя смотрит на его мать, задавался вопросом – не был ли тот соискателем материной руки и не проиграл ли Гилу Шнейдерману, а это могло означать, что его разрыв с тетей Мильдред имел какое-то отношение к запоздалому осознанию, что Пол выбрал не ту сестру. Наверняка знать это было невозможно, но, вероятно, объясняло, почему Мильдред была в тот день в Калифорнии, а не в Нью-Йорке, что также могло быть причиной того, почему она прервала все связи с матерью Фергусона, ибо о ее отсутствии на свадьбе никто и слова не сказал, по крайней мере – в пределах слышимости Фергусона, а поскольку он никак не мог заставить себя спросить у своего бывшего дяди Пола или прародителей, почему об этом никто не упоминает, вопросы, лепившиеся в тот день у него в голове, остались без ответа. Еще одна история, которую никогда не расскажут, постановил он про себя, а потом вытащил из кармана кольцо и отдал его дородному дядьке с высоким лбом и крупными ушами, который вот-вот станет его отчимом.
Мать назвала это «новым началом», и в начале того начала ко многому приходилось приспосабливаться – ко множеству всякого крупного и мелкого, что вдруг и навсегда изменилось, начиная с того важного факта, что жить теперь приходилось в хозяйстве, состоящем из трех человек, а не из двух, и с новизны того, что этот третий человек каждую ночь проводит в постели его матери – мужчина пяти футов десяти дюймов ростом, с волосами на груди, который по утрам расхаживает в старомодных боксерских трусах и громко писает в туалете, обнимает и целует его мать всякий раз, как та на него посмотрит, для Фергусона – новая порода мужчины, с какой приходится мириться, широкоплечий, но не спортивный, элегантный как-то старомодно, рассеянно, с его толстыми твидовыми костюмами и жилетами, крепкими ботинками и волосами длиннее обычного, в обществе он слегка неуклюж, не склонен к шуткам или легковесной болтовне, по утрам пьет чай, а не кофе, по вечерам шнапс, коньяк и сигара, уравновешенный, флегматичный, германский подход к делу – к жизни, лишь время от времени впадает в сварливость или приступы хандры (это у него генетический дар от отца, несомненно), но по большей части он добрый, часто чересчур добрый отчим, кто ни разу не проявлял ни малейшего рвения стать заменой отцу и был доволен, если его называли Гилом, а не папой. Первые полгода они втроем жили вместе в квартире на Западной Центрального парка, но потом переехали в место попросторнее – на Риверсайд-драйве между Восемьдесят восьмой и Восемьдесят девятой улицами, с четвертой спальней, которую переоборудовали в кабинет для Гила, и такой перемене Фергусон обрадовался, поскольку теперь он жил ближе к школе и мог спать по утрам чуточку дольше, и хотя ему не хватало вида на Центральный парк с третьего этажа на прежней квартире, теперь перед ним расстилался вид на реку Гудзон с седьмого, а это возбуждало больше – из-за нескончаемой череды лодок и кораблей, что двигались взад-вперед по воде, а за водой была суша другой стороны, Нью-Джерси, и всякий раз, когда Фергусон туда смотрел, он думал о своей прежней жизни там и пытался вспомнить себя маленьким мальчиком, но то время становилось уже таким далеким, оно почти совсем прошло.
Шнейдерман был главным музыкальным критиком в «Нью-Йорк Геральд Трибюн» – ответственная должность, требовавшая от него почти каждый вечер посещать концерты, сборные и сольные, и оперы, а затем – гонка к сроку напечатать рецензию и сдать ее редактору отдела искусств в тот же вечер, что Фергусону казалось почти невозможной задачей, всего два или два с половиной часа на то, чтобы собраться с мыслями о представлении, которое только что посмотрел и услышал, и написать об этом что-нибудь связное, но Шнейдерман был мастером своего дела и привык работать в жестких условиях, почти каждый вечер он заканчивал свои статьи, даже не отрывая рук от клавиш машинки, и когда Фергусон у него спросил, как ему удается так быстро печатать слова, тот ответил пасынку: На самом деле я довольно ленивый человек, Арчи, и если бы мне не задавали сроки, к которым нужно сдать статью, я б ничего и не делал, – и на Фергусона отчим произвел большое впечатление тем, что так над собою подтрунивает, поскольку было ясно, что человек этот – уж кто-кто, но не лентяй.
Шнейдерману было что рассказывать, в отличие от отца Фергусона, который редко делился какими-либо историями, если не считать совсем уж завиральных о добыче золота в Андах или охоте на слонов в Африке, но у Шнейдермана истории были правдивые, и пока период приспособления постепенно превращался в нечто напоминающее повседневную жизнь, Фергусону стало достаточно удобно расспрашивать материна мужа, чтобы тот поговорил с ним о своем прошлом, ибо ум у Фергусона перестал уже быть просто детским, и ему нравилось слушать, каково было расти в Берлине, выслушивать человека, проведшего первые семь лет своей жизни в том далеком городе, который в воображении Фергусона был в первую очередь столицей гитлеровской преисподней, городом самого большого зла на земле, но тогда еще нет, объяснил ему Шнейдерман, не для тех, по крайней мере, кто уехал оттуда в 1921 году, и даже хотя жизнь его началась вместе с Первой мировой войной, которую люди некогда называли Великой войной, он почти ничего о ней не помнил, весь этот катаклизм был для него сплошным пробелом, а первым событием в жизни, что он мог припомнить хоть с какой-то отчетливостью, было вот что: он сидит за кухонным столом в квартире его семьи в Шарлоттенсбурге с куском хлеба перед собой и намазывает его черносмородиновым джемом, целыми ложками, а меж тем приглядывает за своим младшим братом Даниэлем, тот – в своем детском стульчике, брату было тогда всего месяцев шесть или восемь, и это значило, что война вот-вот закончится или закончилась уже, а причина, почему сцена эта так отчетливо ему запомнилась, заключалась, быть может, в том, что Даниэль изрыгал массу свернувшегося молока себе на слюнявчик, сам этого не замечая, весь этот припадок улыбаясь и колотя руками по столу, и Шнейдерман изумлялся, как можно быть таким безмозглым и неумелым, чтобы тошнить на самого себя и даже не сознавать, что ты это делаешь. Никакого Гитлера, стало быть, но время так или иначе судьбоносное, зерна будущего бедствия уже засевались в Версале, вооруженная борьба в Берлине и спартакистское восстание кратко вспыхнули, и их подавили, далее последовали аресты Розы Люксембург и Карла Либкнехта, чьи трупы впоследствии выловили из Ландвер-канала, не говоря уже о начале Гражданской войны в России, красные против белых, большевики против всего мира, а поскольку Россия так близко от Германии – внезапный приток беженцев и эмигрантов, хлынувших в Берлин, в нестабильный, шаткий Берлин, сердце истрепанной Веймарской республики, где буханка хлеба в итоге стала стоить двадцать миллионов марок. Было крайне важно, чтобы Шнейдерман преподал мальчику этот рудиментарный урок истории, чтобы тот понимал, почему семья переехала в Америку, из-за чего отец Шнейдермана пришел к заключению, что Германия – место тупиковое, и вывез их оттуда как можно быстрее, что оказалось как раз вовремя, поскольку Америка положила конец иммиграции в 1924 году, после чего и заперла ворота, но покамест стоял 1921-й, конец лета, Шнейдерману вот-вот стукнет семь, а брату его три года и месяц, и они отплыли со своими родителями и сундуком немецких книг из Гамбурга на пароходе под названием «Рейс в Индию», курсом на гористую территорию Вашингтон-Хайтс, ну или так Шнейдерман предполагал, но английский у него тогда был хуже сносного, он на нем почти и не говорил, считай, да и что вообще семилетний мальчик знает о чем бы то ни было, кроме того, что ему рассказали родители? Язык был самым суровым препятствием, рассказывал отчим Фергусона, трудность в том, чтобы говорить по-английски без немецкого акцента, который выдавал в нем иностранца, а это приводило к насмешкам и частым тумакам от мальчишек в его школе, потому что был он не просто иностранец, а немец, нижайшая, самая презираемая форма человечества в те послевоенные годы, никчемный краут, ганс, бош или фриц, выбирай наименование, какое захочешь, и хотя даже его понимание английского потом выросло до рубежа глубочайшего знакомства, хотя словарный запас его расширился и он овладел нюансами английского синтаксиса и грамматики, – все равно ему доставались колотушки из-за этого неподобающего акцента. Ми пайэттем леттом куппатса, йа, Артши? – сказал Шнейдерман, чтобы показать, как это, а поскольку Шнейдерман редко пытался быть смешным, Фергусон оценил эту его попытку юмора, которая вообще-то оказалась довольно смешной, и он расхохотался, а мгновенье спустя хохотали они уже оба.
Штука тут в том, сказал Шнейдерман, что знание немецкого, вероятно, спасло мне жизнь.
Когда Фергусон попросил его объяснить, отчим заговорил о войне, о том, как пошел в армию сразу после Перл-Харбора, поскольку ему хотелось вернуться в Европу убивать нацистов, но из-за того, что был чуточку старше большинства парней, потому что учился в колледже и бегло говорил и по-французски, и по-немецки, не в бой его отправили, а засунули в разведку. Следовательно, никакой тебе передовой. А потому никакие пули и бомбы не свели его в могилу до срока. Фергусона, разумеется, разбирало любопытство, чем это отчим занимался в разведке, но тому, как и большинству мужчин, вернувшихся домой с войны, разговаривать об этом не хотелось. Он просто ответил: Допрашивал немецких военнопленных, беседовал с нацистскими чинушами, хорошенько применял свое знание немецкого. Когда же Фергусон попросил у него подробностей, Шнейдерман улыбнулся, потрепал пасынка по плечу и сказал: Как-нибудь в другой раз, Арчи.
Если и был в новом укладе какой-то недостаток, то лишь один: Шнейдермана совершенно не интересовал спорт – ни бейсбол или футбол, ни баскетбол или теннис, ни даже гольф, боулинг или бадминтон. Он не просто сам не играл ни в одну из этих игр, но даже взгляда не бросал на спортивные страницы, а это значило, что он не обращает внимания на взлеты и паденья местных профессиональных команд, не говоря уже о командах колледжей и средних школ, и пренебрегает подвигами всякого спринтера, толкателя ядра, прыгуна в высоту, прыгуна в длину, бегуна на длинную дистанцию, гольфиста, лыжника, игрока в шары и теннисиста на свете. Одной из причин, почему Фергусону не претила мысль о материном повторном замужестве, – расчет на то, что ее второй муж обязательно окажется спортсменом, поскольку ей самой так нравятся плавание и теннис, настольный теннис и даже кегли, – и он с нетерпением ждал, что в доме у них поселится взрослый человек, с которым можно будет заниматься всяким спортом, кидать ли бейсбольный мяч или пинать футбольный, метать мяч в корзину или играть в теннис (не важно, какой), а если вдруг окажется, что этот гипотетический отчим сам не спортсмен, останется прекрасная возможность того, что он будет болельщиком хотя бы одного вида спорта, поскольку большинство мужчин именно таковы, например, таким был его дедушка, чьим любимым видом спорта был бейсбол, и когда они вдвоем не болтали о Лореле и Гарди и не задавались вопросом, не лучше ли их короткометражки полнометражных фильмов или же наоборот, большинство их бесед было посвящено анализу сравнительных достоинств Мантла, Снайдера и Мейса, разбору таланта Альвина Дарка лупить по мячу правее от центра, когда происходит быстрая смена позиции игрока, спорам, у кого рука сильнее, у Фурилло или Клементе, или есть ли какая-то правда в истории о том, что Йоги Берра у себя в наголенном щитке держит бритву, чтобы чиркать ею по мячу перед тем, как швырнет его обратно Вайти Форду. Каждый год со своих шести до десяти лет Фергусон ходил с дедом по меньшей мере на три матча, их ежегодное турне по стадионам Нью-Йорка: «Поло Граундс» в Манхаттане, «Стадион Янки» в Бронксе и «Эббетс-Фильд» в Бруклине, где они вместе видели одну игру Чемпионата США в 1955-м, но три похода были минимумом, и после того, как у Фергусона погиб отец, а «Хитрецы» и «Гиганты» уехали из города, общая сумма в сезон обычно составляла шесть или семь поездок на «Стадион Янки», в дом, который построил Рут, и как же Фергусон дорожил этими походами в жаркие, солнечные дни июля и августа, глаза прикованы к полю с его безупречной зеленой травой и гладкой бурой почвой, регулярный парк, угнездившийся посреди огромного каменного города, пасторальные наслаждения в хриплом гаме и свисте толпы, тридцать тысяч голосов улюлюкают в унисон, вот это шум стоял, и во всем этом вот его дед терпеливо вел счет огрызком карандаша, предсказывая, попадет ли отбивающий в базу или нет, согласно тому, что он звал законом средних чисел, а это значило, что проседающий отбивающий обязан попасть, потому что ему пора, и сколько бы раз дед ни промахивался с догадкой, он никогда не отрекался от веры в свой закон, несовершенный закон чепуховой угадайки. Все эти игры с его непостижимым чудаком-Папой, кто в самые теплые дни защищал себя от солнца, накрывая лысую голову белым носовым платком, потому что в шляпе слишком жарко, а теперь, когда его больше не было, Фергусон понимал, что никто и никогда его не заменит, и уж точно не Шнейдерман, который, вероятно, был единственным нью-йоркцем во всех пяти боро, чье сердце не надломилось, когда после сезона 1957 года «Хитрецы» и «Гиганты» удрали в Калифорнию.
Стало быть, недостаток, а то и разочарование: оказаться в связке с человеком, в котором не было ни малейшего чувства к драмам и восторгам физического состязания, но если уж по всей справедливости к Шнейдерману, обратное тоже было несомненно верно, ибо неспособность Фергусона играть ни на одном музыкальном инструменте, должно быть, служила источником разочарования и для его отчима, владевшего и фортепиано, и скрипкой не на высочайшем профессиональном уровне, быть может, но на нетренированный слух Фергусона его исполнения Баха, Моцарта, Бетховена и Шуберта были бесспорными чудесами красоты и точности, не хуже чего угодно, что можно было услышать на сотнях альбомов грампластинок, которые Шнейдерман перевез с собой на Западную Центрального парка. Не то чтоб Фергусон не пытался, но его борьба хотя бы за начатки овладения игрой на клавишных закончилась провалом, по крайней мере – если верить его преподавательнице, старой курчавой мисс Маггеридж, которая, вероятно, подрабатывала ведьмой, когда не сокрушала дух маленьких детей, принуждаемых изучать игру на фортепиано. После девяти месяцев занятий, пока он учился в первом классе, его матери сообщили, что он не мальчик, а неуклюжий пентюх, а это подвело мать к умозаключению, что она заставила его заниматься слишком рано (какой там Моцарт, сочинявший симфонии в шесть и семь лет, – он не считается!), и когда она предложила своему пианисту-неудачнику, чтобы он годик отдохнул, а потом начал все сызнова с новым преподавателем, у Фергусона от сердца отлегло: больше никогда не увидит он мисс Маггеридж. Годом отдыха, конечно, стал год нью-аркского пожара, а когда они переехали в Нью-Йорк и преодолели занятное междуцарствие, младший уже был в Гиллиарде, взрослая – в смятенных чувствах, и фортепиано оказалось забыто.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































