Текст книги "4321"
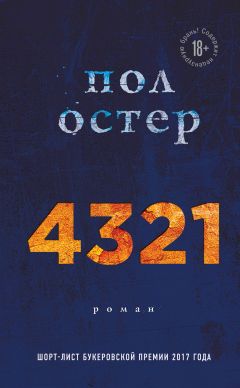
Автор книги: Пол Остер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 66 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Если бы любой из двух А. Ф. оказался слегка иным человеком, они легко бы могли стать врагами. У Фергусона в особенности имелись все основания не любить новоприбывшего, поскольку выяснилось, что Федерман в спорте преуспевает больше него, а лучшим последние пять лет был Фергусон, особенно в бейсболе, и это означало, что он всегда играет шортстопом и выбивает четвертым для выездной команды, но когда в первый день на тренировке объявился Федерман, быстро стало очевидным, что у него больше диапазон и рука сильней, чем у Фергусона, что бита у него проворней и мощнее, и к следующему дню, когда он забил две круговые пробежки и двойной во внутрилагерном матче, сокрушив все сомнения в том, что его результативность в первый день была случайной, Билл Раппапорт, двадцатичетырехлетний тренер команды, отвел Фергусона в сторонку и объявил свое решение: новым шортстопом и зачищающим хиттером будет Федерман, а Фергусона переводят на третью базу, и он будет подавать на риску выше в порядке. Ты же понимаешь, почему я вынужден так поступить, правда? – сказал Билл. Фергусон кивнул. С такими сильными доводами что еще мог он сделать, как не кивнуть? Ничего личного против тебя, Арчи, продолжал Билл, но этот новый пацан феноменален.
Как на это ни посмотри, а новый состав Билла означал для Фергусона понижение, небольшой провал в рядах, и Фергусона уело, что он потерял положение верховного командующего бейсбольной армии лагеря «Парадиз», но так же, как чувства всегда есть чувства, они субъективно верны все сто процентов времени, и факты оставались фактами, а в данном случае объективным, неоспоримым фактом было то, что Билл принял верное решение. Фергусон теперь оказался игроком номер два. Старая детская мечта о том, что настанет день и он доберется до высшей лиги, медленно растворилась до липкого осадка на донышке его желудка. Какое-то время еще оставался горький вкус, но затем Фергусон его преодолел. Федерман просто был слишком хорош, чтобы хотелось с ним состязаться. Перед лицом такого таланта единственным пристойным ответом была благодарность, что он с тобой на одной стороне.
А необычайным талант его, как это ощущал Фергусон, делало то, что Федерман почти никак его не сознавал. Как бы прилежно ни играл он, сколько бы матчей ни выигрывал своими ударами в последнем иннинге или пикирующими остановками на поле, казалось, он не сознает, насколько лучше всех остальных играет. Превосходно играть в бейсбол – попросту то, что он умеет, и он принимал такое умение точно так же, как принимал цвет неба или шарообразность Земли. Страсть преуспевать – да, но в то же время – равнодушие, даже какой-то оттенок скуки, и стоило кому-нибудь в команде заметить, что ему следует подумать, не податься ли в профессионалы по окончании старших классов, Федерман качал головой и посмеивался. Бейсбол – просто приятное занятие, отвечал он, но оно, по сути, бессмысленно, просто детская забава, и когда он закончит среднюю школу, план у него – поступить в колледж и выучиться на ученого: либо на физика, либо на математика, он пока еще не решил, на кого именно.
В таком отклике было нечто и дурацкое, и обезоруживающее, считал Фергусон, – и поражало его как типичный пример того, что определяло его почти-тезку и отличало его от всех прочих, поскольку это ж предрешенный вывод: все мальчишки рано или поздно поступят в колледж, в таком мире они живут – в мире американских евреев третьего поколения, где от всех, кроме совсем уж слабоумных, ожидается, что они получат университетскую степень, если не профессиональную, то ученую, а вот Федерман не понимал тонкостей того, что ему говорили другие, ему не удавалось осознать, что ему говорят не про то, что ему не следует поступать в колледж, а про то, что ему не обязательно туда идти, если не захочет, а это означало, что они считают, будто у него положение крепче, чем у них, он больше хозяин собственной судьбы, и поскольку он и впрямь был отличником по математике и естественным наукам и полностью намеревался поступать в колледж (тем летом он сам изучал математический анализ, ради всего святого, а сколько четырнадцатилеток способны ухватить принципы математического анализа?), то и не обращал внимания на комплимент и давал окружающим прямой, искренний ответ от всей души, который был так очевиден и не по делу (все знали, что он изучает матанализ и неизбежно поступит в колледж), что ему этого и вообще не стоило произносить.
Но это – среди многого прочего, что Фергусону больше всего нравилось в другом А. Ф., – его невинность, его возвышенная оторванность от ироний и противоречий общества, к которому принадлежал. Все остальные, казалось, бьются в судорогах вечной взвинченности, в хаосе сталкивающихся друг с другом порывов и бурных несообразностей, а вот Федерман был спокоен, раздумчив и явно пребывал в мире с самим собой, так замкнут в собственных мыслях и образах действия, что мало внимания обращал на окружавший его шум. Существо ничем не замутненное, частенько думал Фергусон, до того чистая и строго равная себе самость, что часто трудно в нем что-нибудь понять, и вот именно поэтому, несомненно, у них с Ноем и вылепились такие разные впечатления об их новом сожителе по хижине. Ной готов был признать, что Федерман одновременно и крайне разумен, и отличный игрок в мяч, но, на его вкус, слишком уж искренен, чересчур уж недоставало ему по части юмора, чтобы считаться хорошей компанией, да и излучаемое Федерманом спокойствие это, что оказывало такое успокоительное воздействие на Фергусона, Ноя целиком и полностью нервировало: он ощущал, что Федерман – несколько недочеловек, зловещий фантомальчик, как он однажды выразился, привидение, родившееся без некоторых частей головного мозга. Фергусон понимал, что именно Ной пытается выразить подобными замечаниями, но был с ним не согласен. Федерман не похож на них, только и всего, человек этот живет на отдельной плоскости, нежели все остальные, и то, что Ной считал слабостью его характера – робость Федермана с девчонками, его неумение рассказывать анекдоты, нежелание с кем бы то ни было спорить, – Фергусон был склонен воспринимать как сильные стороны, ибо он проводил с Федерманом больше времени, чем Ной, и понимал: то, что Ной считает мелкостью или даже пустотой, на самом деле – глубина, такое величие души, какого нет ни у кого другого из его знакомых. Беда была в том, что Федерман не очень встраивался в компании, а вот наедине с кем-то представлял собой совершенно другого человека, и теперь, по прошествии трех недель, два А. Ф. уже сходили вместе на бейсбольное поле десятки раз, и Фергусон узнал этого другого человека – ну, или, по крайней мере, начал его узнавать, и самое большое впечатление на него произвело то, насколько Федерман наблюдателен, как удивительно настроены все чувства его на мир вокруг, и когда б ни показывал он на проплывавшее у них над головами облачко или на пчелу, опустившуюся на тычинку цветка, или ни определял по голосу незримую птицу, прокричавшую из леса, Фергусон ощущал, будто видит или слышит все это впервые, что без друга, который обратил его внимание на присутствие подобного, он бы нипочем не узнал, что оно – там, ибо прогулки с Федерманом были в первую очередь упражнением в искусстве внимательности, а быть внимательным, как это обнаружил Фергусон, есть первый шаг в том, чтобы научиться быть живым.
Затем настал исключительно теплый четверг, ближе к концу месяца, более-менее вершина лета, всего за два дня до начала родительских выходных, на субботнее утро и день назначили спаренный матч по баскетболу-бейсболу с пугающим и ненавистным противником, лагерем «Скатико», чьи команды приедут на весь день в лагерь «Парадиз», и игры эти будут смотреть матери и отцы мальчишек из «Парадиза», пухлые женщины в хлопчатобумажных платьях без рукавов, приземистые мужчины в шортах-бермудах, холеные и некогда холеные женщины в брючках чуть ниже колена и на шпильках, лысеющие мужчины в белых деловых рубашках с рукавами, закатанными до локтей, то был главнейший спортивный день всего лета, за которым последует вечерний показ старой пьесы братьев Маркс «Какаосы», в 1929 году превращенной в их первый фильм, а причудливей всего и, однако, уместнее всего было то, что Ной, широко известный всему лагерю как Арфо, поручили роль Брюзги – именно к ней лучше всего были приспособлены его таланты, и Фергусон не только с нетерпением ждал матчей, в которых он будет играть всего через два дня, но и дождаться не мог того, чтобы увидеть, как его двоюродный брат пройдется походочкой Брюзги, гарцуя по сцене с сигарой, зажатой между указательным и безымянным пальцами правой руки, и в нагримированных усах, размазанных по коже между носом и верхней губой. Множество ожиданий громоздились одно на другое перед событиями того дня, а поскольку лагерь «Парадиз» почти наверняка проиграет по баскетболу (десятью днями раньше при визите в лагерь «Скатико» их разгромили), Билл Раппапорт был полон решимости повторить их победу по бейсболу, и для этого в последние дни он гонял мальчишек на нескольких крайне утомительных тренировках, устраивал им нескончаемые отработки точности в основных комбинациях (удары, подрезка отсекающего, удерживание бегунов на базе) и активные гимнастические разминки, чтобы не потеряли формы (отжимания, приседания, бег с ускорениям, круги по стадиону), и вот в тот конкретный четверг в конце июля, который оказался самым теплым, самым удушливым днем, свалившимся на лагерь за все лето, тело Фергусона обливалось по́том всю тренировку, и теперь, когда закончилась эта их двухчасовая накачка и они с Федерманом возвращались к себе в хижину, где переоденутся в купальные костюмы для обязательного заплыва перед ужином, после усилий на поле он был изможден, энергия высосана, как выразился он Федерману, как будто каждая его нога весила по двести фунтов, и даже обыкновенно неутомимый умник матанализа из Нью-Рошели признался, что и он тоже себя чувствует довольно вымотанным. Где-то на полпути к хижине Фергусон заговорил о книжке, которую дочитал на тихом послеобеденном часе, «Подруга скорбящих»[21]21
Пер. В. Голышева.
[Закрыть], крошечный роман Натанаэла Веста, который тетя Мильдред включила в ежегодную посылку ему книг на лето, и едва начал он объяснять, что на самом деле Подруга Скорбящих – мужчина, журналист, пишущий от лица женщины колонку советов неудачникам в любви, как услышал, что Федерман испустил короткий приглушенный вздох, что-то похожее на ох, и, когда повернул голову направо и взглянул на своего друга, увидел, что Федерман покачивается, как будто его охватила дурнота, и не успел Фергусон спросить, что случилось, как колени у Федермана подломились, и он медленно осел наземь.
Фергусон решил, что это шутка, что после всех разговоров о том, как они оба устали, Федерману взбрело в голову комически продемонстрировать, что происходит с телом после чрезмерных тренировок жаркими и душными летними днями, но смех, который Фергусон рассчитывал услышать, так и не раздался, ибо правда заключалась в том, что Арти не относился к числу тех, кто вообще шутит, и когда Фергусон склонился присмотреться к лицу своего друга, он поразился – глаза у того не были ни открыты, ни закрыты, а полуоткрыты-полузакрыты, виднелись только белки, как будто глаза у него закатились под лоб, что, казалось, намекает на то, что он лишился чувств, поэтому Фергусон принялся постукивать пальцами Федерману по щекам, сначала постукивать, затем щипать и все это время говорил, чтобы тот просыпался, как будто нескольких похлопываний и нескольких щипков окажется довольно, чтобы тот пришел в себя, но когда Федерман не отреагировал, когда голова его замоталась из стороны в сторону, стоило Фергусону тряхнуть его за плечи, а недвижные веки и дальше отказывались открываться или закрываться и даже трепетать от малейшего признака жизни, Фергусон уже начал бояться и потому прижал ухо к груди Федермана, чтобы услышать биение сердца, чтобы нащупать, как подымается и опускается у него грудная клетка, когда воздух входит ему в легкие и выходит из них, но никакого биения сердца там не было, не было дыхания, и мгновенье спустя Фергусон встал на ноги и завыл: Помогите! Помогите, кто-нибудь! Пожалуйста – кто-нибудь – помогите мне!
Аневризма сосудов головного мозга. Такова официальная причина смерти, сказал кто-то, а поскольку судебно-медицинский эксперт округа Колумбия проводил вскрытие сам, слова эти он и написал на свидетельстве о смерти Федермана: аневризма сосудов головного мозга.
Фергусон знал, что такое головной мозг, но впервые столкнулся со словом аневризма, поэтому пришел в кабинет к старшему вожатому лагеря и отыскал его в «Студенческом словаре Вебстера», стоявшем на верхней полке книжного шкафа: местное аномальное расширение кровеносного сосуда или постоянное выпячивание истонченной стенки сосуда ввиду заболевания.
Матчи с лагерем «Скатико» отменили до особого распоряжения. Комедию братьев Маркс отложили до следующего месяца. Семейную спевку, назначенную на воскресное утро, вычеркнули из календаря.
На общелагерном собрании, созванном в Большом сарае после ужина в четверг, половина детей плакала, хотя многие до этого даже не знали Федермана. Джек Фельдман, старший вожатый, сказал мальчикам и девочкам, что пути Господни неисповедимы, человек их понять не в состоянии.
За кончину Федермана себя винил Билл Раппапорт. Он слишком гнал команду, сказал он Фергусону, этими суровыми разминками в той невыносимой жаре и духоте он всех подверг опасности. Какого хера он вообще себе думал? Фергусон припомнил слова из словаря: постоянное, аномальное, кровеносного… заболевания. Нет, Билл, сказал он, это бы рано или поздно неизбежно случилось. Арти носил бомбу с часовым механизмом у себя в голове. Просто о ней никто не знал – ни он сам, ни родители, ни один врач, кто когда-либо его осматривал. Ему выпало умереть до того, как кто-либо обнаружил, что эта бомба с часовым механизмом была там всю его жизнь.
На тихом часе в пятницу по громкой связи вызвали его фамилию. Арчи Фергусон, произнес голос лагерной секретарши. Арчи Фергусон, пройди, пожалуйста, в административный корпус. Тебе звонят.
То была его мать. Какой ужас, Арчи, сказала она. Мне так жаль этого мальчика – и тебя… и всех.
Это не просто ужас, ответил Фергусон. Это худшее, хуже вообще не бывает.
На другом конце провода повисла долгая пауза, а потом его мать сказала, что ей только что звонила мать Арти. Неожиданный, конечно, звонок, разумеется, звонок мучительный, но исключительно ради того, чтобы пригласить Фергусона в воскресенье на похороны в Нью-Рошель – при условии, конечно, что ему разрешат отлучиться из лагеря, и при условии, что он сам будет не против поехать.
Не понимаю, сказал Фергусон. Больше никого не зовут. Почему я?
Мать его объяснила, что миссис Федерман читала и перечитывала письма, которые сын присылал домой из лагеря, и почти во всех них упоминался Фергусон, часто – по нескольку раз в трех-четырех абзацах. Арчи мой лучший друг, сказала его мать, цитируя абзац, который ей прочли по телефону, лучший друг, таких у меня никогда не было. И еще: Арчи такой хороший человек, я счастлив уже только от того, что с ним рядом. И опять: Арчи как никто другой годится мне в братья.
Еще одна долгая пауза, и затем Фергусон сказал – так тихо, что сам едва расслышал собственные слова: Вот и мне так с Арти было.
Стало быть, порешили. Родители на выходные к нему не приедут. Вместо этого утром Фергусон поездом доберется до Нью-Йорка, мать встретит его на вокзале «Гранд-Централ», они переночуют в городе в квартире ее родителей, а на следующее утро вдвоем поедут в Нью-Рошель. Поскольку мать никогда не игнорировала предписания светских выходов, она пообещала, что прихватит с собой для него одежду на похороны – белую рубашку, пиджак и галстук, черные ботинки, черные носки и угольно-серые брюки.
Она сказала: Ты там не слишком вырос за это время, Арчи?
Сам не знаю, ответил Фергусон. Может, немного.
Интересно, подойдут ли тебе все эти вещи.
А это важно?
Может, да, а может, и нет. Если с рубашки поотлетают пуговицы, завтра всегда можно будет купить тебе новую одежду.
Пуговицы не поотлетали, но рубашка уже была ему слишком тесна, как и все остальное, за исключением галстука. Вот же маета – ходить по магазинам в девяносточетырехградусную жару[22]22
≈ 34,5°С.
[Закрыть], подумал он, таскаться по улицам пропеченного города из-за того, что он с весны подрос на два с половиной дюйма, но нельзя же ехать в Нью-Рошель в своих лагерных джинсах и теннисках, и потому он отправился вместе с матерью в «Мейси», больше часа бродил по отделу мужской одежды в поисках чего-нибудь приличного, несомненно – самое скучное занятие на свете даже в лучшие времена, а таковыми нынешние совершенно определенно не были, и настолько мало души вкладывал он в то, чем они занимались, что позволил матери принимать все решения, выбирать ему вот эту рубашку, вот этот пиджак и вот эту пару брюк, и все же, как вскоре ему предстояло выяснить, насколько предпочтительнее была скука покупок по сравнению с жалкой безнадегой сиденья в синагоге на следующий день, в жарком этом святилище, забитом двумя с лишним сотнями человек. Мать и отец Арти, его двенадцатилетняя сестра, четверо его прародителей, его тети и дяди, двоюродные братья и сестры, школьные друзья, разнообразные учителя вплоть до воспитательниц из детского сада, друзья и тренеры по спортивным командам, в которых он играл, друзья семьи, друзья друзей семьи, толпа людей, спекавшаяся в том душном зале, а слезы брызгали из плотно сжатых глаз, мужчины и женщины всхлипывали, всхлипывали мальчишки и девчонки, а за кафедрой стоял ребе и читал молитвы на иврите и английском, никакой тебе христианской белиберды про лучшее место, куда он отправился, никакой сказочной послежизни для Фергусона и его народа, все это были евреи, одержимые, непокорные евреи, а у них только одна жизнь и одно место – эта жизнь и эта земля, и единственный способ смотреть на смерть – это славить Бога, славить власть Бога, даже если смерть принадлежала четырнадцатилетнему мальчишке, славить их блядского Бога, покуда глаза из голов не вытекут, пока яйца не оторвутся от тел, а внутри не сморщатся сердца.
На кладбище, когда гроб опускали в землю, отец Арти попробовал было прыгнуть вслед за ним в могилу сына. Оттащить его смогли четыре человека, а когда он попытался вырваться от них и проделать это же еще раз, самый крупный из четверки, кто оказался его младшим братом, зажал ему голову в замок и повалил наземь.
В доме после похорон мать Арти, высокая женщина с толстыми ногами и широкими бедрами, обняла Фергусона и сказала ему, что он всегда теперь будет членом их семьи.
Следующие два часа он просидел на диване в гостиной, беседуя с младшей сестренкой Арти, которую звали Селия. Он хотел ей сказать, что теперь он ей брат, что и дальше будет ей братом, пока жив, но ему не хватило мужества вытолкнуть слова изо рта.
Лето завершилось, начался еще один учебный год, и в середине сентября Фергусон взялся писать рассказ, который к тому времени, как он его закончил перед самым Днем Благодарения, постепенно перерос в историю более протяженную. Он подозревал, вдохновила его шутка о двух А. Ф., которая шуткой не была, но он в этом сомневался, поскольку рассказ явился ему ниоткуда полностью вылепившимся замыслом, однако так или иначе и Федерман в нем, надо полагать, присутствовал – с учетом того, что Федерман сейчас находился с ним все время, всегда отныне с ним будет. Не Арчи и Арти, как его сперва подмывало написать, а Ханк и Франк, вот как звали главных героев, рифмующаяся парочка, а не созвучная, но все равно пара на всю жизнь, в данном случае – пара ботинок, так рассказ и получил свое название: «Душевные шнурки».
Ханк и Франк, левый ботинок и правый ботинок, впервые встречаются на обувной фабрике, где их сделали: их сводит вместе случайно, когда последний человек на конвейере кладет их в одну обувную коробку. Они – крепкая, хорошо сработанная пара бурых кожаных ботинок на шнуровке, такие обычно еще называют «башмаками», и хотя личности их слегка отличаются (Ханк скорее тревожен и погружен в себя, а Франк прям и бесстрашен), друг от друга они не отличаются так, как отличаются друг от друга Лорел и Гарди, или же Гекл и Джекл, или Абботт и Костелло, но отличаются, быть может, так, как различались между собой Фергусон и Федерман – две горошины из одного стручка, однако ни в коей мере не тождественные.
Ни тот ни другой не счастливы в коробке. На этом рубеже они еще чужие друг другу, и в коробке не только темно и душно – они прижаты друг к другу сокровенно и компрометирующе, что приводит поначалу к недружелюбным сварам, но затем Франк говорит Ханку, чтобы взял себя в руки и успокоился, их свело друг с другом, нравится им это или нет, и Ханк, понимая, что у него нет выбора, лишь наилучшим образом воспользоваться сложившимся скверным положением, извиняется за то, что встал в их отношениях не с той ноги, на что Франк отвечает: Это что, шутка у тебя такая? – имея в виду, что не счел его замечание смешным ни в малейшей мере, и потому Ханк замечает в ответ, понизив голос, с протяжным юным выговором: Ах, очень на то надеваюсь, братец башмак. Нельзя в жизни без хохмочек, верно же?
Коробку с Ханком и Франком внутри кладут в фургон и везут в Нью-Йорк, где она оказывается на складе обувного магазина Флоршайма на Мадисон-авеню, еще одна коробка добавилась к сотням, сложенным на полках в ожидании продажи. Такова их судьба – быть проданными, вытащенными из коробки мужчиной с одиннадцатым размером ноги[23]23
В Европе соответствует 44-45-му размеру.
[Закрыть] и унесенными с того склада навсегда, – и Ханку и Франку не терпится начать жить, оказаться на вольном воздухе и гулять со своим хозяином. Франк уверен: их продадут быстро. Они – пара повседневной обуви, говорит он Ханку, а не какая-то финтифлюшка вроде парадных ботинок из лакированной кожи, или тапок Санта-Клауса, или валенок, а поскольку повседневная обувь всегда очень востребована, пройдет совсем немного времени, и они смогут распрощаться с этой их унылой, противной коробкой. Может, оно и так, отвечает Ханк, но если Франку хочется поговорить о шансах и статистике, ему следует подумать о размере одиннадцать. Размер одиннадцать лично его тревожит. Это гораздо больше среднего, и кто знает, сколько им придется ждать, пока не зайдет мистер Большеног и не попросит их примерить? Он был бы гораздо счастливее с размером восемь или девять[24]24
Размер 41–42-й.
[Закрыть], говорит он. Вот что носит большинство мужчин, а большинство означает – быстрее. Чем больше ботинок, тем дольше займет продажа, а номер одиннадцать – это чертовски здоровенный башмак.
Лучше б радовался, что мы не двенадцать или тринадцать[25]25
Размеры 45–47-й.
[Закрыть], говорит Франк.
Я и радуюсь, отвечает Ханк. А еще я рад, что не шестой номер[26]26
Размер 39-й.
[Закрыть]. Но вот тому, что я одиннадцатый, – не рад.
После трех дней и трех ночей на полке, унылого времени, что лишь затягивает их сомнения и лихорадочные подсчеты того, когда и как их спасут – если их вообще когда-нибудь спасут, наутро в конце концов заходит продавец, из башни коробок вытаскивает их узилище, в которое они заточены, и уносит их в торговый зал магазина. Ими заинтересовался покупатель! Продавец снимает с коробки крышку, и в тот первый миг, когда их озаряет светом мира, у Ханка и Франка все начинает зудеть от радости – радости такой обширной и пьянящей, что она разливается аж до кончиков их шнурков. Они снова могут видеть – видеть впервые с тех пор, как фабричный рабочий положил их в коробку, и вот теперь, когда продавец достает их из коробки и ставит на пол перед сидящим покупателем, Франк говорит Ханку: Кажется, мы в деле, приятель, – на что Ханк отвечает: Очень на это надеваюсь.
(Примечание: Ни в каком месте рассказа Фергусон не ставит вопрос о том, как ботинкам удается разговаривать, несмотря на то, что все ботинки на шнуровке снабжены языками. Если это узкое место, то он разбирается с ним, отказываясь его учитывать. Тем не менее язык, на котором говорят между собой Ханк и Франк, очевидно, не слышим для людей, поскольку они вдвоем ведут разговоры где угодно и когда угодно, без страха, что их могут подслушать – по крайней мере, живые люди. В присутствии другой обуви, однако, они вынуждены идти на большие околичности, ибо вся обувь в магазине говорит по-обувному. Вообще-то никто из первых читателей Фергусона не воспротивился этому нелепому, выдуманному языку. Все, казалось, согласились с тем, что это допустимая поэтическая вольность, но несколько читателей решили, что автор зашел слишком далеко в том, что подарил Ханку и Франку способность видеть. Обувь слепа, сказал один, это все знают. Как вообще ботинки способны видеть? Четырнадцатилетний автор на миг задумался, пожал плечами и ответил: Глазками для шнурков, конечно. Как еще?)
Покупатель – крупный мужчина, здоровенная туша с большим пузом и распухшими лодыжками, кожа у него влажная и бледная, как у человека, возможно, страдающего диабетом или чем-то сердечно-сосудистым. Не идеальный, возможно, хозяин, но, как Ханк и Франк говорили друг другу бессчетно раз за последние трое суток, кто в тебя обулся – тот и приглянулся. Они обязаны покориться воле того, кто их купит, кем бы человек этот случайно ни оказался, ибо их работа – защищать ноги, все и всякие ноги при любых обстоятельствах, и принадлежат ли ноги эти безумцу или святому, обувь должна свою задачу выполнять в полном соответствии с пожеланиями любого хозяина. И все же это важный миг для только что изготовленных башмаков, таких новых и сверкающих в жесткости своего верха из воловьей шкуры и ничем не стесненной подошвы, ибо это миг, когда они наконец начнут собственную жизнь как полностью дееспособная обувь, и пока продавец натягивает Ханка на левую ногу покупателя, а затем – и Франка на правую, оба они постанывают от удовольствия, пораженные, до чего хорошо ощущать в себе ногу, а затем, что поразительно, наслаждение их только увеличивается, когда на них затягивают шнурки и два их конца связываются хрустким, тугим бантиком.
Похоже, неплохо сели, говорит продавец покупателю. Хотите в зеркало посмотреть?
Так оно и вышло, что Ханку и Франку удалось впервые увидеть себя вместе – глядя в зеркало, пока толстяк тоже в него смотрится. До чего же мы симпатичная пара, говорит Франк, и в кои-то веки Ханк с ним согласен. Лучшие башмаки на свете, говорит он. Или, как мог бы выразиться бард, сами цари Тачалии.
Однако, пока Ханк и Франк любуются собой в зеркале, толстяк начинает качать головой. Что-то я не уверен, говорит он продавцу, они какие-то неуклюжие.
Человеку с вашим телосложением нужна прочная обувь, отвечает продавец, излагая это обыденным тоном, чтобы не обидеть клиента.
Конечно, бормочет толстяк, это уж само собой, нет? Но это же не значит, что я должен расхаживать в этих галошах.
Это классика, сэр, сухо отвечает ему продавец.
У легавых такие башмаки. Вот на что они, по-моему, похожи, говорит толстяк. Это ботинки для филера.
После значительной паузы продавец прочищает горло и говорит: Могу я вам предложить взглянуть на что-нибудь еще? На пару полуботинок с перфорированным носком, быть может?
Ага, полуботинки, говорит покупатель, согласно кивая. Вот я чего хотел. Не башмаки – полуботинки.
Ханка и Франка опять кладут в коробку, и чуть погодя пара незримых рук поднимает их с пола и уносит обратно на склад, где они вновь вливаются в ряды непроданных. Ханка сжигает негодованием. Его распалили замечания толстяка, и он буквально выплевывает слова неуклюжие и галоши в сорок четвертый раз за последний час, когда Франк наконец открывает рот и умоляет его прекратить. Разве ты не понимаешь, до чего нам повезло? – говорит он. Этот тип не только обалдуй, он – жирный обалдуй, а носить на себе такую тяжесть – последнее, чего бы нам хотелось. Если старый мистер Жирштейн не весит триста фунтов, весит он по крайней мере добрых двести шестьдесят – двести семьдесят, а ты только представь, какой будет ежедневный износ, если ходить с такой горой на себе. Нас бы потихоньку расплющило, нас бы сносили до срока и выбросили, не успели б мы толком и пожить. Наверное, мало на свете мужчин в цыплячьем весе, кто носит размер одиннадцать, но мы хотя бы можем надеяться на человека подтянутого и стройного, на человека с легким и ровным шагом. Не нужны нам те, кто ковыляет или переваливается, Ханк. Мы заслуживаем лучшего, потому что мы классика.
За следующие три дня случилось еще две осечки, одна из них – почти попадание (человек влюбился в них с первого взгляда, но обнаружил, что ему нужен размер десять с половиной[27]27
Размер 43–44,5-й.
[Закрыть]), а другая – в молоко с самого начала (хмурый подросток-великан, который принялся насмехаться над матерью за то, что она пыталась примерить ему эдакие уродские канонерки), и ожидание тянется дальше, столь унылое своим сонным однообразием, что Ханк и Франк уже начинают задаваться вопросом, не обречены ли они оставаться на полке до скончания дней, нежеланные, вышедшие из моды, всеми забытые. Затем, ровно через трое суток после оскорбления канонерками, когда вся надежда уже улетучилась из их сердец, в магазин входит покупатель – тридцатилетний мужчина по имени Абнер Квайн, шести футов ростом и весом умеренные сто семьдесят фунтов, размер ноги одиннадцать – он не только ищет себе пару башмаков, но и не согласится ни на что иное, кроме таких башмаков, и вот так Ханка и Франка снимают с полки в четвертый раз, каковой и оказывается последним, концом их нервной недели в черном чистилище обувной коробки, поскольку едва Абнер Квайн сует в них свои ноги и прохаживается по магазину на пробу – тут же говорит продавцу: Отлично, как раз то, что я хотел, – и двое задушевных шнурков наконец обретают хозяина.
Какая, в самом деле, разница, что Квайн оказывается легавым? Да никакой вообще-то, по крупному-то счету, но после того, как толстый покупатель отвергает Ханка и Франка под предлогом того, что они похожи на пару башмаков легавого, для них это нечто вроде больной мозоли, и они отнюдь не смеются такому совпадению, а обижены и ошеломлены, ибо если грубые башмаки, по сути, обувь легавых, то им, похоже, на роду было написано, что носить их станет топтун, фигура, над которой в народе немало потешаются, и быть излюбленной обувью топтунов этого мира, то есть, самим воплощением топтунства, – означает, что и в них самих есть нечто несуразное.
Давай признаем, говорит Ханк. Мы не были созданы для смокингов и городских загулов.
Может, и нет, отвечает Франк, но мы крепки и надежны.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































