Текст книги "Лев Боаз-Яхинов и Яхин-Боазов. Кляйнцайт"
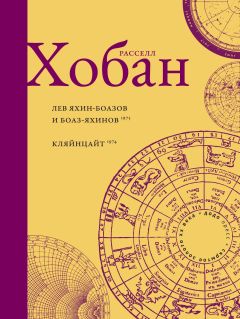
Автор книги: Рассел Хобан
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
15
В уме Яхин-Боаз никак не мог отделаться от аналогии с телепередачей. Он принимает льва. Лев – наказание. Жена и сын, конечно, желали б его наказать. Хотел ли он быть наказанным? Просто ли наказание лев? Он не мог ответить на эти вопросы простыми «да» или «нет».
Лев ел настоящее мясо. А чем он питался после того, как три дня назад сожрал пять фунтов бифштекса? Отощал ли он теперь, оголодал ли, торчат ли у него ребра? Если это лев, который являлся лишь ему одному, то кто, как не он, обязан его кормить?
В магазин зашел покупатель и спросил книгу по древнему искусству Ближнего Востока. Яхин-Боаз предложил ему две книги в мягких обложках и одну в твердом переплете и вновь стал распаковывать пришедшую утром поставку.
Покупатель был одним из постоянных клиентов магазина, про все свои покупки ему хотелось поболтать.
– Львы просто замечательны, – заметил он.
Яхин-Боаз разогнулся от книг, бурой бумаги и шпагата, резко насторожившись.
– Какие львы? – спросил он.
– Вот, – сказал покупатель, – на барельефах северного дворца. – Он положил открытую книгу на стойку перед Яхин-Боазом. – Полагаю, скульптор придерживался определенных правил в изображении царя и прочих человеческих фигур, однако львы сильно отличаются от такого – у каждого свой индивидуальный трагический портрет. Вы видели оригиналы?
– Нет, – ответил Яхин-Боаз, – хотя раньше жил недалеко от развалин.
– Вот так всегда, – заметил покупатель. – Рядом с тобой одно из чудес света, вершина искусства своего времени, а ты живешь с ним рядом и даже не побеспокоишься на него взглянуть.
– Да, – сказал Яхин-Боаз, перестав обращать внимания на его слова. Он переворачивал страницы, рассматривая снимки барельефов львиной охоты. Добрался до умирающего льва, вцепившегося зубами в колесо.
– Довольно легко заметить, к кому скульптор благоволил, – продолжал покупатель. – Заказ-то, верно, был царский, но сердце свое художник отдал льву. При всем внимании к деталям его одежды и кудряшкам в бороде царь – не более чем иероглиф, символ царского величия. Но лев!
Яхин-Боаз не сводил глаз со льва. Он его узнал.
– Царь чуть ли не вторичен, – не умолкал покупатель. – Смертельная растяжка львиного тела встречается с длиной копий, на которые он бросается, становится одним долгим диагональным рывком вечно противостоящих сил. Удар этот уравновешен на вращающемся колесе, а в центре – хмурая морда умирающего льва, вцепившегося в него зубами. Мастерская композиция и все вот это прочее. Царь и вправду вторичен – он динамический противовес. Он там лишь держит копье, а только царь по званию своему будет достоин смерти того льва.
Да, думал Яхин-Боаз, эту хмурую гримасу ни с чем не спутаешь. Это его гримаса, и грива росла на лбу точно так же. Глаза в тени расставлены так же. Когда он видел льва в последний раз, тот был худее, подумал он, чем тут показано. А он ничего не давал ему поесть столько дней! Способен ли лев питаться лишь тем, что приносил ему он, Яхин-Боаз? Больше никто его не видел. А сам он видел ли кого-нибудь еще?
Казалось, взглядом своим Яхин-Боаз овладел львом на картинке так, что тот не мог бы принадлежать больше никому. Клиент почуял, что его тонкое понимание становится несущественным. Ощутил легкую тревогу за книгу, которую покупал, и, как бы оберегая ее, слегка забарабанил пальцами по стойке.
– Я беру эту книгу, – сказал он и вытащил чековую книжку.
– Но это же колесо, – вдруг произнес Яхин-Боаз, не отрывая взгляда от неумолимого колеса с шипами, о восьми спицах на фотографии, часть его уже потерялась в эрозии и выветривании камня. – Колесо. Он должен это понимать. Это не царь. Может, царь даже не хочет, чтобы лев умирал. Знает, что лев – тоже царь, возможно, даже более великий, чем он сам. Это колесо, колесо. Вот в чем все дело. Скульптор знал, что это колесо, а не царь. Кусать его бесполезно, но кто-то должен это делать. В этом и есть вся суть.
– Можно расценивать и так, – сказал покупатель. – Вообще-то, – он взглянул на часы, – мне уже пора.
– Да, – произнес Яхин-Боаз. Машинально он выбил чек и завернул книгу, в душе гадая, сколько фунтов мяса понадобится, чтобы лев оставался в хорошем теле. Должно, конечно, быть мясо и подешевле бифштекса. Конина? Как знать, если позвонить в зоопарк, они смогут ему посоветовать, – скажет им, что-де тигр, а не лев. Мог ли сам лев не знать, что это колесо? Но ведь должен – у него на морде столько знания.
– Будьте любезны, – произнес покупатель, – можно мне книгу?
– Да, – ответил Яхин-Боаз, наконец-то вручая ее покупателю и думая о том, до чего это странно: кто-то другой будет носить фотографию животного, так тесно и причудливо соединенного с ним.
Весь остаток дня он нервничал и дергался, ставил книги не на те места и забывал куда. Быстро и внезапно перебегал он из одного конца магазина в другой, не помня зачем. Ум его метался с одного на другое.
Он трепетал перед львом, дрожал и холодел при мысли о нем, но в то же время страстно желал его увидеть. Кормить льва, похоже, стало теперь его причудливой обязанностью, и он беспокоился, во сколько ему это обойдется.
Яхин-Боаз позвонил в зоопарк, сказал, что изучает материал для журнальной статьи, и спросил, сколько мяса в день требуется одному взрослому тигру. Подождал, пока девушка из зоопарка наведет справки.
Вернувшись к телефону, она сказала, что каждому тигру дают двенадцатифунтовый окорок шесть раз в неделю, а один день зверей оставляют голодать.
– Двенадцать фунтов, – повторил Яхин-Боаз.
Ну, это вместе с костями, добавила она. Мяса в таком куске может быть от шести до семи фунтов.
А сколько может лев… то есть, он хотел сказать – тигр… голодать?
Она вновь удалилась. От пяти до семи дней, сообщила она по возвращении. Тигры в диком состоянии могут потреблять от сорока до шестидесяти фунтов за раз, а после этого ничего не есть целую неделю. Так что вполне можно сказать, что без еды они могут обходиться от пяти до семи дней.
А где они покупают мясо для тигров?
Они берут забракованное, сообщили ему и дали имена мясников, которые таким торгуют.
Забракованное мясо! – подумал Яхин-Боаз, положив трубку. От этой мысли ему стало неуютно. Забракованное мясо, ну уж нет. Лучше он сэкономит на чем-нибудь другом.
Потом он вновь озаботился колесом. Свою жизнь он увидел как след колеса, отпечатавшийся в пустыне, оставленный этим непреклонным и чудовищным качением вперед. Ему хотелось заставить льва понять: колесо, что вечно уносило невредимого царя прочь от него, уносило царя и от него самого. Сколько бы колес ни было там, в реальности колесо только одно. Колесо на повозке с клеткой, привезшей льва к месту его гибели, было колесом царской колесницы, поспешно несущей царя к его будущей смерти. Есть лишь одно колесо, и ничто и никто не могут с ним ничего поделать.
Яхин-Боаз взял на складе другой экземпляр книги по искусству и несколько раз в тот день заглядывал в него. Часто еле сдерживался, чтоб не разрыдаться. Ему хотелось купить книгу, но он подумал о стоимости бифштекса и просто взял ее почитать. Когда магазин закрылся, он поспешил с книгой домой, а по пути зашел купить мясо.
У мясника он посмотрел на туши, висевшие на крюках, загляделся на их наготу.
Весь вечер он сидел за письменным столом, безмолвно, с книгой перед собой, рассматривая фотографию льва, вцепившегося зубами в колесо. Гретель уже начала разбираться в его настроениях и привыкла к ним. Уже не спрашивала Яхин-Боаза, почему у него порой бывает такое лицо.
Он знал, что до рассвета выйдет и встретит льва. Чувствовал себя приговоренным к смерти – и очень удивился, обнаружив, что хочет предаться любви. Бывали времена, когда ему казалось, что различные части его не подчиняются единому руководству.
После он лежал, глядя на тленье ночного неба над большим городом. Затем уснул, ему снилось, будто он бежит по исполинской карте карт, а обод колеса громадной колесницы с бронзовыми шипами катится за ним, царапает спину, вырывает из нее плоть, все время настигает его.
Проснулся он в половине пятого, напрочь позабыв свой сон, вымылся, побрился, оделся и вышел наружу, прихватив мясо для льва.
Яхин-Боаз увидел его сразу же, как только сделал шаг из здания. Лев разлегся прямо на мостовой через дорогу, и свет от фонаря сверху чертил резкие черные тени под его нахмуренными бровями.
Он уже знает, что я знаю, кто он такой, подумал ЯхинБоаз. Мы с ним земляки. Ноги у Яхин-Боаза ослабли, под ложечкой похолодело. Он хотел и не хотел приближаться ко льву – и чувствовал, как тело само движется вперед, а ум сидит у него в голове, как пассажир, выглядывая из глаз и видя, как лев растет, а дистанция между ними сокращается.
Освещенная красная телефонная будка располагалась всего в нескольких ярдах левее, и он двинулся к ней, приближаясь ко льву по диагонали. Когда будка оказалась в десяти футах от него, а лев – в двадцати перед ним, Яхин-Боаз остановился. Вновь ощутил он запах жаркого солнца, сухого ветра, львиный запах.
Лев медленно поднялся на ноги и встал, глядя на него. Он явно отощал, заметил Яхин-Боаз.
Чуть дальше продвинулся вперед, бросил льву мясо. Тот прыгнул, вцепился в мясо, держа его между лапами, быстро сожрал, рыча. Облизнулся, глянул на Яхин-Боаза, глаза – как верные зеленые костры.
– Лев, – услышал себя Яхин-Боаз, – мы земляки, ты и я. – Голос его казался громким на пустой улице. Он поднял взгляд на темные окна квартир позади льва. – Лев, – произнес он, – ты пришел из той тьмы, куда колесо увлекло тебя. Чего ты хочешь?
Вместо ответа ум показал ему пустыню львиного цвета, поющее безмолвие под жаром солнца, когтистый солнечный свет раскрывался нескончаемо в глазах его ума, львиный свет, золотая ярость, чернота.
– Лев, – произнес Яхин-Боаз. Львиное чувство, подаренное ему умом, повергло его в робость, над ним господствовало властное присутствие льва, он понял, что ему трудно продолжать. – Лев, – сказал он, – кто я, чтоб говорить пред тобой? Ты царь среди львов, я вижу это ясно. Я – не царь среди людей. Я не ровня тебе. – Говоря, он смотрел в глаза льву, видел его лапы, хвост. А краем глаза наблюдал освещенную телефонную будку и понемногу продвигался к ней. – Но это ты, лев, высмотрел меня, – продолжал он. – Я тебя не искал. – Он умолк, услышав от себя эти слова. Лев явился из вращающейся тьмы колеса. Не вступил ли он, Яхин-Боаз, в эту тьму, ища по своей карте?
Небо быстро бледнело. Как и в первое утро, над головой медленно прохлопала крыльями ворона, устроилась на колпаке трубы. Может, та же самая ворона. При мысли о вращающейся тьме, из которой вышел лев, Яхин-Боазу захотелось прикрыть глаза и вступить в нее, но он боялся.
Потом на уме его напечатлелись слова – крупные, могучие, вселяющие веру и почтение, словно изречение бога заглавными буквами:
ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА ПРЕД ЛИЦЕМ ЛЬВА
Он чувствовал, как во сне, слои смыслов тех слов, что встали в уме его, словно высеченные в камне храма.
Яхин-Боаз закрыл глаза, ощутил, как медленно подымается в нем тьма, почувствовал в себе ее нескончаемое вращенье, положился на то, что она постоянно движется. Вновь у себя в уме увидел он солнечный свет, густые узоры цвета, испещренные падающим золотом, солнечный свет, как на восточных коврах.
С улыбкой вспомнил о тьме. Да, удобно подумал он в лучах солнца, она всегда вращается. В одну сторону. Назад хода нет. Чернота взметнулась сквозь солнечный свет, яркая от ужаса, змеистая, блистательная. В одну сторону. Назад хода нет. Я прекращу существовать в любой миг, подумал он. Мирозданья больше нет. Меня нет больше.
Он рухнул сквозь черноту, притонул сквозь время к освещенной зеленью жиже и первобытной соли, к зеленому свету сквозь тростники. Бытие, ощущал он, есть. Продолжается. Верь в бытие. Он упокоился навзничь в своем уме, ожидая вознесенья.
Из зеленого света и соли поднялся он, открыл глаза. Лев не пошевелился.
– Владыка мой Лев, – произнес Яхин-Боаз. – Я верю бытию. Я верю тебе. Я страшусь тебя и счастлив, что ты существуешь. С почтением говорю я с тобой, и кто я, чтобы говорить пред тобой?.. Имя мое – Яхин-Боаз, я торговец картами, картограф. Имя отца моего – Боаз-Яхин, он торговал картами до меня. Имя сына моего – БоазЯхин, и нынче он сидит в лавке, где я его оставил. Нет в нем любви к картам, я думаю, и, быть может, никакой – ко мне… Кто я? Мой отец в гробу своем лежал с бородой, торчавшей с его подбородка пушкой. Когда был жив, он хвалил меня и ожидал от меня многого. С раннего детства я рисовал карты четкие и красивые, ими восхищались. Мои родители ждали от меня великих дел. Для меня. Хотели для меня великого. И я, конечно, тоже его для себя желал. – Яхин-Боаз почувствовал, как горло его напрягается – звуком, вылепившимся и готовым, и рвущимся высказаться, высокой единственной нотой, бессловесной мольбой. – А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, – издал он его – этот голый жаждущий звук. Уши льва отпрянули. – Они хотели, – выговорил ЯхинБоаз. – Я хотел. Два хотения. Не одно и то же. Нет. Не то же самое.
Лев тихо присел, глаза с зелеными кострами не отрывались от лица Яхин-Боаза.
– Как звучит не-хотение, владыка мой Лев?
Лев встал на лапы и заревел. Звук заполнил всю улицу, подобно паводку, великой реке, звучащей львиным цветом. Из своего времени, со смуглого бега по равнинам, из ловушки и падения, из прямоугольника синего неба над головой, из своей смерти на копьях на сухом ветру вперед во тьмы и огни, что вращаются к утреннему свету над городом и рекой с ее мостами, лев послал свой рев.
Яхин-Боаз плыл по реке звука, шел по долине его, шел ко льву и к глазам его, уже янтарным поутру.
– Лев, – произнес он. – Брат Лев! Лев Боаз-Яхинов, благословенный гнев сына моего и золотая ярость! Но ты не только это. Ты – от нас обоих, меня и моего утраченного сына, и ты – от моего отца и меня, утраченных друг для друга навеки. Ты – от всех нас, Лев. – Он подошел ближе, вперед метнулась тяжкая когтистая лапа и сбила его с ног. Он перекатился и вскочил, рухнул к телефонной будке и оказался уже внутри, закрывая дверь, ожидая бьющегося стекла, тяжелой лапы и ее когтей, и раскрытой пасти смерти. Он лишился чувств.
Когда сознание вернулось к Яхин-Боазу, светило солнце. Левая рука ужасно болела. Он увидел, что рукав у него висит окровавленными лохмотьями, вся рука в крови, на полу телефонной будки кровь. Она еще текла из длинных глубоких разрезов, оставленных львиными когтями. Часы у него разбились, застыли на половине шестого.
Он открыл дверь. Лев исчез. На улице шевелилось еще мало что, никто не ждал на автобусной остановке. Должно быть, еще раннее утро, думал он, ковыляя к квартире и оставляя за собой кровавый след.
Он хотел сказать льву о колесе и только теперь осознал, что это совсем выскочило у него из головы.
16
Настал вечер, а Боаз-Яхин все еще был в пути. В последнем городке, где он останавливался, ему удалось заработать немного денег: он спел под гитару, купил немного хлеба с сыром и поспал на площади. Так каждую ночь можно дотянуть до утра, думал он, сидя на лавке и глядя на звезды.
Сейчас он утомился, а сумерки казались более одиноким временем, нежели ночь. Вечно дорога, говорили сумерки. Вечно угасает день. От вида движущихся по вечерней дороге фар под еще светлым небом у Боаз-Яхина теснило в горле. Он помнил, как раньше был дом, где он спал каждую ночь, – а еще отец с матерью.
Неровно тарахтя, рядом притормозил и остановился старый мятый фургон, от которого несло топливом и фермой. За рулем сидел молодой мужчина с грубым небритым лицом, щурился.
Он высунулся из окна, оглядел чехол от гитары, БоазЯхина, кашлянул.
– Какие-нибудь старые песни знаешь? – осведомился он.
– Какие именно? – спросил Боаз-Яхин.
– «Колодец»? – сказал фермер. Промычал мотив мимо нот. – Там еще о девчонке – она ждет своего ухажера у колодца, а тот все не идет. Старухи на площади ее спрашивают, сколько раз удастся ей наполнить кувшин. А девчонка смеется и говорит, что не наполнится он до той поры, покуда не увидит она улыбку милого…
– Я ее знаю, – сказал Боаз-Яхин. Он спел фермеру припев:
– Точно, – сказал фермер. – А «Апельсиновую рощу»?
– Да, – ответил Боаз-Яхин. – Ее тоже.
– Ты куда едешь? – спросил фермер.
– В порт.
– До него тебе еще день, если не больше. Хочешь денег заработать? А потом я тебя туда подброшу.
– А что надо делать? – спросил Боаз-Яхин.
– Поиграешь для моего отца, – объяснил фермер. – Споешь ему. Кончается он. – Он открыл дверцу, БоазЯхин сел, и фургон тронулся. – Его трактором переехало, разворотило всего, – сказал фермер. – Остановился на уклоне, забыл воткнуть ручник и зашел проверить зацеп у бороны. А трактор возьми да покатись на него. Всего подавил. Колесо прямо по нему проехало, половину ребер переломало, легкое разорвано. Он долго пролежал с внутренним кровотечением, пока не сообразили его поискать… Сам виноват, черт его подери. Никогда уже не задумывался о том, что творит. Ну да ладно. В общем, так оно все и вышло. Пускай послушает песни, что Бенджамин певал, а потом помрет, и все закончится… Сейчас-то он говорить не может, понимаешь. Лежит, тужится изо всех сил, лишь бы вздохнуть. Правая рука вообще не шевелится. А левой рукой, одним пальцем, пишет на тумбочке имя – Бенджамин. А Бенджамина-то я предъявить ему не могу. Вот и решил, пусть хоть песни послушает. Может, разницы и не почует. Сукин сын. – И он заплакал.
Мой второй плачущий водитель, подумал Боаз-Яхин.
– А Бенджамин – это кто? – спросил он.
– Мой брат, – ответил фермер. – Десять лет назад ушел из дома. Ему было шестнадцать тогда. С тех пор ни слуху ни духу.
Он свернул на ухабистую грунтовку. Фары глядели на камни и грязь, в открытые окна врывался стрекот сверчков. Дорогу усеивали коровьи лепехи, по обеим сторонам расстилались пастбища, пахло скотом. Жидкую травку, бледную в свете фар, будто неохотно вытягивали из земли стебелек за стебельком.
Тряска не прекратилась, пока впереди не показались освещенные окна, пока фургон не въехал в раскрытые ворота и не остановился подле сарая, крытого гофрированным железом. Позади сарая стоял хлев, сбоку – дом. Дом был угловатый и неприглядный, сложен из цементных блоков, с черепичной крышей. В дверном проеме стояла женщина, против света чернела ее грузная фигура.
– Жив еще? – спросил фермер.
– Конечно, жив, – ответила женщина. – Он уж не первый год помирает. С чего б ему сейчас-то поспешать лишь оттого, что его переехало каким-то трактором? А это кто? По-твоему, сейчас время таскать дружков на ужин или ты решил открыть молодежную гостиницу?
– Я подумал, недурно было б музыки отцу послушать, – произнес фермер.
– Ишь ты, – сказала мать. – От такого-то всем веселей станет. Да у нас нервы того и гляди полопаются, пока твой отец помирает. Тебе с такими задумками надо бы где-нибудь на курорте работать, в гостинице. Светским распорядителем.
– Тебе полегчает, если мы так и проторчим тут всю ночь, или нам все-таки можно войти? – спросил фермер.
– Заходите, добро пожаловать, развлекайтесь, устраивайтесь поудобнее, – сказала мать. Отлепилась от дверного косяка и направилась в кухню.
– Я так думаю, наш гость не откажется чего-нибудь съесть, – сказал фермер вслед своей матери.
– Что угодно, – ответила та. – Круглые сутки. Угождать вам – моя высшая радость.
Фермер и Боаз-Яхин уселись в гостиной, украшенной плохонькими картинками на стенах, миской с фруктами на буфете, коротковолновым радиоприемником, несколькими книжками да безвкусными вазами. Пробелы между вещами в комнате разделяли их, а не связывали.
– Может, пойдем глянем, как он там? – предложил фермер. – Коль помер, так есть ли прок ему петь. – Он встал, повел наверх. Боаз-Яхин с гитарой шел следом, глядя в спину, обтянутую истрепанной рубахой со всохшим в нее потом, на тяжелые широкие штаны, из одного кармана у них торчал ржавый болт, а из другого моток проволоки.
– Даже если умер, может, ему славно было бы песенку сыграть, – произнес Боаз-Яхин. – Если никто не против.
Наверху отец лежал на прочной темной кровати, а вокруг него стояла комната. Стояли стулья, стояли обои, стояли окна в стене, а за окнами стояла ночь.
У кровати высился хромированный шест с поперечиной, а у той на крюке висела пластмассовая бутыль, пластиковая трубка кормила собой большую вену в отцовой руке.
Белые бинты обматывали ему грудь и правое плечо. Кожа у него на шее и груди, необычайно открытая рас-пахом ворота, вся была сморщена, и темна, и обветрена. В других местах кожа была белой и неопытной с виду. Глаз он не открывал, голова на подушке откинута, борода торчала с подбородка пушкой. Дыхание у него свистело внутрь и наружу, трепетало, ломалось, длилось неровно.
Запястье, окрашенное, как и шея у него, выходило из тонкой белой руки, представлялось запястьем мальчишки. Ну их, эти годы, говорило запястье. Вот так я лежало на покрывале, когда кто-то другой был мужчиной, а я – мальчишкой. Тогда в моей руке ничего не было, нет ничего в ней и теперь.
В кресле у кровати сидел врач. Он был в темном костюме и сандалиях, надетых на темные носки, поглядывал на часы, поглядывал на отцово лицо.
– Больница-то в двадцати милях отсюда, – пояснил фермер Боаз-Яхину. – Неотложку вызвали, сюда не могла добраться много часов. Доктор вот приехал, сделал все, что мог, посоветовал сейчас его не ворочать.
Фермер взглянул на врача, показал на Боаз-Яхинову гитару.
Врач взглянул на отцово лицо, кивнул.
Мать внесла кофе, фрукты и сыр, пока Боаз-Яхин настраивал гитару. Кофе она налила врачу, своему сыну и Боаз-Яхину, потом уселась на стул с прямой спинкой и сложила руки на коленях.
Боаз-Яхин заиграл и запел «Колодец»:
У колодца она ждет,
Когда миленький придет…
Звук гитары круглился и ширился, отлетал от него к стоявшим стенам, возвращался к середине комнаты, говорил стенам: «Не вы. Вне вас».
Отцово дыхание свистело внутрь и наружу неровно, как и прежде. Когда Боаз-Яхин запел припев, мать подошла к окну и встала перед своим отражением в ночи:
Глубок тот колодец, и дна не видать.
Кто поцелуй подарит завтра, никто не может знать.
Боаз-Яхин запел «Апельсиновую рощу»:
Там, где роща апельсинов утром
стелет тень, было пусто
двадцать лет назад день в день.
Где в пустыне веял ветер, мы
кинули все силы, дали воду, и теперь
здесь растут апельсины.
– Ты привел трактор? – спросила у сына мать.
– Поставил в сарай, – ответил тот. – У него глаза открылись.
Отцовы глаза, большие и черные, уставились прямо в потолок. Левая рука водила по тумбочке у кровати.
Его сын нагнулся над отцовой движущейся рукой, проследил за пальцем, чертящим буквы на темном дереве тумбочки.
– П-Р-О… – прочел он. Палец двигался дальше. – Прости, – сказал сын.
– Вечно его шуточки, – произнесла мать.
– Бенджамина-то он простит, – заметил сын. – Всегда.
– Может, он имел в виду вас, – сказал доктор.
– Может, он просит, – сказал Боаз-Яхин. – Для себя.
Все повернулись посмотреть на него, и в этот миг отец умер. Когда все вновь повернули головы к отцу, дыхания уже не слышалось, глаза были закрыты, рука на тумбочке не шевелилась.
Боаз-Яхин переночевал в комнате, что некогда была Бенджаминовой. Утром мать распорядилась насчет похорон, а сын повез Боаз-Яхина в порт.
Они провели в дороге весь день, лишь на полпути остановившись пообедать в кафе. Сын побрился и надел костюм со спортивной рубашкой. Когда прибыли в порт, стоял вечер. Небо показывало, что они у моря.
По крутым мощеным улочкам они спустились к воде, выехали открытой мощеной набережной у пристани к кафе с красными и желтыми лампочками, нанизанными снаружи. Огни судов и лодок, ошвартованных у пирсов, и огни зданий набережной отражались в воде.
Фермер вытащил из кармана сложенные деньги.
– Нет, прошу вас, – сказал Боаз-Яхин. – Между нами не должно быть денег. Вы дали мне что-то, я дал что-то вам.
Они пожали руки, фургон отъехал, вскарабкался по мощеным улочкам назад, к дороге, прочь от порта.
Позже, когда Боаз-Яхин размечал свою карту, он понял, что единственное имя, какое получилось дать той семье, было «Бенджамин».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































