Текст книги "Лев Боаз-Яхинов и Яхин-Боазов. Кляйнцайт"
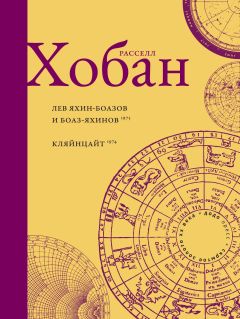
Автор книги: Рассел Хобан
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
21
Ночное небо, розовато-серое, тесно прильнуло к трубам, крышам, несмело дотронулось до черных мостов и извилистой реки. Я прекрасно, лишь когда вы на меня смотрите, говорило небо.
Я не могу быть всеми, произнес Яхин-Боаз, мудрый умом сна и зная, что сон есть сон. Слова его служили ответом, вопрос к которому был ощущеньем чего-то очень большого, чего-то очень маленького. Какая часть этого – я сам?
Ха ха, рассмеялся ответ, расхаживая в уме, который забудет его по пробуждении. Видишь, как это просто? Мужчина или женщина. Выбирай.
Что-то очень большое, что-то очень маленькое, подумал Яхин-Боаз. Есть всхлип, который я не выпускаю наружу, есть проклятье, какого не вымолвлю, есть поворот – от кого, есть черное плечо – чего?
Ну, сказал ответ, это такое место, которого ты пытался избежать, но его не избежишь.
Я могу накрыть его картой, сказал Яхин-Боаз. И тогда возникнет мир.
Он расстелил карту, такую тонкую! Как папиросная бумага. Черное плечо взметнулось сквозь нее, порвало ее. Словно со вздымающейся горы, отпал Яхин-Боаз прочь.
Я могу накрыть картой, снова произнес он, расстилая обширные мили папиросной бумаги над черной бездной. Он легко пробежал по ее поверхности, а та зыбилась на вздымавшемся жутком черном ветру. Смотри! – закричал он, проваливаясь сквозь рвущуюся папиросную бумагу. – Я не падаю!
Ну да, был ответ. Видишь, как просто? Преданный или предатель? Выбирай. Что б ни выбрал, выиграешь утрату всего.
В горле я рыдаю, сказал Яхин-Боаз.
Да, был ответ.
Я ругаюсь в темноте, сказал Яхин-Боаз.
Да, был ответ.
От меня всё отворачивается, сказал Яхин-Боаз.
Потеря нескончаема, был ответ.
Она спасет, сказал Яхин-Боаз.
Кого предал ты, ответ был.
Он спасет, сказал Яхин-Боаз.
Кто отвернулся от тебя, ответ был.
Мир там, если я крепко держусь за него, сказал Яхин-Боаз.
А что там, если отпускаешь? – ответ был. Слабо́ выяснить?
Я отпущу, если смогу держаться, пока отпускаю, сказал Яхин-Боаз. Карты лучше из львиных шкур, чем из папиросной бумаги, подумал он. Он стоял на подоконнике снаружи и смотрел вниз. Далеко под ним пожарные натянули львиную шкуру.
Не стоит говорить мне, чтоб я прыгнул, произнес Яхин-Боаз. Даже во сне.
Все мы знаем, какой «нет» формы, был ответ.
Ну да, сказал Яхин-Боаз. Мы знаем, и это знают нети.
А что, у твоих нетей рта нету? – был ответ.
Подойди-ка поближе, мрачно сказал Яхин-Боаз ответу. Тот был очень большой, а Яхин-Боаз очень маленький и испуганный. Он проснулся с быстро бьющимся сердцем, ничего не помня.
Половина пятого, сказали часы на тумбочке. Лев, должно быть, ждет. А пусть его голодает, решил Яхин-Боаз и снова уснул.
22
– Я не могу его найти, – произнес во сне Боаз-Яхин на своем языке.
– Что? – спросила девушка, лежащая рядом на узкой верхней койке в предрассветном сумраке каюты. Девушка говорила по-английски.
– Куда идти, – не просыпаясь, ответил Боаз-Яхин по-прежнему на своем языке.
– Что ты говоришь? – спросила девушка.
– Уродские карты. Не могу делать милые карты. Только где я побывал, – ответил Боаз-Яхин. – Пропал, – произнес он по-английски, просыпаясь.
– Что пропало? Ты сам?
– Который час? – спросил Боаз-Яхин. – Я должен быть в кубрике до завтрака. – Он взглянул на часы у себя на руке. Половина пятого.
– Ты всегда пропащий? – спросила девушка. Они угнездились, как две ложечки, ее нагота тепла и настойчива у его спины, рот ее – у его уха. Темнота в иллюминаторе серела. Боаз-Яхин попытался припомнить свой сон. – Так ты всегда пропащий? – сказала девушка.
Боаз-Яхину хотелось, чтобы она немного помолчала, он попытался призвать исчезнувший сон.
– Найденное всегда снова теряется, – произнес он.
– Да, – сказала девушка. – Это хорошо. Так и есть. Сам додумался или вычитал где-нибудь?
– Тш-ш, – сказал Боаз-Яхин, стараясь втиснуться вместе с нею в молчание. Иллюминатор выглядел слепым глазом в сумрачной каюте. На том круглом слепом глазу, белевшем утренним туманом по ту сторону, он, казалось, видел свою карту – ту, что по памяти начертил заново после того, как их с купцом подобрало большое белое круизное судно: его городок, его дом, дом Лайлы, одна автостанция и другая автостанция, дорога к цитадели, зал с барельефами львиной охоты, холм, на котором он сидел, дорога в порт, место, где его высадил водитель грузовика, короткая поездка с женщиной в красной машине, ферма, где умирающий отец написал пальцем ПРОСТИ, плавание «Ласточки» к Скалам Поднебесного Сына. Большой город, где, по его мысли, теперь жил его отец, а с ним – та другая, лучшая карта, карта его будущего.
Карта растаяла, остался лишь круглый слепой упорный взгляд тумана. Под этим взглядом Боаз-Яхин усомнился в том, что отцова карта хоть как-то ему пригодится. Он помнил ее большой и красивой. А сейчас она ему казалась маленькой и скученной, слишком аккуратной, чересчур уж выверенной, слишком мало осведомленной о неведомых местах, о местах ночных, ждущих за местами дневными, о тех «где-то», которые выпадают из раскрытых лон «нигде». Он себя чувствовал потерянным, как не случалось с ним после того, как он побывал со львом.
– Карты, – тихо произнес он. – Карта – мертвое тело того, где был. Карта – нерожденное дитя того, куда направляешься. Карт нет. Карты – изображения того, чего нет. Не нужна она мне.
– Как красиво, – сказала девушка. – Карт нет. А что тебе не нужно?
– Та карта моего отца, – ответил Боаз-Яхин.
– Как это хорошо, – восхищенно произнесла девушка. – Это твое? Ты пишешь? Звучит как начало стихотворения: «Та карта моего отца…» Что?
– Она его, – сказал Яхин-Боаз. – Так пусть себе и оставит. – Он отбросил простыню, перевернул девушку на живот, укусил ее за ягодицы, соскочил с койки и оделся.
– Сегодня вечером я покажу тебе свои стихи, – сказала она.
– Ладно, – произнес Боаз-Яхин, а соседка девушки по каюте, зевая, вернулась оттуда, где провела ночь. Он возвратился в кубрик и приготовился подавать завтрак первой смене.
Купца ссадили в последнем порту. Боаз-Яхин подрядился до порта приписки замещать одного списавшегося на берег посреди рейса официанта. Оттуда он мог бы по суше добраться почти до самого города, где ожидал найти отца. Боаз-Яхину больше не требовалась карта, однако он хотел найти отца и сказать ему об этом. Подавая тем утром завтрак, он думал, что скажет отцу.
Оставь ее себе, скажет он. Мне она не нужна. Мне не нужны карты. Поначалу он представлял лишь самого себя, видел и слышал, как сам произносит слова, а отца своего в уме не наблюдал. Затем попробовал представить Яхин-Боаза. Возможно, тот будет лежать в грязной постели, небритый, больной, быть может – умирающий. Или облезлый и бледный, затерянный в какой-нибудь лавчонке пыли в великом городе, или стоящий один на мосту под дождем, глядя на воду, сломленный. Что ты нашел со своей картой? – скажет он Яхин-Боазу, своему отцу. Настало ли у тебя то будущее, какое ты так ярко мне описывал? Стал ли ты от него счастлив?
Звякали тарелки, музыка играла безымянно свои мелодии, какие всегда одинаковы в аэропортах, барах и лифтах, ссорились между собой дети и оставляли яичницу несъеденной. Родители сидели рядом, а их повседневные лица и шеи выпирали из выходной одежды, губчатые спины и дряблые руки женщин в платьях, открытых сзади солнцу, праздничные брюки на мужчинах с конторскими стопами. Девушки в витринах магазинов их летнего платья демонстрировали залежи, не распродававшиеся круглый год, рты их покорно приоткрыты, глаза затуманены надеждой или расчетливо остры.
Боаз-Яхин ходил, скрываясь за улыбкой, обслуживал из-за взгляда, смотрел сверху вниз на лысины, бюсты, задевал бедрами пылкие плечи, благодарил, кивал, улыбался, уносил прочь, сновал взад и вперед сквозь распашные двери и камбузные запахи. У любого присутствующего здесь были некогда отец и мать. Любой был когда-то ребенком. Эта мысль ошеломляла. От стоп мужчин в праздничных брюках ему хотелось рыдать.
Боаз-Яхин обслуживал столик девушки, с которой спал минувшей ночью. Она вылепила ртом слово «привет», коснулась рукой его ноги. Он посмотрел ей в вырез платья на груди, подумал о прошлой ночи и о ночи грядущей. Когда же поднял голову – увидел, что на него смотрит ее отец.
Отцово лицо хлопотало очками в роговой оправе и бородой. У отца были печальные глаза. Эти глаза вдруг заговорили с Боаз-Яхином. Ты можешь, а я не могу, сказали отцовы глаза.
Боаз-Яхин перевел взгляд на мать, смотревшую на отца. Ее лицо говорило нечто такое, что часто говорило и лицо его матери. Но он никогда не обращал внимания на то, чем оно было. Забудь это, помни то, говорило ее лицо. Какое такое это требовалось забыть? И какое то – помнить? Боаз-Яхин подумал о дороге в порт и о времени после того, как его высадил водитель грузовика, когда Боаз-Яхину показалось, что он способен разговаривать с животными, деревьями, камнями.
За окнами ресторана искрилось под солнцем море. Проплыла часть какого-то острова, кучка руин, развалины крепости, колонны храма, две фигуры на холме. В воздушных потоках подле судна воспаряли и опадали чайки. Это, сказало море. Только это. Что? – подумал Боаз-Яхин. Кого? Кто выглядывает из глазниц у меня на лице? Никто, сказало море. Только это.
– Спасибо, – поблагодарил Боаз-Яхин, обслужив мать и отведя взгляд от ее бюста.
Той ночью он вновь отправился в девушкину каюту.
– Подожди, – сказала девушка, когда он принялся стаскивать с себя одежду. – Я хочу прочесть тебе стихов.
– Я просто хочу поудобнее устроиться, – ответил Боаз-Яхин. – Слушать я могу и без одежды.
– Ладно, – сказала она и вытащила из ящика толстую папку. Море и небо снаружи были темны, напор судна рассекал его светящуюся волну от носа, гудели машины, жужжали кондиционеры, лампа у койки создавала уютное зарево.
– Они почти все без названий, – сказала девушка и начала:
Смоль скал вскипает в нетях неба,
Лишь смоль, неба нет над
Далью дольней, извитой
Реки багреца, утл, черен мой
Челн, мертв
Груз-Бог, гнетет
Лодку, слеп глаз.
Слеп у меня в межножье истукан отца…
– Черт, – вырвалось у Боаз-Яхина. – Опять отец.
…Лиши плевы смерть, осемени
Мой разгром, восстань из ничего,
Возжелай дочь.
Лот был опоен, соль
Жены за спиной, столп
В пустыне. Камень – мой лот, мертв
Кормщик-Бог.
Слепец,
Зри
Звезду.
– Что думаешь? – спросила девушка, окончив читать.
– Не хочу думать, – ответил Боаз-Яхин. – Можно мы немного не подумаем? – Он стянул с нее майку, поцеловал ей груди. Она увернулась от него.
– Это все, что я такое? – сказала она. – Что можно схватить, что можно сношать?
Боаз-Яхину удалось укусить ее за бок, но уже с меньшей убежденностью. Она сидела без движения, выглядела задумчивой.
– Ты красивый, – ероша ему волосы, произнесла она. – А я тебе красивая?
– Да, – признал Боаз-Яхин, расстегивая на ней джинсы. Она откатилась по-прежнему в джинсах.
– Вовсе нет, – сказала она. Лежа на животе, она листала свои стихи в папке. – Ты так говоришь, потому что хочешь сношаться. Не предаваться любви, а именно сношаться. Я тебе никакая не красивая.
– Идет, – согласился Боаз-Яхин. – Ты мне никакая не красивая.
Он спрыгнул на пол и натянул брюки.
– Вернись, – сказала она. – Ты и это не всерьез.
Боаз-Яхин опять стащил брюки и вскарабкался на койку. Когда оба стали голы, он взглянул сверху ей в лицо.
– Теперь ты красивая, – сказал он.
– Черт, – произнесла она и отвернулась. Она лежала, отвратив лицо, недвижная, пока Яхин-Боаз пытался предаться любви. – Ох, – хныкнула она.
– Что такое?
– Мне больно.
Боаз-Яхин потерял эрекцию, вытащил.
– Ну его к черту, – сказал он.
– Дочерям положено сексуально привлекать отцов, – сказала она, когда он надувшись лежал рядом, – а я нет. Я и ему не красивая. Однажды он сказал мне, что мальчики будут любить меня за мой ум. В каком-то смысле гад он.
– Боже мой! – произнес Боаз-Яхин. – Меня уже так тошнит от этих отцов! – Он уселся, свесив ноги с края койки.
– Не уходи, – произнесла она. – Черт бы драл, неужели я должна вымаливать каждую паршивую минуту человеческого общения? Неужто я должна платить своей киской за каждую минуту внимания? Ты что, не можешь поговорить со мной, как одна личность с другой? Дать что-нибудь еще, кроме своего хера? Да и тот не дается – ты только берешь.
Боаз-Яхин почувствовал, как детство его исчезает, как будто его запустили из него на ракете. Словно бы древне зная, понял он, что невинность и простота отчалили из его жизни. Он застонал и откинулся на подушку, вперившись в подволок. Лайла казалась давным-давно, ее больше не найти.
– Чего ты от меня хочешь? – спросил он.
– Поговори со мной. Будь со мной. Будь со мной, а не с моими частями.
– О боже, – произнес Боаз-Яхин. Она права. Он не прав. Он никогда не хотел быть с ней. В начале почувствовал, что она не станет возражать, а ему требовалась девушка, с которой понежиться, просто никто. Но все – кто-то. Он проклял свое новое знание. Эту девушку он знал всего несколько дней, и уже показалось, что вся жизнь – ошибка. У него возникло чувство, что они с ней в одной связке на холодном отвесном склоне. Он ощутил громадную усталость.
– Что? – спросила она, глядя ему в лицо. – Что случилось?
Боаз-Яхин глядел в подволок, вспоминая Лайлу и первую ночь с ней на крыше, яркие звезды, каково было ощущать, что тебе хорошо и ты ничего не знаешь. Лев вступил ему в ум и пропал, оставив пустоту, что понуждала его вперед.
– Что ты хочешь делать? – спросила девушка. – В смысле, не сейчас. Вообще, в жизни.
А что я хочу делать? – подумал Боаз-Яхин. Хочу найти отца, чтобы сказать ему, что мне не нужна его карта. Карьерой это не назовешь.
– Черт, – произнес он вслух.
– Да ты интеллектуал, – отметила девушка. – Настоящий глубокий мыслитель. Попробуй выразить себя словами – так, для разнообразия.
– Я не знаю, чем буду заниматься, – произнес БоазЯхин.
– Ты очень интересный человек, – заключила девушка. – Такие интересные личности не каждый день попадаются. Расскажи мне о себе побольше. Раз мы теперь побывали в постели, давай познакомимся. Ты вообще хоть чем-нибудь занимался? Писал стихи, к примеру, или рисовал? Играешь ли на музыкальном инструменте? Я пытаюсь вспомнить, почему я пошла с тобой в постель. Ты был красивый и сказал что-то хорошее. Сказал, что ищешь своего отца, который искал льва, а я сказала, что львов больше нет, а ты сказал, что есть один лев и одно колесо, а я сказала, что это красиво, а потом тебе хотелось только сношаться.
Боаз-Яхин был уже на полу и одевался.
– Я играю на гитаре, – сказал он. – Я начертил уродскую карту и потерял ее, а потом начертил другую. Как-то раз я срисовал с фотографии льва. Я никогда не писал стихов. И картин никогда не писал. – Он был зол, но, произнося это, вдруг безответно воодушевился, возгордился. Было в нем что-то, не слившееся в стихах или картинах, нечто неведомое, недоступное, но не уменьшенное, нетронутое, оно ждало, чтобы его нашли. Попытался это отыскать, нашел лишь пустоту и тогда устыдился, смирился, ощутил, что ошибался во временной своей гордыне, покачал головой, открыл дверь и ступил в коридор.
Закрывая за собой дверь каюты, он увидел, что к нему приближается отец девушки. Лицо девушкиного отца очень покраснело. Он остановился перед Боаз-Яхином, и тот увидел, что лицо его трудится под очками в роговой оправе и бородой.
– Добрый вечер, сударь, – произнес Боаз-Яхин, хотя стояла глухая ночь. Он попытался обогнуть отца, но тот заступил ему дорогу. Он был мал ростом, не выше Боаз-Яхина, однако Боаз-Яхин чувствовал свою вину и выглядел соответственно.
– Добрый вечер, сударь! – передразнил его отец девушки с ужасающей гримасой. – Добрый вечер, отец номер такой-то девушки номер такой-то. Именно так. Легко и гладко.
В уме у себя Боаз-Яхин увидел карту моря, его островов и портов. Если его высадят в ближайшем порту по жалобе пассажира, ему предстоит сделать еще один рейс, придется искать другое судно, других людей с их жизнями и историями, которые отяготят его жестким и тяжким знанием. Как будто рубашка его и все его карманы были набиты огромными комковатыми картофелинами нежеланного знания. Хотелось бы ему оказаться в конце своего путешествия, когда какое-то время не нужно ни с кем разговаривать.
– Извините меня, пожалуйста, сударь, – произнес он. Но отец загораживал ему дорогу.
– Что ты такое? – задал он вопрос. – Должно быть, жизнь для тебя – это одна девушка за другой, а иногда женщина постарше, кто приплачивает за услуги. То ты – официант на лайнере, то пляжный мальчик на курорте. Тебе перепадают дочери, с которыми их отцы ночей не спали, когда те болели, выслушивали об их неприятностях, желали им всего лучшего. А тут ты со своим гладким лицом, ясными глазами и длинными волосами.
Боаз-Яхин сел на пол, положив руки на поджатые к груди колени. Он покачал головой. Почти готов был расплакаться, но засмеялся.
– И тебе это смешно? – произнес отец.
– Вы не знаете, над чем я смеюсь, – сказал БоазЯхин. – У меня ничего не получается легко и гладко, и моя жизнь далеко не череда девушек – это скорее череда отцов. И было б вам легче, окажись у меня морщинистое лицо, слезящиеся глаза и короткие волосы? Ваша дочь тогда пошла бы в монахини?
Лицо его собеседника смягчилось за очками и бородой.
– Трудно отпускать, – сказал он.
– И держаться трудно, – сказал Боаз-Яхин.
– За что? – спросил тот.
– За колесо, – ответил Боаз-Яхин.
– А, – произнес отец. – Это колесо я знаю. – Он улыбнулся и сел рядом с Боаз-Яхином. Они сидели на полу и улыбались, а судно гудело, жужжали кондиционеры, и темное море скользило по обоим бортам.
23
Темнота ревела со львом, ночь кралась его безмолвием. Лев был. В неведении о не-существовании он существовал. В неведении о себе самом он был весь залитая солнцем ярость со спокойной радостью в середке, он был ярость бытия-охотником, вечно возрождающаяся, чтобы пожрать не-бытие. Колесо было, когда он смугло несся по равнине, впечатывая свое движенье в благодарный воздух. Прежде он умер, вцепившись зубами в колесо, что прокатилось дальше и оставило его мертвым. Колесо длилось, длился лев. Он был невредим, ничем не умаленный, ничем не возвеличенный, абсолютный. Ел он или не ел мясо, был зрим или незрим, познан, когда было о нем знание, не познан, когда знания не было. Но всегда он был.
Не было для него ни карт, ни мест, ни времени. Под его поступью катила круглая земля, вращалось колесо, снова вознося его к смерти и жизни. Через его бытиельвом скользили звезды и чернота, пело утро, утишала ночь, заря прорывала свой дневной свет из лона жизненного ужаса. Океаны вздымались, хрупкие мостики смыкали извилистый след дней, восходящий воздух пел львиный полет в крыльях птиц. В часах тикало львиное время. Оно билось в ударах сердца, в шагах, бредущих, ничего не ведая, в душах повинных и горестных, душах любви и боли. Его призвали, он пришел. Он был.
24
После своей последней встречи со львом Яхин-Боаз чувствовал себя незрелым, глупым, потрясенным. То, что лев повернулся теперь к нему спиной, пугало еще больше, чем нападение накануне. Словно настоящее изрыгнуло его, как Иону. Он лежал на сухой земле, хватая воздух ртом, под оком взыскующего Бога.
– Бога нет, – произнес он, – зато взыскания существуют, поэтому с такой же вероятностью может существовать и Бог. Возможно, он, в конце концов, и есть.
– Люди всегда думают, что Бог с ними, – заметила Гретель. – Но Бог, возможно, в мебели или с камнями.
Иди и проповедуй[4]4
Марк 16:15, парафраз. – Примеч. ред.
[Закрыть], вспомнил Яхин-Боаз, умом попрежнему с Ионой. Царь спит со своими колесницами, львы мертвы. Я не отметил львиный дворец на моей карте карт. На Боаз-Яхиновой карте карт. У меня есть лев, и ему я уже рассказал о ковбойском костюме.
Он попытался вспомнить, почему прежняя жизнь казалась ему невыносимой. Признаться, он не чувствовал себя цельной личностью, но, по крайней мере, был умеренно удобно устроившимся неудачником, кому достает всего, кроме яичек. Вот если б ему перепадали угождения нены, вернее – жены, но без самой жены! Поблудится, получится ли без нее обойтись, он сомневался. Несмотря на новообретенную мужественность, у него ничего не было, он был ничто. Изумлялся тому, что и дальше предается любви с Гретель. Что-то живет во мне собственной жизнью, полной аппетита, подумал он. Где я, когда это происходит? На какой карте?
Отчего мне теперь страшно? – думал Яхин-Боаз. Импотентом я был в безопасности. Яйца иметь небезопасно. Сейчас я буйствую, как жеребец, а душу мою тошнит от ужаса. Жеребцы наверняка не боятся, львы не боятся. У меня есть лев. У меня нет льва – это я у льва есть. Лев меня галлюцинирует. Это льву рано поутру является Яхин-Боаз. Импотентом мне было надежно. Что это за чепуха была, мол, желаю мужского достоинства, раз я такой идиот? Пусть его голодает, лев этот. Не желаю его видеть. Пускай передают что угодно, я не стану принимать.
Несколько дней Яхин-Боаз, просыпаясь в положенное время, засыпал снова, дуясь, а в воображении его лев тощал день ото дня. Рядом с ним каждое утро в половине пятого просыпалась Гретель и с закрытыми глазами ждала, когда он выйдет, – а Яхин-Боаз снова засыпал и видел сны, которых не мог припомнить.
Яхин-Боаз видел сон. Он смотрел в микроскоп на подсвеченную каплю воды. В воде плавала зеленая сферическая форма многоклеточной животной водоросли. Тысячи крохотных шевелящихся жгутиков на ее поверхности вращали изумрудный шарик водоросли, как маленькую землю.
Яхин-Боаз усилил увеличение, вгляделся глубже в одну из сотен клеток. Ближе, ближе сквозь светящуюся зелень. О да, сказал он. В блистающем поле линзы совокуплялись нагие фигурки его отца и матери, а вокруг них сплошь темнота. Такие большие, а он такой маленький. Плечо, отвертывающееся внутри светящегося зеленого мира в капле воды.
Клетка съежилась, уменьшилась, отступила в зеленый вертящийся мир, что вновь закрылся, а жгутики толкали его искристыми оборотами.
В отличие от бесконечно длящейся бесполой амебы, произнес лектор, данный организм различил в себе мужские и женские клетки. Происходит половое размножение, а вслед за ним – другое явление, не известное амебе:
смерть. Как выразился один естествоиспытатель: «Оно должно умереть, ибо завело детей и более не нужно». Потому-то это колесо умирает. Изобретение колеса – ничто по сравнению с изобретением смерти, а это колесо изобрело смерть.
Яхин-Боаз вновь усилил увеличение, опять всмотрелся в ту же клетку. Темнота среди сияния. Его мать вскрикнула. Лектор, кивая в своем обсыпанном мелом сером костюме, отгородил его от того, что происходило в темноте. Это колесо, породившее смерть, сказал он.
Яхин-Боаз швырнул себя в темную сияющую трубу микроскопа, увидел зеленое колесо, что светилось перед собой, запрыгнул на него, прижимая его к себе, пытаясь остановить его вращенье.
Колесо не умрет, сказал он, кусая его, чуя на вкус его влажную зелень. Это колесо породило детей, но он не умирает. Умирают львы.
Пожалуй, это род интеллектуального самоубийства, произнес лектор, глядя сверху на Яхин-Боаза, лежащего в бумажном гробу, с бородой, наставленной на лектора, чья борода тоже нацелилась вниз на него.
Теперь вы мертвы, сказал Яхин-Боаз лектору. Но крышка бумажного гроба опустилась на Яхин-Боаза. Нет, произнес он. Вы, не я. Поверните все вспять. Пусть вместо него умрут маленькие зеленые клетки. Вечно мне умирать. Тогда был я, и теперь тоже я. Когда мой черед, когда умрут другие?
Оно вращается дальше, но это не твой черед, сказал лектор. Он никогда не настанет.
Мой черед, произнес Яхин-Боаз. Он отходил от гроба, оглядываясь на него и замечая, что тот стал гораздо короче, нежели прежде. Из него не торчала отцова борода. Рука, державшая карту, стала меньше, моложе. Мой черед, мой черед, заплакал он, почуял льва, заплакал и захныкал во сне.
Гретель проснулась, оперлась на локоть, посмотрела на Яхин-Боаза в тусклом свете, посмотрела на его перебинтованную руку, которую он вскинул к лицу. Взглянула на часы. Четыре утра. Она повернулась на бок, спиной к Яхин-Боазу, и лежала так без сна.
В половине пятого Яхин-Боаз проснулся, ощущая усталость. Того, что приснилось, он не помнил. Вымылся, побрился, оделся, взял мясо для льва и вышел из дому.
Лев стоял через дорогу. Яхин-Боаз приблизился к нему, швырнул мясо, посмотрел, как лев ест. С засевшим в ноздрях львиным запахом повернулся и, не оборачиваясь, направился к набережной.
Когда Яхин-Боаз и лев немного отошли по улице к реке, из-за угла дома, где жил Яхин-Боаз, выступил полицейский констебль. И тут же отступил назад, потому что из дома вышла Гретель, полностью одетая и с хозяйственной сумкой в одной руке.
Гретель посмотрела в сторону реки, затем последовала за Яхин-Боазом и львом.
Констебль немного выждал, затем последовал за Гретель.
Яхин-Боаз шел вдоль набережной по той стороне, что была дальше от реки. Остановился он рядом с садом, над которым высилась статуя человека, некогда обезглавленного после теологического диспута с королем[5]5
Имеется в виду Томас Мор (1478–1535), английский государственный деятель и писатель. Ревностный католик и сторонник верховной власти папы, Мор отказался дать присягу королю Генриху VIII как главе английской церкви, после чего был обвинен в государственной измене и казнен. (Его статуя работы английского скульптора Лезли Кьюбита Бивиса [ок. 1892–1984] установлена в Лондоне на набережной Челси в 1969 г. – Примеч. ред.)
[Закрыть]. На мостовой стояла скамейка. Рядом – телефонная будка. Небо было затянуто, предрассветный свет сер, над тихой рекой чернели мосты.
Яхин-Боаз повернулся и встал лицом ко льву. Дальше по улице девушка с хозяйственной сумкой шагнула в дверной проем. За нею на боковую улицу свернула темная мужская фигура. Больше никого видно не было.
Яхин-Боаз сел на скамейку. Лев лег на мостовую в пяти ярдах от него, не сводя глаз с Яхин-Боазова лица.
– Вечно хмурый, как мой отец, – сказал Яхин-Боаз. – Как мне было становиться ученым, отец Лев? Наука – это постигать. Что я тогда мог постичь? Постижением всегда занимались другие, они постигали, что во мне есть, что из меня должно выйти, что мне лучше всего. Я же не постигал, кто я такой, чего хочу. Теперь я постигаю меньше и мне страшно.
Звук собственного голоса и слова, что он говорил, прискучили Яхин-Боазу. Он ощутил, как его затопило волной раздражения. Не желал он говорить того, что говорил. Чего хочет этот лев? Лев был настоящий, мог его убить – очень даже мог в любой миг. Яхин-Боаз почувствовал, как весь исчезает в ужасе, ощутил, как возвращается, движется дальше.
– Мысли мои мне бесполезны, и я не могу вспомнить свои сны. Я забыл больше своей жизни, чем помню, а с забыванием я растерял и свое бытие. Ты чего-то ждешь от меня, отец Лев. Может, лишь моей смерти. Может, ты уже опоздал. Может, я тебя к ней обогнал. Не то чтоб моя смерть мне принадлежала… Один мой учитель выразился, что я совершил интеллектуальное самоубийство, когда провалил свои экзамены. Но наука – это постигать, а как я мог что-либо постигать, как сделать из постижения профессию? Мелочи, да. Места на карте… Когда убиваешь себя, ты убиваешь мир, но он не умирает. У него было плохое сердце, так что в этом я вообще был не виноват. Почему он никогда не разговаривал со мной? Почему всегда казалось, будто он разговаривает с тем местом, где меня еще нет? Почему он всегда держал передо мной одежду, в которую мне полагалось запрыгнуть? Он разговаривал с костюмами, каких я так и не надел. Один пустой рукав поверг его. Пустое плечо от него отвернулось. Он сомкнул уста и лег, но он во мне живее, чем я сам… Я – трус, и ты со мною терпелив. Ты – благородный лев. Ты хочешь, чтобы смерть моя встала во мне, как мужчина, прежде чем ты набросишься. Ты презираешь все, что отворачивается… Но если ты убьешь меня, я стану еще живее, чем когда-либо, сделаюсь крепким, как медный колесный обод. Мой сын почувствует меня, тяжкого и незавершенного, на своей спине, громадой у себя в уме.
Яхин-Боаз помолчал, затем встал.
– Возможно, я тоже никогда не говорил со своим сыном, – произнес он, – а разговаривал с тем местом, где его не было. Теперь я говорю с тобой, его гневом. Встану перед тобой, посмотрю на тебя. Если я не смотрел на него, то теперь хоть посмотрю в глаза тебе, его ярости. Моей ярости. Могу ли я реветь, как ты? Могу ли исторгнуть крупный звук цельного гнева? – Яхин-Боаз попробовал зарычать, зашелся в кашле.
Лев присел, собираясь перед прыжком, хлеща хвостом по бокам. Лев взревел, и река львиного рыка покатилась рядом с другой рекой, громовая под расколотым небом.
– Нет! – закричала Гретель, подбегая ко льву сзади. – Нет! – Она отбросила прочь сумку, и теперь в ее руке был нож, который она там прятала. Она держала нож, как держат его в драке, лезвие продолжало линию ее запястья, готовое бить вглубь и вверх.
– Назад! – завопил Яхин-Боаз. Но лев повернулся на звук голоса Гретель. Яхин-Боаз увидел, как собрались к прыжку его мускулы, бросился ему на спину в тот миг, когда лев прыгнул, а пальцы его сомкнулись в гриве, лицо погреблось в грубых вонючих волосах.
Повернув голову, чтоб захватить правую руку ЯхинБоаза в челюсти, лев не допрыгнул, а Гретель отскочила.
– Эй, вы! – заорал появившийся констебль, колотя дубинкой по мостовой. – Так не пойдет! Прекратите немедленно!
– В будку! – закричал ему Яхин-Боаз. – Закройте ее в телефонной будке!
Но Гретель уже бросилась на льва, вогнала нож ему в горло. Густая грива отвела лезвие отчасти, но оно вошло, и лев выпустил руку Яхин-Боаза и теперь мотнул головой к Гретель.
– Эй, вы! – кричал констебль. Он оттаскивал Яхин-Боаза от льва и отталкивал Гретель.
Сильный, как безумец, Яхин-Боаз бросился, раскинув руки, на Гретель и констебля, шарахнул их обоих о телефонную будку. Вместе с Гретель они отпихнули констебля, чтоб не мешал, и успели отворить дверь, затем грубо втолкнули его внутрь.
– Ну уж нет, – произнес констебль, лицо красное. Уже много раз доводилось ему вмешиваться в семейные ссоры, и не единожды воюющие стороны вот так обращались против него. Одновременно он поймал Гретель за запястье той руки, которой та держала нож, и двинул Яхин-Боаза коленом в промежность.
– Болван! – ахнул Яхин-Боаз, сползая от боли на пол. В красном и золотом мареве с черными падучими огнями он чувствовал ярость, что была слишком велика для его тела, слишком сильна для его голоса, беспредельна, не ограничена временем, янтарноока и когтиста.
– Боже правый! – произнес констебль, воззрившись через стекло на улицу. – Там же лев!
– Ага! – произнес Яхин-Боаз, ликуя. – Теперь вы его видите! Ну и как он вам? Он большой, он сердит. Никому не может отказать, э?
Зажатый между Гретель и стенкой телефонной будки, констебль отчаянно извивался, а Гретель, окровавленный нож все еще в руке, свирепо взглянула на него.
– Прошу прощения, сударыня, – произнес констебль. – Я пытаюсь дотянуться до трубки. – Он еще раз взглянул через плечо на льва, набрал номер околотка, оглянулся опять.
Потом назвал себя, доложил о своем местонахождении.
– Я думаю, нам здесь понадобится, – говорил он, – бригада пожарных с помпой. И большая сеть. Крепкая. Нет. Не пожар. Вообще-то животное. Да, я бы так сказал. С крепкой клеткой, знаете, как можно быстрее. И «скорую помощь». Ну, скажем так – крупный хищник. Нет, я – нет. Ладно, тигр, если настаиваете. Откуда мне знать? Да, буду оставаться на месте. До скорого.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































