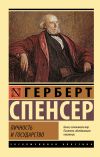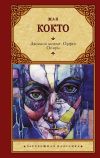Читать книгу "Опиум интеллектуалов"
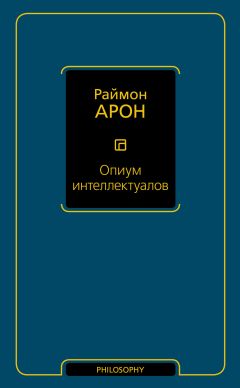
Автор книги: Раймон Арон
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Советский Союз, может быть, через несколько десятилетий откроет свободное поприще для исследований Парижской школы. А пока он объявляет искусство декадентским и извращенным, его же потом будет отвергать и Гитлер. Настоящее новшество – это случай Фужерона[15]15
Фужерон (1913–1998) – живописец, представитель нового реализма во французском искусстве, член компартии Франции с 1939 года. Основные темы полотен – жизнь и социальная борьба французского народа. – Прим. перев.
[Закрыть]: затронутый политической милостью один из художественных авангардистов пытается создать академизм, соответствующий его вере.
Авторитет морального нонконформизма происходит из того же самого недоразумения. Группа литературной богемы ощущала свою связь с ультралевыми. Активные социалисты отвергали буржуазное лицемерие. В конце XIX века либертарианские идеи – свободная любовь, право на аборт – были распространены и в среде политически прогрессивных слоев. Подобные пары считали делом чести не представать перед гражданскими властями, и слово «компаньонка» звучит лучше, чем жена или супруга, в котором ощущалась буржуазность.
«Мы изменили все это». Брак, семейные добродетели превозносятся на родине революции, развод и аборт остаются легальными при некоторых обстоятельствах. Но официальная пропаганда с ними борется, призывает людей подчинять свои удовольствия или страсти превышающим их интересам, интересам самого общества. Бо́льшего не могли бы потребовать и традиционалисты.
Историки несколько раз подчеркивали склонность революционеров к добродетели, свойственной как пуританам, так и якобинцам. Эта склонность определяет тип революционеров-оптимистов, которые требуют и от других такой же непорочности. Большевики тоже охотно порицают развращенность. Развратник, с их точки зрения, подозрителен не потому, что он пренебрегает общепринятыми правилами, но потому, что предается порокам, потому, что он слишком много времени и сил посвящает бесполезной деятельности.
Возрождение семьи – это совсем другой феномен. Он отмечает возврат к повседневной жизни, разрушенной навязчивыми политическими идеями. Институты семьи чаще всего выживают в потрясениях государства и общества. Поколебленные крушением старого порядка, эти институты восстанавливаются по мере того, как устанавливается новый порядок и победившие элиты начинают верить в себя и в будущее. Разрыв традиций иногда оставляет наследие освобождения. В Европе авторитарные структуры семьи были частично связаны с авторитарной структурой Государства. Та же самая философия побуждает гражданина признавать избирательное право и право на счастье. Каким бы ни было будущее коммунизма в Китае, большая семья будет там существовать и дальше, как она существовала на протяжении веков. А освобождение там женщин, вероятно, является определенным достижением.
Критика моральных условностей служит связующим звеном между политическим и литературным авангардом, и кажется, что атеизм связывает метафизику мятежа с политикой революции. Еще мне кажется, что последняя пользуется заимствованным авторитетом; ее считают виновной в упразднении гуманизма.
Марксизм развился начиная с критики религии, которую Маркс унаследовал от Фейербаха. Человек сравнивается с Богом, перенимая его совершенства, которыми он вдохновляется. Бог вовсе не является создателем человечества, он всего лишь кумир воображения. На этой земле люди должны пытаться достигнуть совершенства, которое они сами спроектировали и которое пока еще ускользает от них. Почему такая критика обязательно должна была привести к революционной необходимости?
Революция не смешивается с сутью действия, она всего лишь условие. Всякое действие на самом деле есть отрицание данного состояния, но в этом смысле реформы не меньшее действие, чем революция. События 1789 года внушили Гегелю одну из идей, которая стала революционным мифом: насилие на службе разума, если только не считать борьбу между классами ценностью самой по себе, усилие, чтобы отторгнуть пережитки и построить общество, соответствующее нормам духа, – это не требует внезапного разрыва с прошлым и гражданской войны. Революция не есть неизбежность или призвание, она – нечто среднее.
В самом марксизме содержатся три принципа, расходящиеся с революцией: бланкистская концепция взятия власти небольшой группой вооруженных людей, которые, став хозяевами государства, преобразуют ее институты; эволюционная концепция: будущее общество должно «вызреть» внутри существующего общества до того момента, когда последнее охватит окончательный и спасительный кризис; и наконец, принцип перманентной революции: рабочая партия постоянно усиливает давление на буржуазные партии, она использует реформы, на которые соглашаются последние, чтобы «подложить мину» под капиталистический порядок и подготовить одновременно и свою победу, и наступление социализма. Эти три принципа оставляют необходимость существования жестокости, но второй принцип, менее всего соответствующий темпераменту Маркса и лучше согласованный с марксистской социологией, откладывает момент разрыва на неопределенное будущее.
В каждую эпоху конкретно рассматриваемое общество обнаруживает отчетливые элементы времени и стилей, которые легко можно было бы объявить несовместимыми. В Великобритании в наше время существуют монархия, парламент, профсоюзы, бесплатное здравоохранение, воинская повинность, национальные угледобывающие общества, Королевский военный флот. Если исторические режимы совпадали с сутью того, что мы им приписываем, может быть, революция была бы неизбежной, чтобы переходить от одного к другому. Переход от несовершенного капитализма к приблизительному социализму, от аристократического и буржуазного парламентаризма к ассамблеям, где заседают представители профсоюзов и партий народных масс, теоретически не требует, чтобы люди уничтожали друг друга. Это решают обстоятельства.
Исторический гуманизм – человек в поисках самого себя через последовательность режимов и империй – приводит к культу революции только через догматическое смешение постоянного вдохновения и некоторого технического действия. Выбор методов происходит не из философских размышлений, но из опыта и мудрости, по крайней мере классовая борьба, чтобы выполнить свою историческую миссию, не должна громоздить трупы. Почему примирение всех людей должно происходить вследствие победы только одного класса?
Маркс прошел путь от атеизма до революции с помощью исторической диалектики. Многие интеллектуалы, не желающие ничего знать о диалектике, тоже пойдут от атеизма к революции не потому, что она обещает примирить людей или разрешить тайну истории, а потому, что она разрушает убогий и ненавистный мир. Между литературным и политическим авангардом есть соучастие ненависти, испытываемой против установленного порядка или беспорядка. Революция пользуется авторитетом мятежа.
Слово «мятеж» сейчас в моде, как и слово «нигилизм». Его используют так охотно, что в результате не знают, что оно точно означает. Интересно, подписалось бы большинство писателей под формулой Андре Мальро: «Именно обвиняя жизнь, я нахожу главное достоинство мысли, а всякая мысль, которая оправдывает мир, обесценивается, как только она есть что-то другое, кроме надежды». Конечно, в ХХ веке легче обвинить мир, чем оправдать его.
Метафизика и мятеж отрицают Бога, существование которого религия и спиритуализм традиционно относили к основам ценности или морали. Метафизика заявляет об абсурдности мира и жизни. Исторически мятеж разоблачает любое общество или современное общество. Мятеж часто приводит к новому обществу, но ни он, ни разоблачение не приводят неизбежно к революции или к ценностям, которые должны воплотить дело революции.
Тот, кто объявляет о судьбе, которую готовит людям мир, лишенный смысла, иногда объединяется с революционерами потому, что негодование или ненависть приводят совсем к другому видению, потому, что разрушение в конце концов успокаивает только разочарованное сознание. Но так же логично, что это рассеет иллюзии, навязываемые неисправимыми оптимистами, которые продолжают бороться с социальными симптомами человеческого несчастья, чтобы не измерять глубину страданий. Такой бунтовщик видит в самом действии результат бесцельности судьбы, а другой мятежник замечает в нем лишь недостойное развлечение, не желая видеть суетности своего состояния. Триумфально шествующая сегодня партия революции обременяет своим презрением наследие Кьеркегора, Ницше или Кафки, свидетелей буржуазии, которое не утешилось со смертью Бога, потому что оно осознает свою собственную смерть. Революционер, не бунтовщик, обладает превосходством и смыслом: это – историческое будущее.
Бунтовщики, и это правда, восстают против установленного порядка. Они видят только договоренность или лицемерие в большинстве запретов и социальных императивов. Однако некоторые все-таки утверждают ценности, обычно принятые в их среде, тогда как другие восстают против своего времени, но не против Бога или судьбы. Русские нигилисты середины XIX века именем материализма и эгоизма на самом деле присоединились к буржуазному и социалистическому движению. Ницше и Бернанос[16]16
Бернанос (1888–1946) – писатель, участник Первой мировой войны, католик, монархист. Выступал противником буржуазного мышления, которое, как он считал, привело Францию к падению в 1940 году. – Прим. перев.
[Закрыть], – второй, думая, а первый, провозглашая смерть Бога, – являются настоящими нонконформистами. Они оба, один от имени предчувствуемого будущего, а другой – представляя идеализированный образ старого режима, говорят не о демократии, а о социализме, о власти масс. Они враждебны или безразличны к подъему уровня жизни, к развитию мелкой буржуазии, к техническому прогрессу. Они испытывают ужас перед пошлостью, низостью, которые несут с собой электоральные и парламентские практики. Бернанос выдвигает обвинения против безбожного государства, этакий болтливый Левиафан.
Со времени поражения фашизма большая часть интеллектуалов мятежа и революции свидетельствует о безупречном конформизме. Они не порывают с ценностями общества, которое приговаривают. Французские колонисты из Алжира, корсиканские функционеры из Туниса не испытывают уважения к туземным народам и не задумываются о равенстве рас. Но правый интеллектуал во Франции не осмелился бы развивать философию колониализма, так же как русский интеллектуал не развивает теорию концентрационных лагерей. Сторонники Гитлера, Муссолини или Франко вызывают возмущение потому, что они отказались преклоняться перед современными идеями, демократией, равенством людей, классами и расами, экономическим прогрессом, гуманитарностью и пацифизмом. Революционеры 1950-х годов иногда вызывают страх, но никогда не устраивают скандалов.
Сегодня нет ни одного христианина, даже реакционера, который осмелился бы сказать или подумать, что уровень жизни народных масс для него не имеет значения. Христианин левых взглядов – христианин, который выказывает смелость или свободу, менее христианин, чем тот, который согласился поглощать самую сильную дозу идей, популярных в среде профанов. Но христианин-«прогрессист» придерживается идеи изменения режима или улучшения материального благосостояния людей для независимого распространения христианских истин. Послание Симоны Вейль[17]17
Симона Вейль (1909–1943) – философ, сторонница марксизма, троцкизма. В 1938 году порвала с идеями социализма и стала христианкой. – Прим. перев.
[Закрыть] не является левым, само оно – нонконформистское и призывает к истинам, которые уже отвыкли слышать.
Напрасно искать в современной Франции двух настолько разных философов, какими были сторонники старого режима и рационализма. Современные активисты, кроме тех, кто пережил фашизм, являются братьями-врагами. Социализм перенимает основные идеи буржуазии: освоение естественных ресурсов, преобладающая забота о благе и безопасности всех людей, отказ от неравенства рас и положений, религия – личное дело каждого. Советское общество, вероятно, содержит в основе своей системы ценности, противоположные западному обществу, но теперь эти два мира начинают взаимное сближение, чтобы столкнуть свои общие ценности. Борьба мнений о форме собственности и планировании экономики обнаруживает меньше намерений, чем технических средств.
Мятежники или нигилисты упрекают в современном мире одних за то, что они есть такие, какие они есть, а других за то, что они неверны самим себе. Вторые сегодня более многочисленны, чем первые. Самая живая полемика развязалась не между одними и другими, но между интеллектуалами, согласными с сутью дела. Но, чтобы разорвать друг с другом, им не надо иметь противоположные цели, достаточно, чтобы они расходились во мнении о священном слове «революция».
Бунт и революция
Обмен письмами и статьями между Альбером Камю, Жан-Полем Сартром и Фрэнсисом Шансоном[18]18
Фрэнсис Шансон (1922–2009) – журналист, философ. – Прим. перев. Les temps modernes, aout 1952, № 82.
[Закрыть] сразу же принял характер знаменитой ссоры. У нас нет намерений отмечать их выпады или подчеркивать неправоту, мы пытаемся уловить преломление в сознании каждого великого писателя мифа о революции на протяжении седьмого года холодной войны.
Метафизические позиции собеседников достаточно близки. Бог умер, и мир не дает человеческой авантюре никакого смысла. Без сомнения, анализ нашего положения не в «Бытии и Ничто», не в том, что есть в «Мифе о Сизифе» или в «Чуме» (эти книги Камю не сравнимы между собой). Но там утверждается в совершенно разных стилях одно и то же желание правдивости, тот же отказ от иллюзий или лицемерия, даже то же самое столкновение с миром и вид активного стоицизма. Позиция Сартра по отношению к последним проблемам и позиция Камю не должны были сталкиваться.
Когда они выражают свое одобрение и неодобрение (второе чаще, чем первое), они обнаруживают похожие ценности. Оба они – гуманисты, оба желают облегчения страданий, освобождения угнетенных, оба борются с колониализмом, фашизмом, капитализмом. Когда речь заходит об Испании, Алжире или Вьетнаме, Камю не совершает никакого преступления против прогрессизма. Когда Испания вошла в ЮНЕСКО, он написал замечательное письмо протеста. А вхождение в эту же организацию Советского Союза или советизированной Чехословакии встретил молчанием. И он тоже, в сущности, принадлежит к благонамеренным левым.
По крайней мере его мысли не сильно изменились со времени «Бытия и Ничто». Сартр же не рассматривает историю как становление разума. Он не призывает ни к какой революции, к ее онтологическому смыслу. Бесклассовое общество не решит тайну нашего предназначения, оно не примирит ни сущность и существование, ни людей друг с другом. Экзистенциализм Сартра исключает веру во всеобщность истории. Каждый погружен в историю и выбирает свой проект и своих соратников вместе с риском ошибок. Камю легко подписался бы под такими предложениями.
Но почему же разрыв? Кажется, есть единственный вопрос, по поводу которого в западном мире навсегда расстаются братья, товарищи и друзья: какое положение занять по отношению к Советскому Союзу и к коммунизму? Диалог принимает патетический накал не тогда, когда собеседники имеют что-то одно заданное, а другие отказывают им во вступлении в партию Ленина, Сталина или Маленкова. Достаточно того, что не-коммунисты по-другому объясняют их отказ присоединиться к партии, что одни называют себя не-коммунистами, другие антикоммунистами, что одни обвиняют Ленина в то время, как другие со всей суровостью обрушиваются на Сталина из-за того, что в СССР уничтожаются люди, они считают себя его беспощадными врагами.
Во время полемики Жан-Поль Сартр еще не совершил путешествия ни из Вены, ни из Москвы. Он мог еще писать: «Будь я подводник, шифровальщик или стыдливый симпатизант, откуда вы знаете, что это меня они ненавидят, а не вас? Мы не собираемся превозносить ненависть, которую вызываем. Я вам честно говорю, что сожалею о такой враждебности, иногда я начинаю завидовать вам из-за глубокого безразличия, которое они к вам питают»[19]19
Les temps modernes, aout 1952, № 82, р. 341.
[Закрыть]. Он совершенно не отрицал жестокостей советского режима, концентрационных лагерей. Время Rassemblement Democratique Revolutionnaire (RDR) – Революционно-демократическое ралли[20]20
RDR – боевая партия, была основана в конце 1947 года, просуществовав чуть более года. – Прим. перев.
[Закрыть], – это время отказа двух блоков и усилия, чтобы начертать третий путь, еще продолжалось достаточно долго. Камю заявлял не менее ясно, чем Сартр, о колониальной эксплуатации или позоре франкизма. Они оба, свободные от всяких партий, тут и там обвиняют все, что, по их мнению, достойно обвинения. Но в чем же разница? Говоря просто, ответ будет такой: Камю выбрал бы скорее Запад, а Сартр – Восток[21]21
При условии, что сам он будет жить на Западе.
[Закрыть]. Говоря на уровне политической мысли, Сартр упрекает Камю в том, что тот объявляет себя в неучастии: «Вы порицаете европейский пролетариат потому, что он публично не осудил Советы, но осуждаете также правительства Европы, поскольку они одобряют вступление Испании в ЮНЕСКО; в таком случае я вижу для вас только одно решение: Галапагосские острова». Предположим, что желание удержать равновесие и заявить с той же суровостью о несправедливостях, которые, конечно же, существуют в обоих мирах, не приводит ни к какому чисто политическому действию. Камю не был человеком политики. Сартр тоже, и оба они действуют пером. Каково же альтернативное решение о Галапагосских островах после конца RDR? «Мне кажется, наоборот, единственный способ прийти на помощь рабам там – это вступить в их партию здесь».
Это рассуждение напоминает высказывание реакционеров или пацифистов во Франции между 1933 и 1939 годами, которые упрекали людей левых взглядов за то, что они выпускали манифесты и собирали публичные демонстрации в защиту преследуемых евреев. «Занимайтесь лучше вашими делами, – говорили они, – и не выносите сор из дома. Лучший способ прийти на помощь жертвам Третьего рейха – это уменьшить страдания жертв кризиса, колониализма или империализма». На самом деле, такое рассуждение – фальшивое. Ни Третий рейх, ни Советский Союз не были полностью безразличны к мировому мнению. Протесты еврейских организаций мира, вероятно, внесли вклад в ослабление антисионистской кампании и к мерам против космополитов, под прикрытием которых евреев с другой стороны железного занавеса снова стали преследовать. Широкая пропаганда в Европе и Азии против сегрегации в Соединенных Штатах помогает тем, кто пытается улучшить условия жизни негров и предоставить им права, обещанные Конституцией.
Оставим реальные результаты этих двух позиций. Почему различие, по-видимому, в нюансах вызвало столько страстей? Сартр и Камю – не коммунисты и не «атлантисты», оба признают существование несправедливости в обоих лагерях. Камю хочет разоблачать и одних, и других, Сартр выступает только против одних, западного мира, не отрицая существования других. Наверняка нюанс, но тот, который ставит под сомнение всю философию.
Камю порицает различные аспекты советской реальности. Коммунистический режим кажется ему абсолютно тираническим, который вдохновляет и оправдывает философия. Он упрекает революционеров за то, что они отрицают вечные ценности, всю высшую мораль в классовой борьбе и разнообразии эпох, он обвиняет их за то, что они живых людей приносят в жертву мнимо абсолютному благу, концу истории, понятие о котором противоречиво и в любом случае несовместимо с экзистенциализмом. То, что один не отрицает, а другой разоблачает концлагеря, было бы почти неважно, если бы один не придавал своему разоблачению значения разрыва с революционным «проектом», тогда как другой отказывается порывать с «проектом», к которому он не примыкает.
В своей книге «Мятежный человек» Камю анализировал идеологическую эволюцию от Гегеля к Марксу и Ленину, нестыковки между некоторыми предвидениями, содержащимися в работах Маркса, и течением событий. Анализ не показал ничего такого, чего нельзя было легко обнаружить прежде, но он был в некоторых моментах трудно оспоримым.
Книга Камю, а также «Письмо директору Temps modernes» являются уязвимыми. В книге основные мотивы аргументации теряются в плохо связанных между собой исследованиях, стиле написания и морализаторском тоне, почти не позволяют увидеть философскую строгость. Письмо претендовало на то, чтобы заключить экзистенциалистов в рамки очень простых альтернатив. (Сартр имеет все козыри ответить, что марксизм не исчерпывается пророчеством и методикой, но содержит в себе и философию.) Несмотря на все это, Камю ставит этим не меньше решительных вопросов, на которые Сартр и Шансон отвечают с трудом.
– Да или нет, – спрашивал он, – вы признаете в советском режиме исполнение революционного «проекта»?
Однако честный и одновременно смущенный ответ Фрэнсиса Шансона звучит так: «Вовсе не субъективное противоречие мешает мне четко высказаться о сталинизме, а трудности дела, которые, кажется, помогут мне сформулировать мнение: сталинское движение по всему миру не кажется мне подлинно революционным, но оно единственное, которое заявляет о себе как о революционном и собирает под свои знамена, особенно у нас, большую часть пролетариата. А значит, мы одновременно и против него, потому что мы критикуем его методы, и за него, поскольку мы не знаем, не является ли подлинная революция химерой и не надо ли, чтобы революционная затея сначала прошла свой путь там до того, как сможет наладиться какой-то более человечный социальный порядок, но, если недостатки этого предприятия выявятся в социальном контексте, в итоге будет предпочтительно его просто и честно уничтожить». Не заметно, чтобы Камю пожелал «честно и просто уничтожить затею» (допустим, что эта формулировка имеет смысл). Такое признание неведения похвально, но удивительно со стороны философа по призванию. Поступок в истории требует, чтобы на него решились, ничего не зная твердо, или по крайней мере, чтоб утвердились в решении больше, чем в знании. Всякое действие в середине ХХ века предполагает и влечет за собой принятие решения относительно советского режима. Устраниться от принятия позиции по отношению к советскому строю – значит избежать ограничения исторического существования, даже если при этом все ссылаются на историю.
Единственным оправданием, писал Камю, захвата власти, коллективизации, террора, тоталитарного государства, построенного именем революции, была бы уверенность подчиниться необходимости торопить исполнение конца истории. Однако экзистенциалисты не смогли бы ни подписаться под этой необходимостью, ни поверить в конец истории. На это Сартр отвечает: «Имеет ли история смысл, спрашиваете вы, имеет ли она конец? Для меня этот вопрос не имеет смысла, так как история вне человека, который ее делает, всего лишь абстрактное и застывшее понятие, о котором нельзя сказать ни как о конце, ни о том, что она его не имеет, и проблема состоит не в том, чтобы знать свой конец, а в том, чтобы дать его истории… Нет спора о том, существуют или нет высшие ценности истории: они просто замечают, что они у нее есть, они провозглашаются посредством человеческих поступков по историческому определению… И Маркс никогда не говорил, что история будет иметь конец: как он мог это сделать? Ведь тогда человек однажды останется без целей. Он только говорил о конце предыстории, то есть о цели, которая будет достигнута в рамках самой истории и будет преодолена, как и все цели». Таков ответ, и Сартр его знает лучше, чем кто-либо, несколько пренебрегая правилами честной дискуссии. Нет сомнений, что мы придаем смысл истории своими действиями, но как выбрать этот смысл, если мы неспособны определить универсальные ценности или понять их в целом? Решение не относится ни к вечным правилам, ни к универсальным ценностям и исторической всеобщности, а является случайным, и не оставляет ли оно людей и классы в состоянии войны без того, чтобы потом решить проблему между воюющими?
Гегель утверждал соответствие между диалектикой понятий и исторической последовательностью империй и режимов, Маркс со своим бесклассовым обществом заявлял о решении тайны истории. Сартр не может, не хочет возобновить в онтологическом смысле понятие конца истории, связанного с абсолютным разумом. Но в нем он воспроизводит, в политическом плане, эквивалент. Однако, если История есть конец предыстории, социалистическая революция должна представлять собой существенное своеобразие по сравнению с прошлым, должна отметить собой разрыв течения времени, преобразование общества.
Сартр заимствует, говорит он нам, у марксизма, между пророчеством и методикой, некоторые чисто философские истины. Эти истины, появляющиеся в текстах молодого Маркса, кажутся мне критикой формальной демократии, анализом отчуждения и утверждения срочной необходимости разрушить капиталистический порядок. Эта философия, возможно, содержит пророчество: пролетарская революция будет совершенно другой по сравнению с революциями прошлого, только она позволит «очеловечить» общество. Эта хрупкая версия не является грубой, рассчитанной на концентрацию предприятий и пауперизацию масс, которую отвергли события XIX века. Но она остается абстрактной, формальной, неопределенной. Но в каком смысле захват власти одной партией означает конец предыстории?
Резюмируя, можно сказать, что эта мысль лишена новизны. В местах, которые вызвали гнев Temps modernes, она кажется банальной и благоразумной. Если мятеж обнаруживает солидарность с угнетенными и необходимость жалости, революционеры сталинского типа на самом деле предают сам дух мятежа. Вынужденные подчиняться законам истории и действовать для приближения конца, одновременно и неизбежного, и благотворного, они затем становятся бессовестными палачами и тиранами.
Из этих рассуждений невозможно извлечь никакого правила поведения, но критика исторического фанатизма побуждает нас выбирать из множества обстоятельств, в зависимости от случайности и опыта. Скандинавский социализм не является универсальной моделью и не претендует на это. Такие понятия, как призвание пролетариата, повторное отчуждение, революция, точно свидетельствуют, кроме того, об их притязании: боюсь, что они сделают еще меньше для того, чтобы ориентироваться в пространстве ХХ века.
За пределами Франции и аристократического квартала Сен-Жермен-де-Пре такую полемику мало кто поймет. Ни интеллектуальные, ни социальные возможности этой полемики не заданы ни в Великобритании, ни в США, где диспуты проходят без безумных страстей о социологии и экономике Маркса, где спорят о важных делах, отмечающих этапы развития науки. Они безразличны к философии Маркса, как начальной, так и зрелой, а также к критике товар-фетиш Гегеля, более естественной в других текстах и сочинениях Энгельса. С тех пор как они отстранились от гегельянства, вопрос о соответствии советской революции истинной революции теряет всякий смысл. Революционеры во имя идеологии создали определенный режим. Мы знаем о нем достаточно хорошо, чтобы не желать его дальнейшего распространения. Этот отказ не обязывает нас желать ни «честного и простого уничтожения затеи», ни борьбы пролетариата, ни мятежа угнетенных.
Согласие с существующим несовершенным режимом, следовательно, делает нас согласными с несправедливостью и жестокостью, от которых не избавлено никакое время и никакая страна. Настоящий коммунист – это тот, кто соглашается с советской реальностью в том контексте, который эта реальность диктует. Настоящий западный человек – это тот, кто полностью согласен с нашей цивилизацией только в смысле свободы, которая позволяет ему критиковать и дает шанс улучшить свою жизнь. Объединение части рабочих в коммунистическую партию сильно влияет на ситуацию, в которой французский интеллектуал должен выбирать. Неужели революционное пророчество, провозглашенное столетие назад одним молодым философом, восставшим против сонной Германии и ужасов первых лет индустриализации, поможет нам понять ситуацию и сделать разумный выбор? А мечтать о революции – это способ изменить Францию или бежать из нее?
Является ли ситуация во Франции революционной?
Говорят ли французские интеллектуалы о желании революции – христианской, социалистической, голлистской, коммунистической, экзистенциальной, – потому что они более чувствительны к содроганиям истории, потому что они чувствуют наступление времени великих катаклизмов?
В течение двух лет, предшествовавших Второй мировой войне, этот вопрос был актуален. Но при этом немедленно добавляли, что гитлеровская угроза запретила французам – нет, не ссориться – в этом ничего не смогло бы им помешать, но сразу же контролировать их ссоры и силой. Освобождение сопровождалось квазиреволюцией, которую сторонники и противники согласились считать неудачной. В 1950 году во Франции неоднократно задавались вопросом: не находимся ли мы накануне социального взрыва, имея 50% избирателей коммунистов или сторонников де Голля, теоретически враждебных режиму? Через несколько лет консерватизм казался чуть более стабильным, но не поддержанным слабыми попытками экстремизма или воинствующими заявлениями.
Франция узнала, что такое псевдореволюции, в 1940 и 1944 годах, завершение которых означало возврат к институтам, людям и к практике Третьей республики. Поражение заставило парламент подписать в июле 1940 года акт об отречении. Составная команда – несколько перебежчиков из республиканского сектора смешались с доктринерами от правых сил или молодыми людьми, жаждущими действовать, – попыталась установить авторитарный, но не тоталитарный режим. Освобождение ликвидировало эту попытку и привело к власти другую команду, такую же составную в смысле кадров и идей. Против Виши эта команда ссылалась на республиканскую легальность, то завязывая отношения с последним правительством вчерашнего режима, то взывая к национальной воле, воплощенной в Сопротивлении. Чаще всего заявляли о своей исходной революционности и замысле: она обосновывала свою легитимность не на выборах, но на чем-то типа мистических полномочий – народ узнавал себя в одном человеке, – освобождение намеревалось обновить государство, а не только восстановить республику.
Революция исчерпала себя в очищении, реформы, называемые структурными (национализация), предлагались в программах Народного фронта, и, наконец, некоторые законы (общественная безопасность) продолжили предшествующую эволюцию и не требовали потрясений. Что касается текстов и конституционной практики, традиции, или, лучше сказать, дурные привычки, с легкостью взяли верх над попытками возрождения. Парламент и партии Четвертой республики показали, что они так же ревностно относятся к их исключительному праву и так же враждебны к сильной исполнительной власти, как парламент и партии Третьей республики. В 1946 году все партии, и особенно три крупные, обвинялись в монолитности. В 1946–1947 годах радикальные и умеренные объединились против них, извлекая выгоду из популярности, которой обладал генерал де Голль, и непопулярности, которую вследствие инфляции и плохого социального положения связывали с министрами Временного правительства. Сегодня менее монолитные партии, кроме коммунистической, на большинстве выборов разъединились. Монолитность была теперь не большим реальным злом, чем раздоры внутри партий, чего нет сегодня.