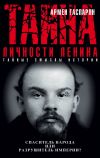Текст книги "Опиум интеллектуалов"
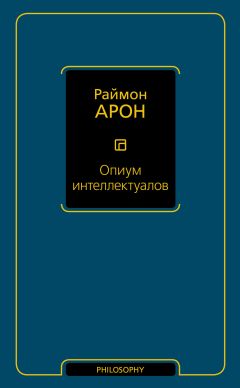
Автор книги: Раймон Арон
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Почему высшее испытание и марксизма, и истории происходит в середине ХХ века и смешивается с советским опытом? Если пролетариат не выступает в роли всеобщего класса и не берет на себя ответственность за людей, почему вместо того, чтобы прийти в отчаяние за будущее, не признать, что философы ошибались, приписывая заводским рабочим уникальную миссию? Почему «гуманизация» общества не станет всеобщим и всегда незавершенным творением человечества, неспособного устранить различие между реальностью и идеей и неспособного смириться с этим? Почему захват власти партией, сохраняющей монополию государства, был бы необходимым введением к этой неопределенной задаче?
Так впадают в ошибку, которую Маркс имел своей окончательной заслугой разоблачить: осуждать общества за их идеологию, а не за то, что они делают для людей. «Это окончательная заслуга марксизма и прогресс западного сознания, научившегося сталкивать идеи с социальной деятельностью, которую они должны были активизировать, нашу перспективу с перспективой нашего ближнего, нашу мораль и нашу политику». Лучше не скажешь… Но почему революционеры отказались от такого столкновения?
Процессы и признания
Крупные процессы, которые прошли в 1936–1938 годах по обвинению соратников Ленина и которые воспроизводились в государствах-сателлитах со времени раскола Тито, показались многим обозревателям символом империи сталинизма. Сравнимые с процессами инквизиции, они выявляли правоверность, разоблачая еретиков. В этой исторической действенной религии правоверность касается интерпретации событий прошлого и будущего, а ереси сливаются с политическими уклонами, нарушениями дисциплины или ошибками в поведении. А поскольку в религии нет частной жизни, чистота души и добрые намерения, все отклонения от правого дела – это ересь и в то же время раскольничество.
Эти процессы, что бы о них ни говорили, не были тайными. От многочисленных свидетелей нам известно, каким образом добивались признаний. Физик Вайсберг, участник польского сопротивления Стипольский, американский инженер Воглер среди всех прочих составили подробный доклад о своих приключениях. Они описали методы, которыми во время большой чистки 1936–1937 годов, а также в Москву к концу войны, в Будапешт при венгерской народной демократии, привезли коммунистов или не-коммунистов признаваться в преступлениях, которых те не совершали. Эти преступления были иногда чистой выдумкой, а иногда преступной оценкой действительных поступков, но сами по себе их исполнители были невиновными.
Методы признаний не предполагали у обвиняемых даже смутного чувства вины, солидарности с системой между следователями и виновными. Техника выбивания признаний применялась к не-большевикам, социалистам-революционерам или к иностранным инженерам, а потом уже к оппозиционерам, впавшим в немилость. Она первоначально объяснялась обычными принципами своевременности. Хотели убедить массы, что соперничающие партии состояли из людей без стыда и совести, которые не останавливались ни перед чем, чтобы удовлетворить свою ненависть или амбиции. Хотели убедить людей в том, что капиталистические силы устраивают заговоры против родины трудящихся, что трудности социалистического строительства происходят из-за врагов и их злодеяний. Не одно советское правительство искало козлов отпущения, а все народы, находившиеся в трудной ситуации или испытавшие поражение, кричали о предательстве. Признание – большое достижение этой многовековой практики; жертва, на которую должен переноситься гнев толпы, сама признает справедливость наказания, в котором ее обвиняют.
Это объяснение не является исключением в случаях Зиновьева, Каменева, Бухарина. Дело революции и родины больше не отделяется от соратников Сталина с того момента, как вчерашние герои признаются, что они устраивали заговоры против партии, готовили или совершали саботаж или террористический акт и, наконец, налаживали отношения с полицией Третьего рейха. Все процессы содержали такие объяснения с видимой целью необходимости правительственной пропаганды. Средства, которыми добиваются признаний, аналогичны в различных случаях, но применительно к отдельной личности осуждаемых они бывают то более психологическими, то более физическими. Ничто не запрещает научно дозировать угрозы и обещания. Самые утонченные пытки возвращаются к элементарным принципам: Искусство просто, все дело в исполнении.
Но почему на Западе столько умствований по этому поводу? Оставляя в стороне цель чисток советского режима, к размышлениям приводят две темы. Не было ли у прокуроров, как у средневековых инквизиторов, чувства необходимости привести признание к правде даже в том случае, если они применяли жестокие методы? А эта правда, не отражала ли она «сюрреальность» происходящего, если приводимые факты не были верными? С другой стороны, не испытывали ли обвиняемые чувства виновности не в буквальном смысле, когда Бухарин мог бы готовить убийство Ленина, а Зиновьев принимал представителей гестапо, но в более тонком смысле, когда оппозиция была бы на самом деле предательством как и в представлении суда, так и в представлении обвиняемого?
Мы не будем анализировать психологию старых большевиков, распутывать то, что было сделано по принуждению, с ощущением больной совести, даже при желании последний раз послужить партии (в духе японских камикадзе). Нам важно обнаружить на этом особом примере двусмысленность неуловимой правоверности и революционного идеализма, представление исторического мира, общего для людей церкви, верующих людей и источник их похожих ошибок.
Правоверный сталинист – это тот, кто верил бы каждому слову свидетелей обвинения или самому обвинительному процессу? И существует ли такой сталинист? На самом верху властной иерархии его, конечно, нет. Сам Сталин, его соратники, судьи знают о том, что представляют собой признания, знают о сфабрикованных фактах. Члены партии, имеющие опыт чисток, присутствовавшие при создании дела против них самих или их друзей, с трудом сохраняют иллюзии по поводу правдоподобности этих россказней, которые взаимно подкрепляются, но не содержат истинных доказательств. Приведенные факты, скорее, способны вызвать скептицизм: странные террористы, которые создавали центры, но не совершали покушений, саботажники, которые руководили целыми отраслями экономики, а действовали по типу партизан. Можно ли поверить, что средний русский человек, не большевик, но признающий существующую власть, принимает за чистую монету этот детектив? Признаёт ли он по очереди, что кремлевские врачи – это убийцы в белых халатах, потому что они были несправедливо заподозрены? Нельзя исключить такой легковерности – она наблюдается и у некоторых французов. Я сомневаюсь, правда, что это распространенное явление. А ведь методы процессов маловразумительные. Если русские верят признаниям, они действительно способны поверить во что угодно. Бесполезно даже трудиться, чтобы переубедить их.
В любом случае правоверность не означает, что признания принимаются за истину: согласно такому определению, сам Сталин не является правоверным, а те, кто имеет доступ к секретным истинам, тоже исключаются из числа верующих. И чтобы не впадать в чистый цинизм, приближенные к партии круги должны прибегать к толкованиям, аналогичным «Делу Тулаева» Виктора Сержа, М. Кестлера, в разработанной и популяризируемой книге «Нуль и Бесконечность»[54]54
В русском издании – «Слепящая тьма». – Прим. перев.
[Закрыть]. Господин Мерло-Понти выразил это на языке феноменологии и экзистенциализма в «Гуманизме и Терроре», сурово критикуя Кестлера[55]55
Мерло-Понти упрекает Кестлера в том, что он плохой марксист, что он думает о марксизме в механистических терминах вместо того, чтобы признать подлинную интерсубъективность как единственную абсолютную реальность и вернуть перспективы одним и другим в этом настоящем сосуществовании. Кестлер мог бы ответить, что коммунисты (кроме Лукаша, который всегда был на обочине) никогда не думали об их марксизме в таких хитроумных терминах. Кроме того, Мерло-Понти в самом конце совершает ошибку, сравнимую с ошибкой «механистов». Эти представляют неизбежным конечный социализм. Они привязаны к взаимному узнаванию, как к высшему выражению, единственному, которое способно оправдать историю. К этому социализму способна привести только пролетарская революция. О том, что касается судебных процессов, оппозиции экзистенцильно-марксистской диалектики и «механистам» ничего неизвестно.
[Закрыть].
Принципы такой интерпретации просты: суд прав, считая оппозиционера предателем; после своего поражения оппозиционер может признать правоту своего соперника, победителя. Рассуждение, которое приводит к первому суждению, таково, что все революционеры неизбежно приходят к периодам сильных потрясений. Но тот, кто отделяется от партии и от человека, воплощающего дело, переходит в другой лагерь и работает на контрреволюцию. Бухарин, протестуя против аграрной коллективизации, представлял свои доводы крестьянам, которые отказывались вступать в колхозы, он помогал тем, кто саботировал программу правительства и, по сути, объединился с врагами, которые из-за рубежа пытаются ослабить родину революции. Логика оппозиции привела ее к защите и реставрации капитализма в деревне. Она действовала так, как если бы примкнула к лагерю контрреволюционеров, поскольку требовала от политиков учитывать их действия, а не намерения, она объективно предала партию и тем самым социализм. Этот метод, называемый «последовательностью доказательств», большевики использовали тем более охотно, что среди революционеров они выделялись культом партии. Абсолютная ценность, приписываемая последней цели, бесклассовому обществу, связывается с партией. Отделиться от нее и на словах и на деле, но не в намерениях – значит совершить непростительную ошибку.
При этом рассуждении соратник Ленина, который вступал в борьбу фракций, неспособен искренне соглашаться. Он, может быть, продолжает думать, что коллективизацию можно было бы провести по-другому, но у него больше нет платформы, нет перспективы. Между партией и ее действительным направлением становится невозможным никакое различие. Если только не пересмотреть всю систему мышления – последовательность доказательств, которая идет от социализма к Сталину, проходя через пролетариат и партии, – значит, надо согласиться с приговором истории, который решил вопрос в пользу того, которого он продолжает ненавидеть в самой глубине своей души. «Капитулируя», он, может быть, не ощущал, что отрекается от своего достоинства или что уступил из-за слабости. Ведь нет внутренней жизни, нет божественного суда, нет истории без революции и нет революции вне пролетариата, вооруженного партией, как нет больше партии вне сталинского направления. Отвергая свою оппозицию, не остается ли революционер, по сути, верен своему прошлому?
Эта ловкая интерпретация, на которой можно легко создавать множество вариаций, по сути своей, общая и для людей церкви и людей веры: и чем же они отличаются? Я отмечаю здесь три основных различия.
1) Правоверный чаще всего знает, что факты измышляются, но никогда не имеет права публично согласиться с этим. Он покоряется и должен покоряться общепринятой дисциплине. Идеалист сохраняет за собой право называть процесс «словесной церемонией» и более или менее определенно говорить, что факты существуют только в обвинительных актах и признаниях. Эта разница имеет существенное значение. Правоверный в глубине души знает о концентрационных лагерях; но на словах он знает только о «лагерях перевоспитания». Скажем еще, что один знает только факты, изложенные на языке системы, а другой знает голые факты.
2) У правоверного не больше уверенности, чем у идеалиста, в деталях событий. Он неохотно соглашается с исчезновением Троцкого, исключенного своим победившим соперником из анналов революции. Он не сомневается в «общих чертах» исторической интерпретации, которым его учит партия. А, по мнению активистов церкви, «общие черты» более или менее разработаны или точны. Но в них всегда понятны те же самые основные элементы: роль пролетариата и воплощение ее в партии, борьба классов (каждый из этих элементов ссылается на различные версии). История русской партии большевиков и братских партий – это действительно священная история. Один человек из Северной Кореи с религиозной серьезностью учит историю о конфликтах тенденций в коммунистической партии Болгарии[56]56
Этот эпизод рассказан мне французом, два года бывшим в северокорейском плену.
[Закрыть]. Партия, возможно, воссоздает эпизоды прошлого, чтобы придать им более ясное значение для невежественных людей или потому, что с опозданием поняла их истинный смысл. В основном история, которую рассказывает партия, верна, от высшей истины до настоящей истины фактов.
Идеалист хочет, чтобы эта история была верна, но он в этом не уверен. Он согласен с отсрочкой помилования в Советском Союзе потому, что на него ссылаются в доктрине, которая, единственная, придает смысл истории. А так как он при рассмотрении опирается на голые факты, то видит, что они не отвечают его ожиданиям. Он не видит будущего для человечества, если партия лжет, и он не извлекает из этого уверенности, что партия говорит правду. И может быть, нет правды истории.
Правоверный переносит сомнения на детали, идеалист их переносит также и на самое основное.
3) Правоверный пытается как можно больше расширить объект своей веры, связывая случаи и происшествия с общими чертами рискованного события. Ему хотелось бы, чтобы инициативы личности, действия групп, перипетии битв были связаны с диалектикой классов и экономическими силами. Все события должны занять свое место в священной истории, центром которой является партия. Враги партии, как внешние, так и внутренние, будут действовать в соответствии с логикой единой и всеобщей борьбы. Случай представился, и Сланский будет обвинен в предательстве из-за своего буржуазного происхождения.
Идеалист тайно признает различие между «общими чертами» истории и обстоятельствами событий. Причем надо думать, что история закончится благополучно, а иначе будет представлять собой «бессмысленную сумятицу». В ожидании этого счастливого конца человек рискует быть вовлеченным в искушение обстоятельствами. Но какова должна быть линия в каждый момент времени? Никто не смог бы с уверенностью сказать об этом, а решение, добросовестно принятое сегодня, в будущем может оказаться преступлением. Однако намерения не имеют значения: завтра я буду беспомощен против приговора, вынесенного мне историей.
Догматизм правоверного, искренний или на словах, угрожает не коммунисту так же, как и уклонисту или ренегату. Если человек церкви придерживается универсальной истины, почему не принудить язычника исповедовать новую веру? Эта исповедь принимает форму автобиографии, составленной неверующим, которому навязаны категории и словарь верующего (так как доктрина отрицает внутреннюю жизнь, исповедь-признание касается его поведения). Американский инженер Воглер рассказывал о своем прошлом в тюрьмах Будапешта, как отцы иезуиты рассказывали о своем в тюрьмах Китая. Одни и другие должны рассматривать свою жизнь в категориях своего тюремщика, того, который сделает их виновными. Для того чтобы эта вина не вызывала ни малейшего сомнения, они вынуждены подбавить просто и хорошо сфабрикованные факты: якобы до того, как покинуть Соединенные Штаты, инженер встретил полковника, занимающегося шпионажем, верующие принимали участие в империалистическом заговоре, а сестры милосердия будут изобличены «в умерщвлении маленьких детей китайских пролетариев».
Идеалист не опускается до этого ужасного абсурда логики системы. И тем не менее положение идеалиста, представленное господином Мерло-Понти, кажется более неприемлемым, чем положение правоверного. Хотя большинство критиков плохо поняли аргументацию философа, их негодование (в интеллектуальном смысле) кажется мне оправданным.
О так называемом историческом правосудии
Всегда удивительно, когда мыслитель оказывается снисходительным к миру, который не переносит его, и безжалостным к тем, кто его уважает. Восхваление фанатизма не фанатиком, философия вовлеченности, которая ограничивается толкованием вовлечения других, но не вовлекается сама, оставляет странное впечатление несоответствия. Только либеральное общество с терпением относится к анализу судебных процессов, как это делает Мерло-Понти после Виктора Сержа и Кестлера: безразличие, демонстрируемое по отношению к либерализму, соответствует (если не обращаться к высшим максимам Христа) определенному виду отступления. И ведь не доверяют же людям, которые делают вид, что не верят в ценность того, что они делают. Почему же философ рассуждает так, как если бы свободу, в отсутствие которой он был бы приговорен к молчанию или подчинению, он считал бы не имеющей никакой цены?
Вся интерпретация истории, которую господин Мерло-Понти называет марксистской и которая внушает надежду на радикальное решение, основана на теории пролетариата. Однако эта теория пролетариата, уже сама по себе абстрактная, призывает к преимуществам революции в докапиталистических странах, где пролетариат представляет только слабое меньшинство населения. Почему китайская революция, осуществленная интеллектуалами вместе с крестьянскими массами, дает обещание, наполовину исполненное при современном пролетариате, «человеческого сосуществования»?
Сравнения между двумя типами режимов невольно кажутся проведенными недобросовестно. Принципиально мы увидели, что под предлогом стремления к «радикальному решению» советский режим пользуется преимуществом попустительства. Положение, которое символизирует формулу «подходить с разными мерками», трудно достижимо; если есть уверенность, что один из двух лагерей однажды добьется истины, то станет невыносимо, когда засомневаешься в верности советского государства революционному призванию. Правы те, кто вспоминает факты жестокости, которые отмечают историю Запада как историю всех известных обществ, но следует противопоставить методы принуждения, которые в настоящее время использует или особо внедряет каждый тип режима. Какими свободами располагают советские граждане и граждане западных стран? Какие гарантии предоставляются или изобличаются с одной или с другой стороны железного занавеса?
Если подавление свобод оправдывается другими заслугами советского режима, например, скоростью экономического прогресса, об этом еще надо говорить и доказывать. На самом деле, философ доволен легкостью аргументации: во всех обществах бывает несправедливость и насилие, а в советском обществе их, может быть, несколько больше, но величие цели запрещает их обвинять. И действительно, можно и должно простить революции преступления, которые были бы непростительны, если бы совершались в стабильных режимах, но сколько времени потребуется для прощения революции? Ведь спустя почти сорок лет после взятия власти продолжают применяться обвинительные законы в духе Робеспьера, когда же они устареют? Продление террора на несколько десятилетий, по меньшей мере, вызывает вопрос: с какого момента террор становится связан не с революцией, а с общественным порядком, созданным ею?
Метод последовательности доказательств, благодаря которому оппозицию можно обвинить в предательстве, влечет за собой непрерывность террора. Мерло-Понти множество страниц посвящает объяснению того, что Виктор Серж и Кестлер уже объяснили и в чем нет ничего таинственного: оппозиционер действует в определенных обстоятельствах как враг партии и, следовательно, в глазах правителей является предателем дела. Но такое приравнивание оппозиционера к предателю в крайнем случае должно было бы запретить всякую оппозицию. Жорж Клемансо ослабил правительство, которое он критикует, но, придя к власти, он ведет борьбу до победы. У большевиков всегда было две формулы: одна требовала монолитности, другая поощряла столкновение идей и тенденций, которые поддерживают силу партии (Ленин охотно использовал вторую формулу, когда для него появлялась опасность остаться в меньшинстве). В 1917 году ни Сталин, который до прихода Ленина занимал очень скромное положение, ни Зиновьев и Каменев, которые никогда не были сторонниками Октябрьского государственного переворота, ни в тот момент или после переворота не обвинялись в предательстве. Они не были обязаны признавать, что были на содержании Керенского или союзников по Первой мировой войне. Абсурдная система последовательности доказательств будет существовать до тех пор, пока не исчезнет столкновение намерений или по крайней мере не уйдет в тайны бюрократии, малых групп или единственного человека, может быть, хозяина партии, полиции и государства, единолично располагая жизнями и достоинством миллионов людей.
Что бы ни думал об этом философ, но возмущение вызывает не то, что он выражает на экзистенциально-феноменологическом языке старых формул революционных или террористических сект: кто не с нами, тот против нас, любая оппозиция – предатель, малейшее отклонение ведет в лагерь противников. Из-за этого считается нормальным продолжать террор именно с того момента, когда система мышления, присвоенная обладателями власти, завершается угнетением побежденных и восхвалением победителей. С тех пор как тот, кто «пишет» историю, становится одновременно и генеральным секретарем партии, и шефом полиции, исчезает и благородство борьбы, и риск. Владеющие властью хотят быть в то же время и глашатаями истины. На место революционного террора устанавливается цезарепапизм (правление, при котором глава государства выступает и главой церкви. – Прим. перев.): в этой бездушной религии оппозиционеры действительно становятся худшими еретиками, чем преступники[57]57
В лагерях «общие права» лучше соблюдались, чем политические права: политическое преступление, на самом деле, считается более тяжелым.
[Закрыть].
Было признано, что в период революции обвиняемым отказывали в гарантиях, которые им были бы предоставлены в нормальные эпохи. Понятно, что Робеспьер устранил Дантона, а потом был устранен сам и что в обоих случаях чрезвычайные трибуналы привлекают к суду волю фракции. Юридическое оформление принятия решений вне судебных залов, мне кажется, отвечает озабоченности поддержать видимость непрерывности закона в процессе продолжающихся государственных потрясений. Трибуналы времен освобождения Франции были вынуждены забыть, что правительство Виши в 1940–1941 годах было законным и, вероятно, легитимным. Для того чтобы Верховный суд смог толково судить маршала Петена, он должен был задним числом устранить законность режима Виши и пересмотреть, переквалифицировать действия маршала в историко-юридической системе победившего голлизма.
Бесспорно, законодательство занимается определенным распределением благ и власти. Но из этого не следует, что либеральная юстиция солидарна с капитализмом. И что его беззаконие компрометирует ее ценность. То, что философ называет либеральной юстицией, – это то правосудие, которое было выработано на протяжении веков, со строгим определением правонарушений, правом подозреваемых на защиту и законами, не имеющими обратной силы. При либеральных формах исчезает суть правосудия, а революционное правосудие – это карикатура на него. Может быть, стоит признать, что в некоторых случаях чрезвычайные трибуналы неизбежны, но не надо представлять методы чрезвычайного времени так, как если бы они являлись другим правосудием, на самом деле они – просто их отрицание.
Если существующее государство гордится революционным правосудием, значит, оно больше не оставляет в безопасности ни одну личность, а диалектика признаний открывает дорогу большой чистке, когда миллионы подозреваемых признаются в воображаемых преступлениях. Революция и террор вполне совместимы с гуманными намерениями; перманентная революция и террор возникли в системе правления, создавшей их. Цель коммунистического насилия менее важна, чем органическая, постоянная, тоталитарная воля, призванная насилием на службу не пролетариям, но людям партии, так сказать, привилегированным.
Этот образ мысли правоверных так же, как и идеалистов, приводит к вердикту истории. Стоит представить Троцкого на месте Сталина, и роли предателя и судьи поменялись бы. Внутри самой партии только событие решительно вмешивается между соперниками. Победитель утверждает, что он прав: пусть так, но почему философ поддерживает это притязание? Перенося ту же перспективу в целом на историю, не было ли возможным провести коллективизацию сельского хозяйства, избежав депортаций и голода? Тот, кто разоблачал в 1929 году последствия, с тех пор действительно происшедшие из-за метода, которым руководство партии готовилось воспользоваться, не опровергнут конечным успешным результатом операции, если только этим однажды не провозгласить для всех, что цена человеческого «успеха» не имеет значения[58]58
Господин Мерло-Понти не хочет из принципа придать правоту Истории. Победивший Гитлер остался бы преступником. А национальное сообщество нацистов – наоборот, а сообщество пролетариев соответствует гуманизму. Аргумент маловразумительный: предположим, что пролетариат начиная с сегодняшнего дня является «подлинной интерсубъективостью», почему это достоинство распространяется на Коммунистическую партию, на ту, где напрасно ищут пролетариат?.. Действительно, пролетариат может потерпеть неудачу, а значит, история не является как таковая верховным трибуналом. В отличие от ортодокса, идеалист не поддерживает заранее вердикт будущего, он сохраняет за собой право обвинять и классы, противостоящие истории, которую он поддерживает для воплощения человеческой надежды и самого будущего, если он разочаруется в этой надежде. Несмотря ни на что, идеалист не удерживается от обожествления истории потому, что он приписывает те же достоинства исторической схеме, что и идее узнавания, потому, что он уподобляет дело человечества делу партии и посвящает гипотетическому праву осуждение победителя.
[Закрыть].
В каждый момент времени возможно несколько прочтений в зависимости от намерений действующих лиц, от обстоятельств прошлого или же от последовательности событий. Если те, кто имеет право в политике, являются безучастными к намерениям действующих лиц, можно найти еще несколько прочтений, согласно которым передаются мыслью в момент решения или, что полностью противоположно, интерпретируют решение, исходя из отдаленных последствий, между тем уже реализованных. Значительный человек – это тот, кто сопротивляется суду будущего, которого он не знал. Но историк пренебрегает этикой своей профессии, если он неопределенно углубится в течение времени. Творение Бисмарка не было приговорено трагедией Третьего рейха.
A fortiori (тем более) этот способ оценки становится скандальным, если суд живых людей прибегнет к ней против других живых людей. Интерпретация с помощью последствий в перспективе победителя завершается худшей несправедливостью. Ошибка стала бы задним числом предательством[59]59
«Факт союзнической победы вызвал появление коллаборационизма как инициативы и преобразовал его, как бы это ни было сделано, в желание предать» (op. cit., p. 43).
[Закрыть]. Ничего нет более лживого: моральная или юридическая оценка поступка не изменилась в процессе последующих событий. Заслуги или провинности людей, которые вызвали перемирие 1940 года, не отделяются от вызвавших их факторов. Если не хочется учитывать намерения, надо рассматривать преимущества и риски перемирия, преимущества и риски противоположного решения такими, какими они были в 1940 году. Тот, кто надеялся, что перемирие оставляло Франции лучшие шансы, без вреда союзническому делу, может быть, он ошибался. Его ошибка не превратилась в предательство в результате победы союзников. А тот, кто хотел перемирия, чтобы избавить страну от страданий или чтобы подготовиться к новой битве, не был предателем и не становится им. Тот же, кто хотел перемирия, чтобы перекинуться в другой лагерь, был предателем по отношению к Франции с того самого момента. С 1939 по 1945 год.
А если Германия захватила Францию, то голлисты были предателями, а коллаборционисты стояли у власти? Так оно и было на самом деле. Коллаборационисты и голлисты мечтали о двух разных, несовместимых Франциях, между которыми должны произойти битвы, проведенные в основном другими людьми. Событие было осуждено[60]60
Это не означает, что в высшем смысле невозможно определить ценность дела.
[Закрыть]. Одни и другие согласны с этим мнением, которое, впрочем, высказывает дело, чем право. Когда начинается смертельная борьба, больше не говорят о трибунале, но о типе оружия.
Борцы всегда имели тенденцию обсуждать поведение других в их собственной системе восприятия. Если бы коллаборционист думал, как голлист, он был бы, очевидно, нехорошим человеком. Признавать неопределенность принятых решений, множество возможных перспектив на неизвестное будущее еще не значит ни подавление беспощадных конфликтов, ни избежание обязательств, но означает взятие на себя ответственности без ненависти и при уважении достоинства противника.
Правоверные и идеалисты начинают с выделения поступка действующего лица, его намерений и обстоятельств; они ставят его на место в собственном прочтении событий. А так как они заявляют об абсолютной ценности их цели, обвинение, которое поражает других людей или побежденных, остается безграничным. И пусть они начинают обращаться к моменту принятия решения, и пусть рассматривают обстоятельства: останется все меньше места для произвольных интерпретаций. И пусть они признаются в неведении конца и частичной легитимности противоречивых дел: ведь при этом смягчается суровость догматизма, который рубит от имени истины.
Кто претендует на вынесение окончательного вердикта, тот шарлатан. Или история – это высший суд, и она вынесет приговор без аппеляции только в день Страшного суда. Или совесть (или Бог) осудит историю, и будущее не имеет никакого другого авторитета, кроме настоящего.
* * *
Тридцать лет назад доминирующей в Советском Союзе была школа от имени марксизма, там решали задачу анализировать инфраструктуру, развитие производительных сил и борьбу классов. Эта школа не ведала героев и сражений, она все объясняла глубинными безличными неумолимыми силами. С тех пор возникли нации, войны, новые генералы. В одном смысле речь там идет о счастливом отклике. Общее возрождение прошлого не должно отрицать ни детерминизма машин, ни инициативы людей, ни различных встреч, ни столкновений армий. Но повторение событий в коммунистическом представлении истории приводит к странному миру, где все объясняется непреклонной и вымышленной логикой.
В истории с преобладанием детерминизма сил, производственных отношений, борьбы классов, национальных и империалистических амбиций должна найти себе место каждая деталь событий. Каждому индивидууму присваивается роль, соответствующая социальной ситуации, каждый эпизод преобразуется в проявление конфликта или в необходимость, предусмотренную доктриной. Нет ничего случайного, и все представляет определенное значение. Капиталисты подчиняются один раз и навсегда одной сущности: Уолл-стрит и Сити устраивают заговор против мира и против страны социализма. А мир признаний в виновности, карикатура на историческое пространство социализма – это мир классовой борьбы и тайных служб.
Капитализм и социализм перестают быть абстрактными понятиями. Они воплощаются в партии, личности, бюрократии. Западные миссионеры в Китае – это агенты империализма. Люди есть то, что они делают. Значение их поступков проявляется в версии, которая становится обладателем истины. Зло не создается невольно, можно было бы переиначить высказывание Сократа, не потому, что намерения не-коммунистов являются извращенными, но потому, что они не принимаются в расчет. Только социалист, который понимает будущее, знает смысл того, что делает капиталист, и объясняет, что он (капиталист) объективно хочет зла, которое сам на самом деле вызывает. Ничто не мешает в конечном итоге приписывать обвиняемым поступки, которые иллюстрируют истинную сущность их поведения: терроризм или саботаж.
Была партия гегельянской диалектики, теперь перешли к романам черной серии: сочетание, которое так нравится интеллектуалам, даже самым крупным. Случайность, невнятность их раздражают. Коммунистическая интерпретация никогда не кончается неудачей. Напрасно логики будут напоминать, что теория, которая уклоняется от опровержений, избегает методичности правды.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?