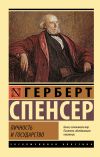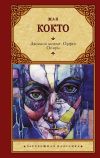Текст книги "Опиум интеллектуалов"
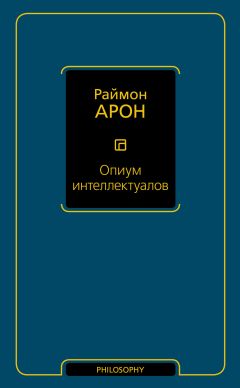
Автор книги: Раймон Арон
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Часть II. Обожествление истории
Глава 4. Люди церкви и люди веры
Марксизм больше не занимает почти никакого места в культуре Запада, даже во Франции и в Италии, где большая часть интеллигенции открыто связана со сталинизмом. Напрасно мы бы искали экономиста (достойного этой профессии), который смог бы охарактеризовать марксиста в точном смысле этого слова. В «Капитале» один заметит предвосхищение кейнсианских истин, другой увидит экзистенциальный анализ частной собственности или капиталистического режима. Никто не отдаст предпочтение категориям Маркса перед категориями буржуазной науки, когда речь идет об объяснении современного мира. Кроме того, напрасно искать известного историка, произведения которого ссылались бы или исходили из диалектического материализма.
И действительно, ни один историк и ни один экономист не думали бы точно так, если бы не существовало Маркса. Экономист приобрел понимание об эксплуатации или цене человеческого труда в экономике капитализма, в чем по справедливости надо отдать должное Марксу. Историк больше не осмелился бы закрывать глаза на бедственное положение, в котором находятся жизни миллионов людей. У них больше нет иллюзий понимания общества, когда пренебрегают организацией труда, технологией производства, отношением между классами. Это еще не значит, что из этого можно прийти к пониманию разновидностей искусства или философии начиная с понимания вещей.
Марксизм остается актуальным в своей исходной форме при идеологических столкновениях нашего времени. Осуждение частной собственности или капиталистического империализма, убежденность в том, что рыночная экономика и правление буржуазии клонятся к своему закату при наступлении социалистического планирования и власти пролетариата, – с этими фрагментами, вырванными из учения Маркса, согласны не только сталинисты или симпатизанты, но и огромное большинство тех, кто считает себя прогрессистами. Так называемая передовая интеллигенция даже в англосаксонских странах, где никогда не читали «Капитал», почти непроизвольно согласна с этими предубеждениями.
Опередивший в научном плане, более актуальный, чем прежде в идеологическом плане, марксизм, именно такой, как его в настоящее время истолковывают во Франции, появился раньше любой исторической интерпретации. Люди никогда не переживали таких катастроф, которые потрясли Европу в ХХ веке, не задаваясь вопросами о том, каковы эти события – трагические или величественные. Сам Маркс исследовал законы, по которым действует, поддерживается и трансформируется капиталистический режим. Войны и революции ХХ века выявили только, что в своей теории Маркс меньше доказал, чем внушил. Ничто не мешает сохранить слова «капитализм», «империализм», «социализм» – для обозначения реальностей, ставших совсем другими. И эти слова позволяют не только ненаучно объяснять ход истории, но приписать ему заранее установленные значения. Таким образом, катастрофы превратились в средства спасения.
В поисках надежды на протяжении эпохи отчаяния философы находят удовлетворение в катастрофическом оптимизме.
Непогрешимость партии
Марксизм сам по себе представляет синтез: он соединяет главные темы прогрессистской мысли. Он ссылается на науку, которая гарантирует конечную победу. Он превозносит технику, которая перевернет вековечный образ жизни обществ. Он делает своим вечное стремление к справедливости, он берет реванш за обездоленных. Он утверждает, что детерминизм управляет процессом исторической драмы, но эта необходимость – диалектическая, она содержит противоречие между режимами, следующими друг за другом, жестокий разрыв при переходе от одного режима к другому и конечное примирение между внешне противоречивыми требованиями. Пессимист поначалу, оптимист в результате, марксизм распространяет романтическую веру в плодотворность потрясений. Каждый характер, каждый тип разума обнаруживает свой аспект учения в соответствии со своими собственными предпочтениями.
Такой синтез всегда был более соблазнительным, чем строгим. Те, кто не проявляет благосклонности, с трудом признают совместимость между внятным характером исторической всеобщности и материализмом. Они понимали конечное совпадение между идеальным и реальным на протяжении такого же длительного периода времени, в котором сама история приходила к развитию сознания. Метафизический материализм, так же как и исторический материализм, делает странным, если не противоречивым, такое сочетание необходимости и прогресса. Отчего такое возвеличивание в мире, связанном с естественными силами? Почему история, развитие которой управляется производственными отношениями, должна привести к бесклассовому обществу? Почему это учение и экономика приводят нас к уверенности, что утопия реализуется?
Сталинизм усложняет внутренние трудности марксизма, делая акцент на вульгарном материализме и, более того, удаляя всю картину исторической эволюции. Священная история, которую марксизм высвобождает из серости общеизвестных фактов, проходит от примитивного коммунизма к социализму будущего: поражение частной собственности, эксплуатация, борьба классов были необходимы для развития производительных сил и восхождения человечества к высшей степени мастерства и сознания. Капитализм ускоряет собственную гибель, накапливая средства производства вместо справедливого распределения благосостояния. Ситуация, при которой произойдет революция, будет беспрецедентной: огромное количество жертв, незначительное число угнетателей, чрезмерно возросшие производительные силы и т. д. По ту сторону этого перелома идея прогресса станет актуальной. После пролетарской революции для социального развития больше не потребуется политической революции.
Во время немецкой социал-демократии и II Интернационала теория саморазрушения капитализма перешла к сущности догмы. Эдуард Бернштейн[48]48
Эдуард Бернштейн (1850–1932) – немецкий социал-демократ, публицист и политический деятель, идеолог ревизионизма. – Прим. перев.
[Закрыть] был обвинен в ревизионизме Всемирным съездом Интернационала потому, что он засомневался в ключевых аргументах этой теории (сплочение). Но догматизм не простирается дальше теории и стратегии, которые за тем следовали (революции в смысле диалектики капитализма). В повседневных действиях внутренние идейные разногласия каждой партии или между национальными партиями остаются легитимными: тактика не относится к священной истории. Она больше не проходит даже в сталинском режиме.
Революция 1917 года в России, поражение революции на Западе создали непредвиденную ситуацию, которая сделала неизбежным пересмотр доктрины. Остаются относительные понятия о структуре истории. Но поскольку пролетарская партия впервые победила там, где не выполнялись условия зрелости капитализма, и признано, что развитие производительных сил не предопределило ни единого шанса революции. Продолжают провозглашать, что шансы революции сокращаются по мере развития капитализма. Пришлось смягчить тезис: революция производится в форме революций, которые разгораются по воле многочисленных обстоятельств. Движение, которое идет от капитализма к социализму, сливается с историей партии большевиков.
Другими словами, чтобы примирить события 1917 года с доктриной, надо было отбросить идею, что история проходит одни и те же этапы во всех странах, и заявить, что русская партия большевиков была достойна пролетариата. Взятие власти партией (или национальной партией, ссылающейся на русскую партию) представляет собой воплощение подвига Прометея, с помощью которого угнетенные сбрасывают свои цепи. Каждый раз, когда партия завоевывает государство, революция развивается даже в том случае, если пролетарии во плоти не узнают себя в своей партии и революции. При III Интернационале это и есть определение мирового пролетариата и русской партии большевиков, которая представляет собой первичный объект веры. Сталинский или маленковский коммунист – это прежде всего человек, который не видит разницы между созданием Советского Союза и причиной революции.
История партии есть священная история, которая завершится искуплением человечества. Но каким образом партия могла принимать участие в бессилии, присущем невежественным творениям? Любой человек, даже большевик, может ошибаться. Партия определенного типа не может ошибаться, поскольку она провозглашает и творит правду истории. Однако действия партии приспосабливаются к непредвиденным обстоятельствам. Члены партии, одни и другие, преданные ей, выступают либо против принимаемого решения, либо против решения, которое должно будет принято. Такая внутрипартийная борьба мнений правомерна при условии, что они не предъявляют обвинения делегации пролетариата в партии. Но когда партия разделена по вопросам большой важности, например, коллективизации сельского хозяйства, одного из решений партии, то есть, с одной стороны, пролетариат и правда истории, а с другой – побежденная оппозиция, которая предала священное дело. Ленин никогда не ставил под сомнение свою миссию, которая в его глазах не отделялась от революционного призвания рабочего класса. Абсолютный авторитет, которым обладает небольшая группа или единственный человек в качестве «авангарда пролетариата», решает противоречия между абсолютной ценностью, которая все ближе привязана к партии и к поворотам действий, вовлеченных в бессистемную историю.
Партия, которая всегда права, должна каждое мгновение определять верную линию между сектантством (групповщиной) и оппортунизмом. Но где располагается эта верная линия? На равном расстоянии между рифами оппортунизма и сектантства. Но эти два рифа по происхождению расположены относительно этой верной линии. Она выходит из порочного круга только по декрету власти, который определяет одновременно и законы, и ошибки. И этот декрет бывает обязательно деспотичным, он принимается человеком, который самовластно рассекает границы между индивидуумами и группами, осуществляет разрыв между миром, который подвешивает правду непредвиденных двусмысленных решений интерпретатора, назначенного властью.
Изначально каждая экономическая система определялась режимом собственности. Эксплуатация трудящихся при капитализме вытекала из частной собственности на средства производства, эксплуатация вызывала бедность, а развитие производительных сил постепенно ограничится промежуточными группами. Революция могла бы возникнуть во время этого процесса, а задачей социализма стало бы справедливое распределение плодов накопления капиталистов. Однако революция 1917 года имела целью навязать эквивалент капиталистического накопления, а тем временем в Европе и Соединенных Штатах, несмотря на предвидения вульгарного марксизма, уровень жизни народных масс стал выше, а новые средние классы заполнили пустоту в рядах прежних сословий, открывших дорогу техническому прогрессу.
Эти хорошо известные факты не опровергают коммунистическую интерпретацию истории. Можно ссылаться на философские рассуждения, чтобы характеризовать социально-экономические системы режимов собственности даже в том случае, если уровень жизни меньше зависит от этого режима, чем от производительности труда. Эти факты заставляют вводить различие между тонким, или эзотерическим, смыслом и вульгарным, грубым смыслом слов.
Мы увидели пример такого различия относительно двух вариантов – идеального и реального освобождения. Рабочий заводов «Форд» является эксплуатируемым, если эксплуатация, по определению, связана с частным присвоением средств производства и прибылей предприятия. Рабочий Путиловского завода «свободен», если, работая в коллективе, он перестает, по определению, быть эксплуатируемым. Но «эксплуатация» американского рабочего не исключает ни свободных выборов председателей профсоюзов, ни дискуссий по поводу зарплаты, ни повышенного вознаграждения. «Освобождение» русского рабочего не исключает ни внутренних паспортов, ни огосударствления профсоюзов, ни зарплат, намного меньших, чем у западных рабочих. Советские руководители знают, что капиталистическая эксплуатация не предполагает ни нищеты трудящихся, ни сокращения части национального дохода, которую им возвращают. Чем больше различий между тонким и грубым смыслом слов, тем меньше вероятность, что правители могут публично признать истинность такого различия. Они пытались вынужденно предложить массам такую картину мира, где бы совпадал тонкий и грубый смысл. Рабочий Детройта, Ковентри, Бийянкура в соответствии с московской пропагандой будет обездоленным, а рабочий Харькова или Ленинграда будет пользоваться таким благосостоянием, которое неизвестно даже на Западе. А так как Советское государство пользуется монополией в средствах массовой информации и пропаганде и так как оно запрещает «свободным пролетариям» пересекать границы, умышленно ложная картина мира с разной степенью успешности внушается миллионам людей.
Та же самая дискриминация между тонким и грубым смыслом проводится в отношении множества терминов. Всякая победа, даже военная, коммунистической партии – это победа мира. Социалистическая страна, по сути своей, мирная, а капитализм – это результат капиталистических противоречий. Война как таковая не является неминуемой, но она несправедлива, когда не приводит к победе социализма, то есть коммунистической партии. С одной стороны, в грубом смысле слова, мир означает отсутствие войны. Но в Кремле или в политбюро французской партии знают эзотерическую доктрину мира и войны. Однако они чаще всего пользуются в целях пропаганды словом «мир» в его грубом смысле, чтобы польстить пацифизму народных масс[49]49
По нашему мнению, империалистическим считается любое государство, которое пытается преобладать над своими соседями, силой навязывая свою систему законов. С точки зрения коммунистов, только капиталистические государства могут быть империалистами: распространение советского социализма, совершенное русской армией, не является формой империализма.
[Закрыть].
Это различие двух смыслов объясняет любопытное обвинение, которое сталинизм предъявлял на протяжении своих последних лет оценке объективности. Рассматривать факты сами по себе, без ссылок на доктрину, – значит совершить буржуазную ошибку. Однако, если законно сводить разрозненные данные вместе, это не значит присваивать фактам значение, которое им противоречит, под предлогом более глубокого понимания. Усиление полиции не означает ослабления государства, а недостаточная роль профсоюзов на предприятии не приближает социализм. А те, кто хочет рассматривать грубые данные, организацию власти, отношения работников и нанимателей, идут по пути ереси.
Никто не знает, до какого предела простирается безусловная власть партии. В эпоху Жданова – Сталина вождь пресек борьбу мнений относительно теории наследственности, сформулировал теорию искусства, вмешивался в лингвистику и говорил истины о прошлом и будущем. Но никогда «историческая правда» не была такой мятежной в буквальном толковании. Имя Троцкого было стерто из анналов революции, и, таким образом, создатель Красной Армии попал в небытие.
Диалектики, ответственные за речевое выражение политики с помощью многочисленных пропагандистских громкоговорителей, делают различие между подлинной доктриной и идеологиями, используемыми для того, чтобы обольстить или завоевать какой-либо класс или нацию. Доктрина как таковая полагает, что любая религия – это суеверие, но провозглашает свободу вероисповедания. Часто в пропаганду за мир выступает митрополит, демонстрируя единение православных церквей. Доктрина отвергает национализм и считает бесклассовое общество универсальным. Когда речь идет о победе над гитлеровской агрессией, оживляются воспоминания об Александре Невском или Суворове, превозносятся добродетели великого русского народа. Более тридцати лет назад[50]50
Теперь уже больше 70 (Прим. перев.).
[Закрыть] завоевания царской армии были империалистическими, а теперь они считаются «прогрессивными» по причине превосходства цивилизации, устанавливаемой русскими войсками, и революционного будущего, обещанного Москвой. Не является ли единственной миссией великого русского народа идеология, умело используемая в качестве мотивов целесообразности для психотерапевтов или в качестве одного элемента доктрины?
Неспособные определить понятие правоверности, преданные люди признают строгую дисциплину в манере говорить и, по-видимому, достаточно большую свободу в манере думать. М.С. Милош[51]51
Сравни: La Pensee captive, Paris, 1953.
[Закрыть] проанализировал причины и системы оправдания примкнувших или колеблющихся интеллектуалов в странах народной демократии. Интеллектуалы Польши или Восточной Германии имеют опыт жизни в советской реальности. У них есть выбор между подчинением, безнадежным сопротивлением или эмиграцией. А интеллектуалы Запада имеют свободу.
Мотивы согласия и содержание веры зависят от той или иной личности: настоящая общность между верующими – это церковь, но не идеи или чувства. Настоящие коммунисты признают, что партия русских большевиков и партии, которые ссылаются на нее, воплощают дело пролетариата, которое сливается с социализмом.
Это проявление веры не исключает самых разнообразных интерпретаций. Один думает, что партия – это посредник, необходимый для ускоренной индустриализации, который отомрет с ростом уровня жизни. Другой считает, что социализм призван для всемирного распространения и что Запад будет неизбежно завоеван или преобразован не потому, что он морально или духовно на более низком уровне, но потому, что он исторически приговорен. Один придерживается социалистического накопления как самого главного и идеологического бреда для жалкой поддержки творения, которому приказывает разум. Другой придерживается противоположной «логократии» (власти слова) в качестве провозвестника новых времен: механистические общества, потерявшие веру в Бога, будут объединены под ярмом светской теологии.
Оптимисты или пессимисты, возбужденные бесконечным ожиданием или смирившиеся с бесчеловечной судьбой – все эти верующие находятся в авантюрной ситуации в масштабе личности, партия которых берет на себя ответственность. Они знают о существовании концлагерей, обесценивании культуры, но они отказываются отречься от клятвы преданности, ссылаясь на грандиозность замысла. И пусть человек в истории примет по отношению к своему времени определенную дистанцию на достаточный период времени, нужный историку: наши предки (?) покорятся, и, может быть, с благодарностью, почему бы с сегодняшнего дня не подражать мудрости наших потомков? Между активистом, который наивно каждый день воспринимает истину партии, и тем, который объективно знает мир, снимающий покровы смысла, существует много посредников.
Такая неуловимая правоверность от этого не становится менее властной, завоевательной. Она увеличивает авторитет марксистских идей могуществом факта: партия – это хозяин советского государства и огромной империи. Но те, кто ссылается на идеи, не преклоняясь перед фактами, колеблются с самого начала, то склоняясь к порицанию факта от имени идеи, то оправдывая факт самой идеей. Сталинист не всегда знает точно, во что он верит, но он твердо знает, что партия большевиков или президиум ВКП(б) обеспечили историческую миссию. Это верование могло показаться шутовским в 1903 году, странным – в 1917 году, сомнительным – в 1939 году. С этого времени оно посвящено богу войны. Какая другая партия была бы достойна воплотить дело мирового пролетариата?[52]52
Чтобы рассеять сомнения, достаточно было бы понять, что нет мирового пролетариата, как нет и дела мирового пролетариата.
[Закрыть]
Революционный идеализм
Победа всегда подвергает испытанию революционное сознание, которое идеализм выставляет против установленного порядка и становится, в свою очередь, привилегированным. Общество после этапов лирики и жестокости возвращается к повседневной жизни. Даже если бы он не был захвачен Сталиным и не начал заниматься индустриализацией, режим, построенный большевиками, разочаровал бы верующих.
И за пределами государства, и внутри его происходят колебания между двумя положениями: или, несмотря ни на что, поддержать новый режим, верный своему призванию, двигающемуся к намеченной цели, или же разоблачить разницу между тем, что заявляли пророки до взятия власти, и государством, которое построили бюрократы. С другой стороны железного занавеса первое положение подкупает больше, чем второе: разочарование выражается не в отказе, но с помощью психической сдержанности. Это оправдывается необходимостью отказа слиться с идеальным. С западной стороны железного занавеса, наоборот, особенно во Франции, среди интеллектуалов часто встречается второе положение.
Революционеры-несталинисты представляют себе революцию, которая порвала бы с капитализмом так же радикально, как и сталинизм, но обошлась бы без бюрократического вырождения, примитивного догматизма и полицейского беспредела. Они представляют разнообразие троцкизма, если согласиться, что этим термином марксисты обозначают то, что они приветствуют события 1917 года и критикуют с переменной силой некоторые аспекты советского режима. Троцкисты намерены принять Советский Союз для борьбы с капиталистическими государствами. Враждебно настроенные к миру буржуазии, который дает им свободу жить и выражать свое мнение, они тоскуют по другому миру, который их безжалостно изгонял и который, издали очаровывая, обращает их мечты и судьбы к пролетариату.
Революционеры-несталинисты с самого начала укрепления сталинской диктатуры не играли никакой важной политической роли. В парижских кругах они занимают первые места, а экзистенциалисты Жан-Поль Сартр и Морис Мерло-Понти придают вид философской респектабельности революционному идеализму, которому трагическая судьба Троцкого и сталинская действительность, кажется, уже вынесли приговор.
Христиане или рационалисты, бунтующие в поисках революции, вновь обращаются к писаниям молодого Маркса, так же как протестанты, духовные цели которых не удовлетворяла церковь, снова перечитывали Евангелие. «Экономико-политическая рукопись», «Введение в критику философии права» Гегеля, «Немецкая идеология» содержат оригинальное послание, которое призывает экзистенциалистов одновременно и держать дистанцию по отношению к советскому режиму, и ничего не менять в критике капитализма.
Такой образ мышления Humanisme et Terreur («Гуманизм и Террор») воспроизводится очень часто. Сотрудники журнала «Эспири» или «Там Модерн» во многих случаях приводят аргументы, которые для большинства содержат рассуждения, разработанные Мерло-Понти. Умозрительные построения Сартра по поводу пролетариата содержат только один из пунктов доказательства.
Если говорить по сути, то это примерно следующее. Марксистская философия на самом деле – окончательная истина с двойным смыслом. Она указала на необходимые условия «гуманизации» общества. Она начертала путь, идя по которому можно было бы достигнуть «окончательного решения проблемы сосуществования», то есть пролетарской революции. И только «подлинная интерсубъективность», «универсальный класс», пролетариат, организованный в партию, мог бы уничтожить капитализм и освободить всех людей, освобождая самого себя.
И нельзя ни отказаться от этой философии, ни перешагнуть через нее, надо спросить себя с полным правом, действительно ли пролетариат под управлением коммунистической партии сможет выполнить миссию, которую ему приписывала философия. Достаточно сильны причины, ставящие под сомнение верность Советского Союза под руководством Сталина пролетарскому гуманизму. Но никакой класс, никакая партия, никакая личность не смогут заменить пролетариат: а неудача пролетариата была бы неудачей всего человечества. В советском лагере могут согласиться на отсрочку прощения, они откажут в ней буржуазным демократам или капиталистам, которые понемногу сохраняют преимущества свободы и фактически скрывают насилие – колониализм, безработицу, низкую зарплату – под лицемерной идеологией.
«При ближайшем рассмотрении марксизм – никакая не гипотеза, которая завтра может быть заменена другой; это простое изложение условий, без которых не будет ни человечества в смысле взаимоотношений между людьми, ни разумности истории. В одном смысле – это не философия истории, это Философия истории, и отречься от нее – значит поставить крест на историческом разуме. После этого останутся только мечты или авантюры»[53]53
Humanisme et Terreur, p. 165.
[Закрыть]. Этот текст, невероятный по догматизму и наивности, является откровением. Он выражает убеждение многих интеллектуалов по всему миру: марксизм смешивается с Философией истории, – и это уже окончательно.
В чем же состоит, по мнению нашего автора, эта окончательная правда? Она не включает в себя ни главенства производственных отношений, ни плана исторического развития; она содержит две основные идеи: надо обратиться к прожитому опыту, чтобы оценить политико-экономические системы, а взаимное узнавание есть свойство чисто человеческого сообщества.
Эти две идеи приемлемы при условии, если рассеять двусмысленность первой идеи и заметить формальную природу второй. Действительно, критика идеологий, которая может ссылаться на Маркса, – это есть опыт политического сознания. И было бы стыдно оправдывать капитализм как модель образцовой конкуренции или парламентских режимов выдумкой самоуправления. Из этого не вытекает, что человек ничего не значит вне своей социальной роли, что межличностные отношения впитывают жизни всех и каждого. Под прикрытием одной приемлемой критики Мерло-Понти вскользь касается отрицания превосходства внутренней жизни.
Отделенное от философии, понятие узнавания не является ни более точным, ни более конкретным, чем понятие свободы. Но каковы требования такого узнавания? Какая разнородность будет совместима с узнаванием? Ни один из этих вопросов не находит ответа в Humanisme et Terreur.
Идея и слово «узнавание» скорее приходят из философии Гегеля, чем из творений молодого Маркса. В этой философии узнавание определяется, исходя из диалектики хозяина и раба, из войны и труда. Предположим, что Мерло-Понти воспринял эту диалектику и тоже рассчитывает на технический прогресс и всеобщее государство, чтобы там положить конец. В отличие от Маркса, у него нет глобального понятия истории. Марксистская критика развивалась в функции от идеи истории и человека, высказанной заранее для истины: реальность не соответствовала идее, что человек в философии, по Гегелю, мог стать самим собой. При этом меньше задавались вопросом о цели, чем о пути и средствах. Маркс посвятил свою жизнь не только рассуждениям на философские темы, но и анализу экономики и общества, чтобы в этом распознать путь разума через смешение событий. Феноменологическая доктрина, которая описывает опыт каждого, но не знает, ведет ли смена множества обществ к прогрессу человечества, должна придать содержание понятию узнавания. Несмотря ни на что, она не позволяет ни судить о настоящем, ни определить будущее.
Все сложные общества отличались незаконным распределением власти и богатства, соперничеством индивидуума и групп за обладание благами, цитируя нашего автора, скажем, «могущество одних и покорность других». Если этим утверждается радикальное устранение неравенства и соперничества, если власть одних не должна больше требовать подчинения других, тогда постреволюционное государство требует преображения социального положения всех. Таким образом, молодой Маркс размышлял над концом различия между субъектом и объектом, существованием и сущностью, природой и человеком. Но по той же самой рациональной идее выводится и ограничивается философским словарем и тысячелетняя мечта или религиозное ожидание конца времен.
И наоборот, если оставаться на земле, следует уточнить и структуру государства, и экономики, которые обеспечили бы это взаимное узнавание. Маркс писал больше века назад, в эпоху зарождения пролетариата, когда текстильные предприятия символизировали современную промышленность, когда общество своими выступлениями было почти неизвестно. Он мог приписать все зло частной собственности и рыночным механизмам и присваивал коллективной собственности и планированию несравненные добродетели, не думая об опыте времен. Назвать сегодня Советский Союз по воле Маркса «радикальным решением проблемы сосуществования» – все равно что назвать колонизацию желанием христианизации язычников.
Каким образом революции удалось бы сразу изменить положение пролетариев? Каким образом она положила бы начало эпохе взаимного узнавания? При переходе от философского плана к социологическому появился выбор из двух вопросов: или определить установки по отношению к одной идее: если рабочий «отчужден» и работает как частное лицо, это отчуждение исчезнет в тот день, когда все рабочие благодаря коллективной собственности и планированию будут непосредственно служить коллективности, то есть всеобщности. Или же грубо рассматривать типы людей при разных режимах, их уровень жизни, их права, обязанности, дисциплину, которой они подчиняются, перспективы карьерного роста, открывающиеся перед ними. Такая альтернатива подводит нас к альтернативе идеального и реального освобождения, в эзотерическом и грубом смысле. В тонком смысле, в России больше нет классов, потому что все работники являются наемными, включая Маленкова, а значит, по определению эксплуатация исключена. В грубом смысле каждый режим имеет некоторый вид несправедливости, некоторый тип власти и никогда не приведет к полной гуманизации жизни.
Какой из этих ответов выбирает господин Мерло-Понти? Ответ тонкого типа, но с использованием трех, а не одного критерия: коллективная экономика, стихийность масс, интернационализм. К сожалению, два критерия из трех слишком неопределенны, чтобы произвести какое-либо суждение. Массы никогда не бывают полностью пассивными, а их поступки никогда не являются полностью стихийными. Массы, которые бурно приветствовали Гитлера, Муссолини или Сталина, подвергались пропаганде, а не чистому принуждению. Преобладание в Восточной Европе коммунистических партий благодаря присутствию Красной армии – это выражение верности или карикатура на интернационализм?
Принимая без критики предрассудки интеллигенции, философ полагает, что частная собственность на средства производства несравнима с взаимным узнаванием людей. Как и многие передовые мыслители, он наивно согласен с прошлой удалью и не обращает внимания, что опыт не делает большого идеологического различия между двумя видами собственности, когда речь идет о крупных промышленных предприятиях. Американские «корпорации» не менее отличаются от того понятия, что Маркс называл частной собственностью, чем советские заводы.
Этих критериев недостаточно, чтобы отметить различие между революционным идеализмом и сталинским реализмом: закрепление неравенства, продолжение террора, неистовство национализма не входят в число ценностей, которые революция должна выдвигать. Новым заявлением философ делает из этих сомнений и тревог парадоксальное заключение. Разве можно обвинять Советский Союз, раз неудача задуманного дела есть неудача марксизма, а значит, самой истории? Восхитимся этим образом мышления, таким типичным для интеллигенции. Сначала исходили из узнавания человека человеком, прошли через революцию, присвоили пролетариату, и только ему одному, революционную способность, неявно подписались под притязаниями Коммунистической партии самой представлять пролетариат, и когда, в конце концов, с разочарованием увидели творение сталинистов, то даже не поставили под вопрос ни один из предшествующих этапов, не спросили себя ни об узнавании, ни о миссии пролетариата, ни о способах действия большевиков, ни о власти, которая внедряет тотальное планирование. Если революция, совершенная от имени марксизма, выродилась в тиранию, вина не будет возложена ни на Маркса, ни на его интерпретаторов. Ленин будет прав, и Мерло-Понти тоже, но история будет виновата, или, скорее, там не будет истории, и мир представляет собой бессмысленную сумятицу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?