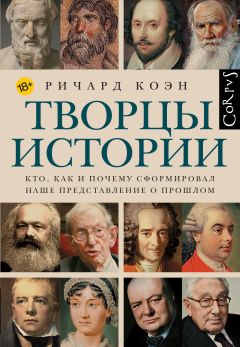
Автор книги: Ричард Коэн
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
В том, что касалось стандартов своего ремесла, Полибий был педантом. “Задача историка состоит не в том, чтобы рассказом о чудесных предметах наводить ужас на читателей, не в том, чтобы изобретать правдоподобные рассказы [Получи‐ка, Фукидид! – Р. К.] и в изображаемых событиях отмечать все побочные обстоятельства, как поступают писатели трагедий, – настаивает он, – но в том, чтобы точно сообщить только то, что было сделано или сказано в действительности, как бы обыкновенно оно ни было” (II. 56)[104]104
Polybius. The Histories, trans. Ian Scott-Kilvert. London: Penguin, 1979, II, 56. Все цитаты из Полибия даются по этому изданию. (В переводе цитаты из труда Полибия приводятся по изданию: Полибий. Всеобщая история. Перевод Ф. Мищенко. М., 2005. 3 т. В скобках римскими цифрами указан номер книги, арабскими – параграф и строка. – Прим. перев.)
[Закрыть]. Исторические сочинения должны быть полезными, а не занимательными. Полибий упрекает предшественников за преувеличения, непристойности, украшательство, “болтовню”, эксплуатацию читательских предрассудков (у Феопомпа, описывающего безнравственность македонского двора), пристрастность (у Фабия и Филина соответственно к Риму и Карфагену) или сведение рассказа к одной-единственной теме. Поскольку теперь у мировой истории имелась центральная тема – возвышение, всего примерно за полвека (220–167 годы до н. э.), Рима, всякая иная тема мелка и узка. Не случайно Фукидида Полибий упомянул всего однажды, а имя Геродота не назвал вовсе. “Если же мы станем писать неправду преднамеренно, будет ли то из любви к отечеству, по дружбе или из лести, то чем мы будем отличаться от людей, которые пишут историю ради прибытка? – вопрошает Полибий. – …Посему и читателям следует зорко наблюдать за этой стороной изложения, да и сами историки обязаны беречься подобных ошибок” (XVI. 14).
Полибий начинает свое сочинение не с основания Рима, полагая, что ранняя история и так всем хорошо известна, концентрируется на последнем столетии, где и становится главным конкурентом Тита Ливия, более полувека спустя рассказывавшего во многом о том же самом периоде. С точки зрения Полибия, в истории наблюдается предсказуемая циклическая смена государственных форм (этот подход он позаимствовал у греческих теоретиков). Полибий полагает, что существуют три типа политического устройства: царство (не то же самое, что королевская власть, но близко), аристократия и демократия. Монархия со временем вырождается в тиранию, аристократия – в олигархию, а демократия – в охлократию (“власть толпы”). Эта концепция повлияла на Макиавелли, Монтескье, Гиббона и даже вигских историографов – все они верили в цикличность истории. Наиболее стабильным устройством является такое, в котором в разумном соотношении соединяются черты всех трех, ну а соотношение будет постоянно меняться.
Циклическое представление об истории свойственно также ряду крупнейших авторов, в том числе мусульманскому историку Ибн Хальдуну, немецкому философу Освальду Шпенглеру и некоторым конфуцианцам. Полибия интересуют причины событий (например, он хорошо разбирается в оружии и его влиянии на исход военных действий)[105]105
Для сравнения: в 216 г. до н. э. при Каннах Ганнибал перебил 50 тысяч из примерно 80 тысяч римлян. В 1916 г. на Сомме англичане в первый же день потеряли 57 тысяч человек, большинство ранеными: в отличие от Канн, пленных почти не убивали. От немецких пуль погибло менее 20 тысяч человек.
[Закрыть]. К этому он добавляет уроки истории и влияния судьбы (олицетворявшейся греческой богиней Тихе, управлявшей судьбой городов), все вместе это становится “прагматической историей”, по Полибию, – историк должен понимать уроки истории и отдавать должное ее величию.
К счастью для нас, суровое понимание своего призвания не мешает ему помещать в том числе драматичные эпизоды: так, например, в рассказе о переходе войска Ганнибала через Альпы мы читаем о лавинах, о том, как вьючные животные падают в пропасти, мулы и лошади застревают в сугробах, об упрямстве слонов. В одном месте он рассказывает, как Ганнибал взрывает горную породу, сначала нагрев ее огнем, а затем вылив на скалу галлоны молодого вина. Отношение Полибия к Риму неоднозначно. Описывая события, он подробно описывает собственные достижения и великие деяния Сципиона Эмилиана, позднее – его друга и покровителя. Его стиль происходит из судебных речей греческих полисов и может быть до невозможности корректным. Кроме того, Полибий временами брюзжит, повторяется и ужасно скучен, но в лучших местах он мастер захватывающего исторического нарратива.
Полибий настаивает: документальные исторические источники важны, но чтобы рассказать о событиях недавнего прошлого, необходимы свидетельства участников: “Не может писать о государственном устройстве человек, сам не участвовавший в государственной жизни и в государственных делах” (XII. 25). Дороже всего – правда, даже если рассказчик – патриот: “Я готов извинить, если историк превозносит свое отечество, лишь бы уверения его не противоречили действительности (XVI. 14)”. Добросовестный историк должен знать города, реки, гавани и в целом географию (Полибий – родоначальник этой важной традиции в историографии), иметь политический и военный опыт и вообще должен быть бывалым путешественником. Сам Полибий много где побывал: “Мы подвергались опасностям странствований по Ливии, Иберии и Галатии, также по морю, ограничивающему их с наружной стороны” (III. 59). Будучи приглашенным к Сципиону в Северную Африку, он вернулся в Рим через Альпы, чтобы получить сведения о переходе Ганнибала, состоявшемся семьдесят лет назад, “от самих участников, местности осмотрены нами лично… ради изучения и любознательности” (III. 48).
Хотя Полибий ценил практический опыт выше изучения документов, очевидно, что у него имелся доступ к мемуарам и записям вне архивов и надписей, которые он, как мы знаем, старательно изучил. В тот период более чем в ста городах Италии имелись библиотеки. Никто не знает точно, когда они появились, но архивы (собрания документов, а не сочинений) существовали в Египте и Вавилонии уже до 3000 года до н. э., а институты, которые можно сравнить с библиотеками, – до 2000 года до н. э. Как отмечает Мэри Бирд, библиотеки – это
не только хранилища книг. Это инструменты организации знания и… контроля над этим знанием, ограничения к нему доступа. Это символы интеллектуальной и политической власти, далеко не безобидный очаг конфликта и сопротивления. Едва ли по соображениям безопасности столько наших крупных библиотек построено по образцу крепостей[106]106
Mary Beard, London Review of Books, February 1990, p. 11.
[Закрыть].
Выбор того, что именно попадало в библиотеки и там оставалось, имел политический смысл даже в большей степени, чем художественные решения. Ко времени Полибия уже существовала обширная литература на латинском языке. Первая в Риме публичная библиотека открылась в 39 году до н. э.[107]107
Casson, Libraries of the Ancient World, p. 22. См. также: Ernst Posner. Archives in the Ancient World. Boston: Harvard University Press, 1972; Felix Reichmann. The Sources of Western Literacy: The Middle Eastern Civilizations. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1980.
[Закрыть]. Август построил еще две (и следил за этими собраниями: он повелел изъять книги Юлия Цезаря и Овидия; позднее Калигула распорядился убрать из библиотек сочинения Вергилия и Тита Ливия – просто потому, что они ему не нравились). К IV веку в Риме имелось одиннадцать общественных бань, двадцать восемь библиотек и сорок шесть борделей.
Поскольку литературные тексты тогда безнаказанно копировались (первым в истории законом о защите авторских прав стал английский Статут королевы Анны 1710 года), искаженные сочинения нередко расходились шире оригиналов. Все это важно для историков, поскольку литературный труд, как правило, прославляет знание. Даже учитывая, что античная “книга” примерно соответствовала главе современной книги, много веков частные библиотечные собрания были незначительными[108]108
Это позволяло человеку написать за свою жизнь две тысячи “книг”. Марк Теренций Варрон (116–27 до н. э.) поддержал Помпея в борьбе с Цезарем, но после того, как солдаты Варрона дезертировали, организовал в Риме публичную библиотеку и сочинил около четырехсот девяноста свитков, а огромный его свод “Девять книг наук” стал образцом для энциклопедистов. После гибели Римской империи и перехода с египетского папируса на пергамент местной выделки облик книг изменился, они стали прямоугольными вместо квадратных по одной простой причине: тело большинства млекопитающих имеет продолговатую форму.
[Закрыть]. Джеффри Чосер (1343–1400) владел всего сорока книгами, Леонардо да Винчи (1452–1519) – тридцатью семью, а Бен Джонсон (1572–1637) – примерно двумястами. Римский читатель обращался в крупные общественные библиотеки или одалживал книги. В общем, Полибию, вероятно, пришлось побегать, но большая часть желаемого была ему доступна.
Можно ли считать преступлением, если историк нравов в точности передает подробности сообщенного ему повествования? Разве его вина, что действующие лица этого повествования, поддавшись страстям, которых он, к несчастью своему, совсем не разделяет, совершают поступки глубоко безнравственные?[109]109
(Цит. по: Стендаль. Пармская обитель. Перевод Н. Немчиновой. М., 2021.)
[Закрыть]
Гай Саллюстий Крисп испытывал сходные чувства и вполне мог подписаться под этими словами Стендаля из “Пармской обители”. Саллюстий – первый известный нам римский историк, работы которого уцелели до наших дней: два рассуждения о событиях совсем недавней истории – “О заговоре Катилины” (о попытке переворота в 63 году до н. э., предпринятой разоренным аристократом-демагогом) и “Югуртинская война” (о конфликте поздней республики с Нумидией – это примерно территория современного Северного Алжира – в 112–106 годах до н. э.), а также более масштабная, но дошедшая лишь в отрывках “История” Рима (78–67 годы до н. э.). Тацит восхищался Саллюстием. Квинтиллиан предпочитал его Титу Ливию и даже уподоблял Фукидиду – притом что своей репутацией Саллюстий обязан двум коротким сочинениям о событиях драматических, но незначительных, а также истории Рима, которая дошла до нас примерно в 500 фрагментах – в совокупности составляющих всего лишь 75 абзацев.
Саллюстий родился примерно в 100 километрах северо-восточнее Рима и, выйдя из бурной юности, делал политическую и военную карьеру. Во время войны с Помпеем он командовал войсками Цезаря и помог последнему справиться с врагами в Африке. За это Цезарь способствовал его возвращению в Сенат в 47 году до н. э. Саллюстий стал претором, а в 46‐м – наместником в Нумидии (здесь он услышал рассказы о восстании Югурты против римлян). Саллюстий, хотя его и обвинили в вымогательстве, избежал суда и остался сказочно богатым. После убийства Цезаря он удалился от общественной жизни и посвятил себя сочинительству. Возможно, его печалило отстранение от власти, но он нашел утешение в женитьбе на Теренции, бывшей жене Цицерона, и получил за ней большое приданое, в том числе два доходных дома в Риме, а также сады и большое поместье в пригороде столицы.
Колин Уэллс остроумно назвал Саллюстия “Яном Флемингом, выдающим себя за Грэма Грина”[110]110
Colin Wells. A Brief History of History. New York: Lyons Press, 2008, p. 33.
[Закрыть], по сути, ветреным человеком, притворяющимся строгим моралистом. Но это едва ли верно. Из изображения заговорщиков в первой книге Саллюстия, написанной через двадцать лет после заговора Катилины, ясно, что автора глубоко тревожит порча нравов. Причем Саллюстий, хотя и выставляет своего героя в дурном свете (в общем, справедливо: говорили, будто Катилина убил сына, чтобы заслужить благосклонность любовницы), приписывает ему и некоторые благородные качества.
События Югуртинской войны относятся к более раннему времени (111–105 годам до н. э.), но они все еще были живы в памяти римлян, и, кроме того, речь шла об африканском царьке провинции, наместником которой был сам Саллюстий. Югурта, правитель-клиент Рима, восставший против него, подкупал направляемых против него консулов и военачальников, и те заключали с ним перемирие. Наконец Югурте приказали явиться в Рим, и его спас один из народных трибунов, также подкупленный. Сенат велел Югурте покинуть город. Он оглянулся на Рим и сказал: “Продажный город, обреченный на скорую гибель, – если только найдет себе покупателя” (35.10)[111]111
(Саллюстий. Югуртинская война // Записки Юлия Цезаря. Гай Саллюстий Крисп. Сочинения. Перевод В. Горенштейна. М., 1999. В скобках указан номер главы и параграфа. – Прим. перев.)
[Закрыть]. Однако когда командующим назначили неподкупного Гая Мария, Югурта был пленен, его заставили пройти по столице в триумфальной процессии – и казнили.
Саллюстий приводит этот отвратительный рассказ как очередное свидетельство снижения стандартов, но делает это совсем не так, как современники. Он ориентируется на Фукидида, которому подражает, и иногда намеренно затемняет свою мысль, но в целом язык Саллюстия понятен и выразителен, а его обличения коррупции производят большое впечатление. Впрочем, Саллюстий не был настолько преданным своему делу летописцем и строгим нравоучителем, как следующий историк Рима – Тит Ливий.
“Латынь – язык довольно грубый”, – говорил эрудит Дэниел Мендельсон. Страница латинского текста “может напоминать сложенную из кирпичей стену”[112]112
Daniel Mendelsohn. “Epic Fail?” The New Yorker, 15 October 2018, p. 92.
[Закрыть]. Когда я учился в школе, много задавали из Тита Ливия, и мне странно считать великим историком этого автора непроходимого леса из абзацев, засаженного абсолютными аблативами, дативами, вокативами и аккузативами.
Тит Ливий родился в 59 году до н. э., в первое консульство Цезаря, в Патавии (современная Падуя), втором из богатейших городов Апеннин, широко известном консерватизмом своих жителей, и там же в 17 году н. э. умер. Тит Ливий, хотя и жил большей частью в Риме, был очень привязан к родному городу. Несмотря на республиканские симпатии, Тит Ливий был знаком с Августом и приятельствовал с Клавдием, которого обучал и призывал заниматься историописанием[113]113
Император Клавдий (10 до н. э. – 54 н. э.) был плодовитым автором. Кроме истории правления Августа (сорок один том), среди его трудов история этрусков (двадцать томов), карфагенян (восемь томов), а также этрусский словарь и книга об игре в кости, работа в защиту Цицерона, автобиография (восемь томов). Он предложил ввести в латинский алфавит три новые буквы, две из которых исполняли функции нынешних W и Y. Он также пытался ввести точки между следующими друг за другом словами, в классической латыни слова записывались без пробелов. Согласно Светонию, он даже издал эдикт, разрешающий пускать газы за столом ради пользы здоровью. К сожалению, ни одна из его работ не дошла до нас даже в отрывках.
[Закрыть].
По-видимому, Тит Ливий посвятил жизнь писательству, и в “Истории Рима от основания Города” (Ab Urbe Condita) он повествует о событиях почти восьми столетий. Книги сгруппированы по десять, и “декада” составляла переплетенный том (приблизительный подсчет показывает, что труд Тита Ливия занял бы около двух дюжин томов формата crown-octavo 126 × 190 миллиметров по триста страниц)[114]114
M. L. W. Laistner. The Greater Roman Historians. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1947, p. 77. Лайстнер отмечает, что собрание сочинений Маколея насчитывает всего “двенадцать томов”, но английский историк был постоянно занят государственными делами и умер в возрасте пятидесяти девяти лет.
[Закрыть]. Из 142 книг “Истории” до нашего времени дошло тридцать пять (менее четверти) и аннотации остальных. В уцелевшей части повествование доведено до 167 года до н. э. (примерно сто лет до рождения Тита Ливия). В утраченных томах говорилось о Первой Пунической войне, бурных временах Гракхов, о Катоне, Третьей Пунической войне, о войнах Помпея, Цезаря, Антония и Августа, то есть о важных вещах, поэтому потеря велика[115]115
В раннем Средневековье интерес к Титу Ливию был невелик. Но он стал центральной фигурой эпохи Возрождения, когда выяснилось, что рукописи его работ неполные, и коллекционеры предлагали за них большие деньги. Например, поэт Антонио Беккаделли (1394–1471) продал свой загородный дом, чтобы купить одну-единственную рукопись. Франческо Петрарка (1304–1374) и папа Николай V (1397–1455) организовали поиски недостающих книг, каких именно – об этом ходят легенды. Обнаруживались лишь искусные подделки. Уже в 1924 г. видный специалист по Титу Ливию объявил, что в подземелье в старинном монастыре найден полный, включающий и десять утраченных книг, текст “Истории Рима”. Увы, это была еще одна фальшивка (The Daily Princetonian. Vol. 45, No. 98, 6 October 1924). Юморист А. П. Герберт немедленно (10 сентября 1924 г.) поместил в Punch статью, в которой от имени Объединенного общества школьников прошлого, настоящего и будущего выразил протест против обнаружения новых книг Тита Ливия.
[Закрыть].
Однако то, что дошло, подтверждает, настолько далеко продвинулось историописание. Теперь историческое сочинение представляло собой рассказ о прошлом, недавнем или далеком, со все возраставшим вниманием к делам политическим и военным. В отличие от Саллюстия и Цицерона, Тит Ливий работал в период пика трансформации Рима из республики в центр империи и безусловно верил в ее величие. Он не участвовал, что было необычным для римского историка, в политике. Тит Ливий считал единоличное правление необходимым злом и позволял себе критиковать Августа (лат. “священный”), хотя и разумно отложил до смерти императора публикацию книг о гражданских войнах и приходе последнего к власти.
Главная цель заключалась в том, чтобы противопоставить величие старых римских порядков современному упадку нравов – не так уж это отличалось от других летописцев города. Тит Ливий опирался на широкий круг источников, не особенно заботясь об их надежности, он сосредоточивался на основных речах его главных персонажей, нередко вкладывая им в уста слова собственного сочинения (но римлянин, в отличие от Фукидида, следил, чтобы выступления ораторов соответствовали их характеру). Тит Ливий целиком полагается на других историков, будучи уверенным, что сумеет написать лучше и ради лучшей цели. Он составлял окончательную историю Рима так, как никому прежде не удавалось, и повторяет весь набор народных легенд (почти столь же богатый, как греческая и библейская мифология) – от спасения волчицей Ромула и Рема до похищения сабинянок и защиты моста Горацием Коклесом.
От Тита Ливия мы узнаем почти все представляющие интерес истории о первых днях Рима: о римском патриотизме, героизме и самопожертвовании. Часто встречаются рассказы о сверхъестественном, он обращает внимание на плачущие статуи (даже если не верит в них), пишет о потоках крови, ливнях из камней и мяса, чудовищах и говорящих коровах. Тит Ливий похож на журналиста таблоида, упорного в своем деле: “Древности простительно, мешая человеческое с божественным, возвеличивать начала городов” (I.7)[116]116
(Тит Ливий. История Рима от основания города. М., Наука, 1989. Перевод В. Смирина. Т. 1. С. 9.)
[Закрыть].
Исключительные события остаются в стороне, Тит Ливий по сути – не настоящий ученый, а взявшийся за историю литератор. Родившийся в Испании ритор Квинтиллиан (35–100) отметил присущее прозе Тита Ливия качество lacteal ubertas – “молочно-насыщенный”. Например, описывая войну с Ганнибалом (и во многом опираясь здесь на Полибия), Тит Ливий излагает события именно в такой живописной манере, которую предшественник терпеть не мог. Иногда кажется, что Тит Ливий фиксирует события только потому, что они есть в хрониках, как если бы он был простым летописцем, но уже вскоре мы оказываемся в центре бурно разворачивающихся событий. Вот воины Ганнибала, борясь со стихией, идут через Апеннины:
Дождь и ветер хлестали пунийцев прямо в лицо и с такой силой, что они или были принуждены бросать оружие, или же, если пытались сопротивляться, сами падали наземь, пораженные силой вьюги. На первых порах они только остановились. Затем, чувствуя, что ветер захватывает им дыхание и щемит грудь, они присели, повернувшись к нему спиною. Вдруг над их головами застонало, заревело, раздались ужасающие раскаты грома, засверкали молнии; пока они, оглушенные и ослепленные, от страха не решались двинуться с места, грянул ливень, а ветер подул еще сильнее (XXI.58).
В предисловии Тит Ливий утверждает, что даже более исторической точности он желает рассказать о поступках и людях, которым следует подражать. Он выступает против признаков упадка – от иноземной роскоши до отсутствия уважения к родителям. К ним относились дорогие накидки и покрывала на пирах, танцовщицы и кифаристки, “именно тогда стали платить большие деньги за поваров, которые до этого считались самыми бесполезными и дешевыми рабами, и поварской труд из обычной услуги возвели в настоящее искусство” (XXXIX.6). В предисловии Тит Ливий дает понять, что не только стремится изложить историю Рима:
Мне бы хотелось, чтобы каждый читатель в меру своих сил задумался над тем, какова была жизнь, каковы нравы, каким людям и какому образу действий – дома ли, на войне ли – обязана держава своим зарожденьем и ростом; пусть он далее последует мыслью за тем, как в нравах появился сперва разлад, как потом они зашатались и, наконец, стали падать неудержимо, пока не дошло до нынешних времен, когда мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не в силах (Pr. 9)[117]117
Titus Livius (Livy), The History of Rome, bk. 1, 1–14.
[Закрыть].
Это довольно пессимистичный взгляд, но вообще Тит Ливий считает прошлое превосходящим современность в моральном и интеллектуальном отношении. Но не стоит считать его унылым. Чаще всего он какой угодно, но не унылый – как, например, в его описании римских флейтистов, которые в 311 году организовали забастовку. Им не разрешили провести их ежегодный пир – лишили привилегии, которой они пользовались десятилетиями, с тех пор когда Рим переживал разгар войны. Крайне возмущенные, они отправились в Тибур, город в тридцати километрах к северо-востоку от Рима, в городе не осталось ни одного флейтиста, чтобы играть на многочисленных религиозных церемониях. Сенаторы пришли в отчаяние и призвали на помощь жителей Тибура. По случаю праздника те пригласили музыкантов в свои дома и угостили кушаньями и вином, до которых музыканты, согласно Титу Ливию, весьма охочи. Когда флейтисты опьянели и уснули, хозяева положили их на повозки и вернули в Рим, оставив вповалку на Форуме. Когда на следующее утро музыканты проснулись, чувствуя себя ужасно, вокруг собралась большая толпа, призывавшая их играть. Так они и поступили – в награду Сенат выдал им привилегию три дня в году шествовать по городу в нарядных одеждах без всяких ограничений. Никто не остался внакладе.
И если историописание теперь занимало прочное положение как ответвление литературы, то судьба Иосифа Флавия кажется предметом художественного вымысла. В 66 году, уже в период письменной истории, население Палестины восстало против римского правления. Иосиф Флавий (в то время звавшийся Иосефом бен Матитьяху) был ученым, священником и фарисеем. Человек умеренный и осторожный, он мало симпатизировал восставшим, но когда евреи изгнали римлян из Иерусалима, согласился возглавить оборону северной области Галилеи. Император Нерон вызвал Тита Флавия Веспасиана, военачальника, отличившегося при завоевании Британии, и поручил ему подавить восстание.
Явилось большое войско (около 60 тысяч), и после второго кровавого сражения отряду Иосифа Флавия пришлось отступить на юг Галилеи, и здесь, в крепости Иотапата, они провели следующие сорок семь дней в осаде. Воины Веспасиана нашли спрятавшегося Иосифа с сорока товарищами. Он хотел сдаться, но подчиненные сочли более почетным выходом самоубийство. Иосиф Флавий назвал самоубийство предосудительным и предложил по жребию убивать друг друга. Все согласились.
Будучи командиром, Иосиф Флавий устроил жеребьевку и был одним из двух оставшихся. По его словам, ему удалось хитростью просчитать последовательность и сохранить себе жизнь. Один за другим воины закололи друг друга, пока – “по счастливой случайности, а может быть, по божественному предопределению”[118]118
Josephus, The Jewish War, Bk. III, ch. 8, pa. 7.35. См. также Ralph Ellis. King Jesus: King of Judaea and Prince of Rome. Cheshire, U. K.: Edfu Books, 2008, p. 248. (Этот случай впоследствии стал называться задачей Иосифа Флавия. Рассказ о том, что Иосифу Флавию удалось вычислись правильное место в кругу, чтобы остаться в живых, дошел только в так называемой славянской копии “Иудейской истории”. См.: Н. А. Мещерский. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.‐Л., 1958. С. 310. О задаче см.: Р. Грэхем, Д. Кнут, О. Паташник. Конкретная математика. М., 1998. С. 25–27. – Прим. ред.)
[Закрыть] (III.8.7) не остались Иосиф и еще один воин. Иосиф Флавий убедил его, что жизнь в плену – не худшая доля, и они сдались. В заточении Иосиф Флавий будто бы получил божественное откровение и предсказал, что Веспасиан станет императором. Сочтя пленника вероятным пророком, римляне сохранили ему жизнь, и он стал заложником и переводчиком. Два года спустя, когда Веспасиан в 69 году воцарился в Риме (последним из четырех в том году императоров), он вспомнил о пророчестве и даровал пленнику свободу. Иосиф присовокупил к своему родовое имя императора – Флавий. Он окончательно перешел на сторону римлян, пережил трех жен-евреек и стал советником Тита, сына Веспасиана.
Иосифу Флавию, как известно, удалось написать историю восстания – книгу “Иудейская война” (Веспасиан и Тит, как говорят, просматривали текст), а после “Иудейские древности” – подробное изложение еврейской Библии с многочисленными прибавлениями и изъятиями. Вместе взятые, эти книги представляют собой первую авторитетную светскую историю евреев за два века, от Маккавеев (ранее поднявших восстание [166–142 до н. э.] против Рима) и сикариев (“кинжальщиков”, убивавших коллаборационистов) до разрушения Иерусалима Титом [в 70 году н. э.], созданное для читателей-нееврееев, говорящих по‐гречески. “Солдаты убивали иудеев на пути несметными массами. Не было ни пощады к возрасту, ни уважения к званию: дети и старцы, миряне и священники были одинаково умерщвлены. Ярость никого не различала” (V.5.1), – писал он. Приводимые им подробности расправ соперничают с ужасами, описываемыми историками глубокой древности.
Иосиф Флавий отчасти стремился опровергнуть обвинения в коллаборационизме и объяснить, что попросту воспользовался шансом. Он изображает себя бесстрашным и умелым полководцем, а свое пленение изображает национальной катастрофой. При этом Иосиф Флавий стремится объяснить законы и обычаи своего народа говорящей по‐гречески части населения империи (“Иудейская война” написана на родном языке историка – арамейском – и затем переведена на греческий). Он мало что рассказывает об Иисусе и первых христианах (настолько мало, что переписчики-христиане позднее прибавили нужные, по их мнению, детали), но сообщает ценные сведения о событиях, описанных в Новом завете.
Когда летом 2013 года я впервые приехал в Иерусалим, слова Иосифа Флавия были повсюду: на музейных табличках, камнях, рекламных буклетах и во всех исторических книгах. Я посетил крепость Масада, достопримечательность сионизма – еще одной величайшей легенды XX века, и услышал, как экскурсовод пересказывает историю Иосифа Флавия о том, как ему удалось избежать неминуемой, казалось бы, смерти. Экскурсовод закончил словами: “Кто бы не поступил иначе, имей он такую возможность? И кто не захотел бы, чтобы его считали героем?” И все мы, вообразив себя окруженными неприятелем и отсчитывавшими, вероятно, последние мгновения своей жизни, согласно кивнули. Но неудивительно, что Мэри Бирд называет Иосифа “самым удачливым предателем в истории”[119]119
Mary Beard, The New York Times, 1 April 2018, p. 8.
[Закрыть].
Его называли величайшим историком Рима, самым точным аналитиком автократического правления императоров. Вопреки своему прозвищу, означающему “тихий”, “молчаливый”, Публий Корнелий Тацит был выдающимся, красноречивым оратором, автором нескольких знаменитых книг. Детство Тацита, родившегося около 56 года в одной из северных провинций, пришлось на правление Нерона. Юность он провел на гражданской службе. Его отец, вероятно, был всадником (эквитом) и прокуратором провинции Белгика, то есть принадлежал к верхушке римского общества, но не к аристократии. Всадническое сословие напоминало клуб, членство в котором обусловливалось богатством. Эквиты пользовались особыми привилегиями, однако не настолько обширными, как сенаторы.
Сам Тацит к тридцати годам стал претором, был введен в Сенат, а после четырех лет отсутствия в Риме с женой, дочерью консула, сам стал консулом – одним двух главных должностных лиц, командовавших войском и председательствовавших в Сенате. Самый знаменитый процесс Тацита состоялся в 100 году: тогда он со своим другом Плинием Младшим добился осуждения за мздоимство и вымогательство проконсула Мария Приска, наместника Нерона, и изгнания виновного. Тацит мог сделать и большее, но закончил карьеру наместником провинции Азия (современная Турция). “На протяжении блестящей карьеры, – пишет Том Холланд, – он демонстрировал развитый, хоть и неявный, инстинкт выживания”. Когда императоры творили ужасное, “он предпочитал опускать голову и отводить взгляд”[120]120
Tom Holland. Dynasty. New York: Doubleday, 2015, p. xxi.
[Закрыть]. Но ему пришлось компенсировать этот консерватизм, когда он взялся за написание истории.
Через год после сложения обязанностей консула Тацит опубликовал две небольшие книги: “Жизнеописание Юлия Агриколы” (биография-панегирик о покойном тесте, наместнике Британии; именно Тацит впервые упомянул Лондон) и примерно тридцатистраничную “Германию” (“О происхождении и местоположении германцев”). Образованные римляне того времени живо интересовались независимыми германскими племенами и походами против них, и для Тацита эти книги стали пробой пера. Агрикола изображен не слишком живо, здесь мало занятных историй, а походы описаны в самых общих чертах (Тацита – вероятно, никогда не видевшего Германию – часто называли невоенным историком). Но резкость и проницательность, отличающие его поздние работы, уже присутствуют. Перечислив принятые Агриколой меры по романизации Британии, Тацит сообщает: “За этим последовало и желание одеться по‐нашему, и многие облеклись в тогу. Так мало-помалу наши пороки соблазнили британцев, и они пристрастились к портикам, термам и изысканным пиршествам. И то, что было ступенью к дальнейшему порабощению, именовалось ими, неискушенными и простодушными, образованностью и просвещенностью”[121]121
Tacitus, Agricola, ch. 1, para. 21.
[Закрыть] (“Жизнеописание Юлия Агриколы”, 21). (Имея в виду тестя, Тацит приводит афоризм: “И при дурных принцепсах могут существовать выдающиеся мужи” (42).) А в уста вождя британцев [по имени Калгак] вложено знаменитое обличение захватчиков: “Отнимать, резать, грабить на их лживом языке зовется господством; и создав пустыню, они говорят, что принесли мир” (30)[122]122
Tacitus, Agricola, ch. 1, para. 30. (Цитаты из произведений Тацита приводятся по изданию: Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Пер. и ком. А. Бобовича. М., 1993. Т. I, II. В скобках указано название и номер параграфа. При цитировании подряд произведение указывается только один раз. – Прим. перев. и ред.)
[Закрыть].
Позднее Тацит написал намного более совершенные книги: “Диалог об ораторах”, “Историю” (от падения Нерона в 68 году и восшествия на престол Тиберия, содержит рассказ о кратком периоде гражданской войны, в том числе о 68/69‐м, “годе четырех императоров” – Гальбы, Отона, Вителлия, Веспасиана, – и доведена до смерти Домициана в 96‐м), а спустя еще примерно десятилетие – “Анналы” (сочинение известно под этим названием с XVI века), от смерти Августа до Клавдия. Повествование на 66 году обрывается на середине предложения. Более половины текста “Анналов” утрачено, в том числе средняя часть, где идет речь о безумце Калигуле.
Как и Титу Ливию, Тациту нравятся моральные наставления:
Я решил приводить только те высказывания в сенате, которые представляются мне либо достойными всяческой похвалы, либо примечательными по своей исключительной низости, ибо я считаю главнейшей обязанностью анналов сохранить память о проявлениях добродетели и противопоставить бесчестным словам и делам устрашение позором в потомстве (“Анналы”, III, 65).
Тацита, по‐видимому, не привлекает витиеватость, свойственная устным рассказам. Его в большей мере заботит занимательность. У Тацита немного сквозных философских или богословских идей, в его текстах есть противоречия, но в пристрастии к афоризмам он может соперничать с Геродотом: “Боязнь, что резня, раз начавшись, окончательно лишит его контроля над положением” (“История”, I, 39); “Даже самым мудрым людям от честолюбия удается избавиться позже, чем от других страстей” (IV, 6); “Больше всего законов было издано в дни наибольшей смуты в республике” (“Анналы”, III, 27); “Благодеяния приятны лишь до тех пор, пока кажется, что за них можно воздать равным; когда же они намного превышают такую возможность, то вызывают вместо признательности ненависть” (“Анналы”, IV, 18). Из-за плавного ритма последнее высказывание вполне можно приписать Сэмюэлу Джонсону.
Далее Тацит повествует о гражданских войнах, свидетелем которых сам оказался, и в его описании человеческих страданий соединены восхищение, отвращение и почти кинематографический размах. В 9 году в Тевтобургском лесу (современная Нижняя Саксония) три легиона попали в засаду, устроенную молодым германским вождем Арминием. Пять лет спустя римское войско во главе с Германиком вступило
…в унылую местность, угнетавшую и своим видом, и печальными воспоминаниями. Первый лагерь Вара большими размерами и величиной главной площади свидетельствовал о том, что его строили три легиона; далее полуразрушенный вал и неполной глубины ров указывали на то, что тут оборонялись уже остатки разбитых легионов: посреди поля белелись скелеты, где одинокие, где наваленные грудами, смотря по тому, бежали ли воины или оказывали сопротивление. Были здесь и обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа, пригвожденные к древесным стволам. В ближних лесах обнаружились жертвенники, у которых варвары принесли в жертву трибунов и центурионов первых центурий (“Анналы”, I, 61).
Впрочем, Тацита интересует не Римская империя в целом (“Моя хроника – совсем другое дело, чем истории раннего Рима”): он фокусируется на частной жизни ее правителей, их дворах и интригах, на высшем слое, к которому сам принадлежал. В начале “Анналов” Тацит объявляет, что намерен вести рассказ “без гнева и пристрастия, причины которых от меня далеки” (I.1). Увы, это не так, и в “Истории” очевидна его неприязнь к Домициану, которому, по собственному признанию Тацита, он отчасти обязан возвышением. Не обращая внимания на его многочисленные достижения, он назвал его человеком, душа которого “легко распалялась гневом”. Так, Тацит сообщает, что одним из любимых развлечений императора было казнить тех, кто досаждал ему, спустя годы после нанесенной обиды. Тацитовы портреты Тиберия (для его последних лет у историка едва находится доброе слово), Клавдия и Нерона близки к карикатуре – настолько сильные чувства испытывает автор. После смерти Тиберия Тацит подвел итог:
И нравы его в разное время также были несхожи: жизнь его была безупречна, и он заслуженно пользовался доброю славой, покуда не занимал никакой должности или при Августе принимал участие в управлении государством; он стал скрытен и коварен, прикидываясь высокодобродетельным, пока были живы Германик и Друз; он же совмещал в себе хорошее и дурное до смерти матери; он был отвратителен своею жестокостью, но таил ото всех свои низкие страсти, пока благоволил к Сеяну или, быть может, боялся его; и под конец он с одинаковою безудержностью предался преступлениям и гнусным порокам, забыв о стыде и страхе и повинуясь только своим влечениям (“Анналы”, VI, 51).
Захватывающее повествование, правда, другие рассказчики этому противоречат, утверждая, что Тиберий до самого конца находился в здравом уме и что ни описываемых Тацитом безудержных оргий, ни государственного террора никогда не было. Однако запоминается именно его рассказ, полный непристойных подробностей, например, что Тиберий заставлял юных мальчишек вылизывать ему гениталии, а детей старейших римских родов – многократно совокупляться у него на глазах. Во многих описаниях Тацит показывает себя тонким психологом, однако он полагает, что характер – вещь статичная и неизменная, поэтому, раз уж известно, что Тиберий заканчивал свое правление как диктатор, отсюда непременно следует вывод, что он с самого начала был порочным человеком. В других случаях Тацит вполне осознает, что моральная деградация – процесс долгий, нередко занимающий много лет, но императорам он этого простить не мог. Они, по его мнению, не способны совладать с коварными и жестокими женами; их секретари и советники льстят и потворствуют; имперские войска состоят из кровожадных толп, которые безнаказанно свергают правителей и попирают законы. К 68 году в живых не осталось ни одного потомка Августа.









































