Текст книги "Моя жизнь. Том II"
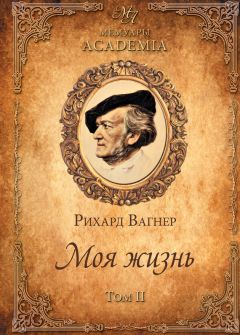
Автор книги: Рихард Вагнер
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
И я также счел необходимым отдать в это издание статью, оказавшуюся роковой. Я подметил частое употребление некрасиво звучащих словечек, вроде «иудейские мелизмы», «синагогиальная музыка» и т. д., служивших орудием пустого подстрекательства. Мне хотелось разобрать поглубже вопрос о роли современных евреев в области музыки, об их влиянии на нее и вообще отметить характерные особенности явления в целом. Я сделал это в довольно обширной статье «Еврейство в музыке»[173]173
Статья «Еврейство (иудейство) в музыке» (Das Judenthum in der Musik) была написана Вагнером в 1850 г. Хотелось бы обратить особое внимание на то, что Вагнер не был источником антисемитизма, не был «основателем» и «первопроходцем». Если во всем остальном Вагнер – лидер, страстный реформатор и оригинальный мыслитель, то в данном случае он – жалкий эпигон, если не сказать плагиатор. Во времена Вагнера была своеобразная мода публично выступать с подобными «лекциями» в среде творческой интеллигенции, причем далеко не только в Германии. Мало найдется философов-современников Вагнера, которые обходили бы молчанием эту болезненную тему. Одним из ярких и показательных примеров служит в данном вопросе статья социального философа и экономиста, создателя доктрины «научного» социализма Карла Маркса (1818–1883), тем более что сам он принадлежал как раз к кругам еврейской интеллигенции и выражал, скажем так, «взгляд изнутри». Эта статья, так и названная «К еврейскому вопросу», была написана Максом еще в 1843 г. и напечатана в журнале «Deutch-Französische Jahrbücher» («Немецко-французский ежегодник»). Можно предположить с почти стопроцентной уверенностью, что со статьей Маркса Вагнер к моменту написания собственной статьи уже был давно знаком. Читая обе статьи, невозможно не заметить, что Вагнер совершенно не оригинален и во многом лишь приспосабливает статью Маркса к своим интересам. Причем в данном «диалоге» Маркс выступает, пожалуй, еще более непримиримым антисемитом, нежели Вагнер, у которого довольно большой объем статьи вообще занимает субъективный анализ композиторского творчества Мендельсона и Мейербера. Ни одной цельной работы на тему еврейского вопроса у Вагнера больше нет. Есть отдельные, и многочисленные, разрозненные ксенофобские высказывания (кстати, не только по отношению к евреям, а, например, и по отношению к французам – ничуть не менее, а местами и более, злобные и несправедливые), выставляющие композитора далеко не в лучшем свете. Что же касается самого творчества Вагнера, то видеть в нем проявление какой-либо человеконенавистнической идеи, по меньшей мере, абсурдно.
[Закрыть]. Хотя я и не намерен был отрекаться от своего авторства, я все-таки счел за лучшее подписать статью псевдонимом. Я не хотел, чтобы вопрос, к которому я относился очень серьезно, обратился в предлог для сведения личных счетов, чтобы истинное значение его чем-либо было заслонено. Шум, который произвело появление этой статьи, ужас, который она вызвала, не поддаются описанию. Вся тревога печати, все неслыханные враждебные выходки, которые до сих пор позволяет себе по моему адресу пресса Европы, понятны лишь тому, кто, внимательно ознакомившись с моей статьей, вспомнит момент ее появления, вспомнит, что все газеты Европы находятся почти исключительно в руках евреев. Но тот, кто захочет искать причины этой беспощадной ненависти и травли в теоретическом или практическом несочувствии моим взглядам, моим работам по искусству, будет далек от истины. Появление этой статьи вызвало бурю негодования, которая обрушилась на ни в чем неповинного и едва понимавшего, в чем дело, Бренделя. Его стали преследовать и даже угрожали уничтожить его окончательно. Другим непосредственным результатом статьи оказалось то, что отныне даже те немногие лица, которые благодаря Листу сочувственно ко мне относились, приняли новую тактику, стали меня замалчивать, а затем перешли даже на враждебную по отношению ко мне позицию. Интересы собственной шкуры заставляли их выказывать отвращение по моему адресу.
Тем вернее и решительнее держал мою сторону Улиг: он не давал падать духом Бренделю и постоянно помогал его газете своими писаниями, то серьезными, то остроумными и меткими. Он тотчас же избрал себе главного противника, завербованного Фердинандом Хиллером в Кёльне, господина Бишофа[174]174
Бишоф Людвиг Фридрих Кристиан (Bischoff; 1794–1867), немецкий педагог, музыкальный критик и издатель. Изучал филологию в Берлинском университете. В 1823–1849 гг. был директором гимназии в Везеле (Wesel). Одновременно с занятиями наукой серьезно занимался музыкой. В 1850 г. в Кёльне основал Rheinische Musikzeitung («Рейнскую музыкальную газету»), в 1853 г. получившую название Niederrheinische Musikzeitung («Нижнерейнская музыкальная газета»), редактором которой оставался до конца жизни. Это издание было весьма влиятельным в музыкальной жизни своего времени.
[Закрыть], который изобрел для меня и моих приверженцев прозвище «музыканты будущего», и пустился с этим господином в длинную, довольно забавную полемику. Так было положено основание проблемы «музыки будущего», проблемы, которая разрослась до степени европейского скандала. Лист первый с присущим ему добродушием принял прозвище «музыканта будущего» и с гордостью стал его носить. Конечно, заглавием своей книги «Произведение искусства будущего» я сам подал повод к насмешкам. Но оно стало форменным боевым кличем лишь с той минуты, как «Еврейство в музыке» открыло все шлюзы ярости, излившейся на меня и моих друзей. Книга моя «Опера и драма» вышла в свет только во второй половине этого года. Поскольку она вообще могла обратить на себя внимание влиятельных музыкантов, то немало, разумеется, способствовала обрушившейся на меня всеобщей ненависти. Но с тех пор эти преследования стали носить скорее характер тайных козней и клеветы. Все движение было возведено в планомерную систему Мейербером, который был истинным мастером в такого рода делах. Он руководил интригами против меня вплоть до самой своей благополучной кончины.
263
Уже в первые дни открытого негодования, которым разразилась пресса, Улиг познакомился с моей работой «Опера и драма». Я подарил ему оригинал рукописи, и так как он был в изящном красном переплете, то мне пришло в голову в виде посвящения перефразировать гётевское «Grau, mein Freund, ist alle Theorie»[175]175
«Сера, мой друг, всякая теория» (нем.). Известный отрывок из I части гётевского «Фауста» (сцена IV):
Grau, teurer Freund, ist alle TheorieUnd grim des Lebens goldner Baum. Наиболее близок к оригиналу перевод Валерия Брюсова:
Сера, мой друг, теория везде,Златое древо жизни зеленеет.
[Закрыть] на «Rot, mein Freund, ist meine Theorie»[176]176
«Красна, мой друг, моя теория» (нем.).
[Закрыть]. По этому поводу между мной и моим молодым другом, умевшим быстро и тонко откликаться на все, завязалась плодотворная для меня и в высшей степени приятная переписка.
В результате мне искренне захотелось повидаться с ним после двухлетней разлуки. Бедному скрипачу, только что назначенному камер-музыкантом, было крайне затруднительно принять мое приглашение. Однако он старался преодолеть все трудности и уведомил меня о своем приезде, назначив его на первые дни июля. Я решил выехать ему навстречу и дожидаться его в Роршахе на Боденском озере, а оттуда вместе с ним совершить прогулку по Швейцарии до Цюриха. Отправился я в путь по старому, привычному способу, пешком, сделав намеренно крюк через Тоггенбург. Оживленный и радостный добрался я до Сен-Галлена, где посетил Карла Риттера, жившего со времени отъезда Бюлова в полном уединении. Я догадывался о причине его отшельничества, хотя он мне и рассказывал о приятном знакомстве с неким сен-галленским музыкантом Грайтелем [Greitel], который потом вскоре исчез с нашего горизонта. Несмотря на утомительное путешествие пешком, я все же не мог удержаться, чтобы не прочесть в высшей степени просвещенному и отзывчивому молодому другу еще никому не читанную, только что законченную поэму «Юный Зигфрид». Впечатление, какое я произвел на него, очень порадовало меня, и, будучи сам в прекрасном настроении духа, я убедил его нарушить свое странное затворничество и вместе со мной пойти навстречу Улигу, чтобы затем, общей компанией, перевалив через высокие Сэнтис[177]177
Сэнтис (Säntis), горная группа в Гларнских Альпах на границе кантонов Сен-Галлен и Аппенцелль. Вершина – Hochsäntis – 2540 м; с нее открывается живописный вид на Аппенцелль, Тоггенбургскую и Рейнскую долины, Боденское озеро и Альпы.
[Закрыть], отправиться в Цюрих и основаться там надолго.
При первом же взгляде на моего гостя, как только он высадился в хорошо знакомой мне Роршахской гавани, я был охвачен серьезными опасениями за его здоровье. Заметно было его предрасположение к чахотке. Чтобы пощадить его, я хотел отказаться от предполагавшегося восхождения на горы. Но он с жаром стал настаивать на выполнении этого плана, уверяя, что моцион на свежем воздухе будет только отдыхом для него после изнурительного труда, связанного с ужасной должностью скрипача. Пройдя Аппенцелль, мы втроем пустились дальше, намереваясь совершить довольно тяжелый перевал через высокий Сэнтис. Первый раз в жизни случилось мне идти летом по далеко раскинувшемуся снежному полю. На дикой вершине в хижине пастуха-проводника устроили мы привал и, подкрепившись крайне скудной едой, решили сделать остававшиеся нам несколько сот шагов по скалистому, крутому склону у самой вершины горы. Здесь Карл внезапно отказался следовать за нами. Чтобы заставить его стряхнуть с себя малодушие, я послал назад проводника, который чуть ли не насильно довел его до нас. Взбираясь вверх по отвесному каменному склону, я скоро заметил, что напрасно принуждал Карла участвовать в этом опасном восхождении на гору. Очевидно, головокружение совершенно лишало его сознания. Взгляд его был неподвижно устремлен в пространство: казалось, он ничего не видел. Нам пришлось окружить его и поддерживать при помощи наших палок. Каждую минуту можно было опасаться, что он упадет и скатится вниз. Когда мы добрались до вершины, он упал наземь, окончательно потеряв сознание, и я понял, какую ужасную ответственность взял на себя: ведь нам предстояло еще более рискованное путешествие назад. В ужасе забыл я о собственной опасности. В воображении я уже видел моего молодого друга, лежащего в пропасти с размозженной головой. Наконец мы благополучно спустились к хижине.
Так как мы с Улигом остались при своем решении совершить небезопасный, по мнению проводника, спуск с обрывистой, противоположной стороны горы, то под впечатлением только что испытанного неописуемого страха я стал убеждать молодого Риттера остаться на время в хижине, пока мы не пришлем ему нашего проводника. А потом он мог бы вместе с ним пуститься в совершенно безопасный обратный путь по той стороне, которой мы пришли. Мы расстались, так как он должен был вернуться в Сен-Галлен. Спустившись в красивую Тоггенбурскую долину, мы на другой день повернули к Рапперсвилю и к Цюрихскому озеру. Лишь по истечении нескольких дней могли мы успокоиться насчет Карла. Он благополучно прибыл в Цюрих, где и оставался с нами некоторое время. Затем он уехал, быть может, для того чтобы не поддаться соблазну новой прогулки в горы, которую мы опять затевали. Потом я узнал, что он надолго поселился в Штутгарте. По-видимому, ему там хорошо жилось в обществе одного молодого актера, с которым он быстро подружился.
264
Я со своей стороны наслаждался теми сердечными отношениями, которые установились у меня с кротким и в то же время мужественным, чрезвычайно даровитым молодым дрезденским камер-музыкантом. Своей белокурой кудрявой головой и красивыми голубыми глазами он производил необыкновенное впечатление на мою жену. В доме нашем как будто поселился ангел. Мне его наружность и его судьба казались вдвойне интересными и трогательными, так как его поразительное сходство с находившимся тогда еще в живых моим старым покровителем, королем Фридрихом Августом Саксонским, по-видимому, подтверждало дошедшие до меня слухи, что Улиг его незаконный сын. Мне было интересно получить от него сведения о Дрездене, о театре, о тамошних музыкальных делах. Мои оперы, бывшие до тех пор славой этого театра, окончательно сошли с репертуара. Улиг дал мне недурной образчик отзывов обо мне моих бывших товарищей. Когда «Искусство и революция» и «Произведение искусства будущего» вышли в свет и подверглись критике, один из моих коллег сказал: «Ну, ему придется еще порядком подождать, пока он снова допишется до капельмейстерства». Для характеристики музыкальных успехов он рассказал мне интересный факт: оказывается, Райсигер, дирижировавший [Седьмой] А-dur’ной симфонией, которой недавно дирижировал и я, нашел следующий выход из затруднительного положения. Как известно, Бетховен мощное заключительное развитие последней части ведет все время forte[178]178
Музыкальный термин, означающий «громко» (итал.).
[Закрыть], доходя до sempre piu forte[179]179
Постоянно громко (итал.).
[Закрыть]. Райсигеру, дирижировавшему этой симфонией до меня, заблагорассудилось вести ее piano[180]180
Тихо (итал.).
[Закрыть] и только к концу crescendo[181]181
Постепенно усиливая звук (итал.).
[Закрыть]. Я, конечно, немедленно изменил его указания и рекомендовал оркестру все время играть как можно сильнее. Теперь, когда дирижированье симфонией снова попало в руки моего предшественника, ему показалось неудобным восстановить это несчастное piano. Но нужно было спасти свой скомпрометированный авторитет, и вместо forte он велел играть mezzo forte[182]182
Не очень громко; средняя громкость (итал.).
[Закрыть].
Сильно опечалило меня известие о полном пренебрежении, в каком находились мои злосчастные оперы, издание которых было в руках придворного музыкального поставщика Мезера. Последний корчил из себя жертвенного агнца, попавшего впросак. Он жаловался, что вынужден расходовать деньги без малейшей прибыли. Тем не менее он тщательно оберегал от посторонних взоров свои счетные книги, утверждая, что спасает этим мою собственность, на которую иначе немедленно был бы наложен арест, как и на все мое остальное имущество. Более отрадны были сведения о «Лоэнгрине»: мой друг [Улиг] закончил клавираусцуг и уже занят был корректурой его.
265
Вскоре Улиг глубоко заинтересовал меня сообщением о новом методе лечения водой, которым сам он страстно увлекался. Он дал мне книгу о водолечении некоего Рауссе [Rauße], доставившую мне своеобразное удовольствие радикализмом своих идей, имевших в себе что-то фейербаховское. Смелое отрицание медицинской науки со всеми ее шарлатанскими снадобьями, восхваление простейшего и естественного лечебного средства – правильного применения укрепляющей и освежающей воды, скоро приобрели во мне страстного приверженца. Книга утверждала, что лекарство может иметь влияние на организм лишь постольку, поскольку оно является ядом и, следовательно, не ассимилируется им. Указывались случаи, когда люди, организм которых был отравлен постоянным употреблением лекарств, вылечивались знаменитым Присницем[183]183
Присниц Винценц Франц (Prießnitz; 1799–1851), немецкий целитель-натуропат, адепт водолечения. Не получил никакого систематического образования. Считал, что кожные заболевания могут быть излечены с помощью чистой родниковой воды. В своей практике достигал неплохих результатов, так как холодная вода действительно замедляет размножение бактерий, а также вызывает локальную гиперемию, которые способствуют заживлению. В качестве теста для определения, подходит ли пациенту водолечение, рассматривал такую реакцию кожных покровов на холодную воду, как покраснение. Те пациенты, у кого кожа не краснела после погружения, считались невосприимчивы к методу Присница, в основе которого лежала стимуляция естественного исцеления организма через очищение с помощью ванн и обливаний с различной регулируемой температурой воды. Затем Присниц разработал метод т. н. воздушных ванн; предпочитал ходить босиком, носить крестьянские одежды и питаться обильно, но просто. Методы Присница подверглись резкой критике со стороны официальной медицины; он был обвинен в шарлатанстве, за что в 1829 г. ему пришлось отвечать в суде. Тем не менее в 1831 г. он получил лицензию на открытие санатория холодного водолечения (Kaltwasser-Heilanstalt). В 1847 г. продиктовал своей дочери Хедвиг книгу Vinzenz Prießnitz'sche Familien Wasserbuch, которая так и не была опубликована.
[Закрыть]. Он окончательно удалял содержавшийся в их организме яд, выгоняя его через поры наружу. Мне тотчас же пришли на память серные ванны, которые я против воли принимал прошлой весной. Этому лечению я приписывал, вероятно не без основания, мою непрекращающуюся сильную раздражительность. Теперь я только о том и думал, как бы освободить свой организм от последнего из принятых мною ядовитых веществ и от всех введенных в него раньше, надеясь при помощи лечения исключительно водой преобразовать себя в абсолютно здорового первобытного человека. Я с жаром отдался этой новой идее. Сам Улиг уверял, что, строго придерживаясь метода водолечения, он надеется вполне укрепить свое здоровье. И вера моя в этот метод возрастала с каждым днем.
В конце июня мы решили побродить по средней части Швейцарии. От Бруннена на Фирвальдштетском озере мы пошли через Бекенрид в Энгельберг и перевалили там через дикий Суренен-Эк[184]184
Surenen-Eck (правильнее Surenenpass), высокий горный перевал (2291 м) в Центральной Швейцарии в кантоне Обвальден и в кантоне Ури.
[Закрыть], причем нам приходилось передвигаться с трудом, скользя по снегу. При переходе через одну горную речку Улиг нечаянно упал в воду. Я боялся, как бы он не поплатился простудой. Но он уверил меня, что это была только холодная ванна, одна из тех, которые рекомендуются при водолечении. Необходимость высушить платье и белье нимало его не смутила: он преспокойно развесил их на солнце, а сам, раздетый, стал совершать весьма полезную, по его словам, прогулку на свежем воздухе. Тем временем мы беседовали с ним о важной проблеме построения тем у Бетховена. Чтобы хоть на мгновенье смутить его, я в шутку заявил, что вижу приближающегося к нам советника Каруса[185]185
Карус Густав Альберт (Carus; 1817–1891), немецкий врач, доктор медицины. Был королевским придворным советником и личным врачом принца Георга, герцога Саксонского (1832–1904), будущего короля Саксонии (с 1902 г.). Изучал медицину в Лейпцигском университете; имел практику в Дрездене. Зимой 1853–1854 гг. совершил вместе с принцем Георгом путешествие в Сицилию и Неаполь, которое было описано им в дневнике, впоследствии опубликованном.
[Закрыть] с компанией из Дрездена. Так, в самом веселом настроении, достигли мы долины Ройсс [Reuß-Thal] близ Аттингхаузена [Attinghausen] и до вечера успели еще прийти в Амштег [Amsteg], откуда на другое утро, несмотря на сильное утомление, отправились в Мадеранскую долину [Maderaner-Thal]. Потом мы добрались до Хюфи-глетчера [Hüfi – Gletscher], откуда могли окинуть взором все окрестные горы вплоть до Тёди [Tödy]. Возвратившись в тот же день в Амштег, мы почувствовали себя совсем обессиленными. Мне удалось отговорить моего друга от его намерения на следующий день совершить прогулку в ущелье Клаузен в долине Шэхен [Schächen-Thal], и мы спокойно отправились домой через Флюелен [Flüelen].
Молодой спутник мой, всегда спокойный и в высшей степени сдержанный, казалось, нисколько не был утомлен путешествием. В начале августа он решил вернуться в Дрезден, где рассчитывал получить от дирекции приглашение дирижировать в антрактах оркестром драматического театра. Дело это он намеревался организовать со свойственным ему художественно-артистическим вкусом и избавиться, таким образом, от утомительной и развращающей службы оперного скрипача. Однако когда я провожал его к дилижансу, меня охватила страшная тоска. По-видимому, у него тоже внезапно сжалось сердце, когда мы посмотрели друг другу в глаза в последний раз.
Мы вели с ним оживленную переписку. Так как его письма были мне всегда приятны и интересны и долгое время являлись почти единственной связью между мной и внешним миром, то я постоянно просил его писать мне как можно больше. Письма тогда еще оплачивались дорого, и наши объемистые послания были чувствительны для нашего кармана. Улигу пришла гениальная мысль воспользоваться для корреспонденции почтой, перевозившей посылки. Но так как с ней можно было отправлять только посылки значительные по весу, то Улиг своеобразно утилизировал имевшийся у него старый заслуженный экземпляр немецкого перевода «Фигаро» Бомарше. Он должен был служить балластом для наших писем и путешествовал с ними взад и вперед. Всякий раз, когда наши послания вырастали до необходимого размера, мы оповещали друг друга, что «Фигаро снова принесет сегодня вести».
Улигу очень понравилось «Обращение к моим друзьям» [Eine Mitteilung an meine Freunde], которое я написал сейчас же после нашей разлуки в виде предисловия к изданию моих трех оперных текстов «Летучий Голландец», «Тангейзер» и «Лоэнгрин». Гертель, взявшийся напечатать эту книгу за гонорар в размере 10 луидоров, неожиданно восстал против некоторых мест предисловия, которые оскорбляли его правоверный образ мыслей и уважение к государству. Я готов уже был передать книгу другому издателю. Но вскоре мы с Гертелем помирились, так как я согласился сделать некоторые незначительные изменения. Улиг много смеялся, когда я сообщил ему этот забавный эпизод.
266
Этим обширным предисловием, занявшим у меня весь август, должны были, как я надеялся, раз навсегда закончиться мои выступления на литературном поприще. Но когда я стал серьезно подумывать об обещанном для Веймара «Юном Зигфриде», меня сразу охватили тягостные сомнения, перешедшие в настоящее отвращение к этой работе. Я не мог отдать себе отчета в причинах своего душевного состояния и склонен был объяснить его исключительно болезнью. Вот почему я решил в один прекрасный день приступить к практическому осуществлению некогда с энтузиазмом воспринятой идеи водолечения и стал наводить справки о ближайших гидропатических заведениях. Была середина сентября, когда я заявил своей жене, что сегодня же отправляюсь в Альбисбрунн [Albisbrunn], находящийся в трех часах езды, где намерен пробыть до тех пор, пока не почувствую себя совершенно здоровым. Минну это сообщение чрезвычайно испугало. Она готова была усмотреть в этом новый с моей стороны предлог бежать из дому. Чтобы рассеять опасения жены, я попросил ее как можно уютнее обставить к моему возвращению нашу новую, очень маленькую, но хорошо расположенную квартиру. Последняя была нами снята в нижнем этаже так называемых «Передних домов Эшера» [Vorderen Escherhäusern] на Цельтвеге, после того как мы решили оставить прежнее помещение, неудобное для зимнего жилья, и переехать обратно в город. Нужно прибавить, что мой проект смутил не одну только жену: мысль о водолечении в такое позднее время года вызвала большое недоумение у всех окружающих вообще.
Тем не менее вскоре мне удалось найти товарища по несчастью в лице очень близкого когда-то к Шрёдер-Девриент Германа Мюллера, славного малого и общительного собеседника. В нем я обрел то, чего не мог найти в Гервеге. Мюллер служил раньше лейтенантом в саксонской гвардии, но затем вынужден был подать в отставку и, не имея никаких шансов устроиться в Германии, уехал в Швейцарию, чтобы там, на свободе и досуге, обдумать план своей будущей жизни и занятий. Не будучи, собственно говоря, политическим эмигрантом, он все же в качестве опального патриота пользовался в Цюрихе известным уважением. Во время моего пребывания в Дрездене Мюллер поддерживал со мной оживленные отношения, а затем, очутившись в Швейцарии, стал часто бывать у нас в доме, пользуясь особенным расположением со стороны моей жены, как друг всей нашей семьи. Я без особого труда убедил его последовать за мной через несколько дней в Альбисбрунн, чтобы там основательно полечиться от донимавшей его болезни.
Решив непременно добиться положительных результатов от пребывания в Альбисбрунне, я постарался как можно уютнее устроиться в своей лечебнице, находившейся в заведовании некоего доктора Бруннера [Brunner]. Бруннер, или «водяной еврей», как его прозвала Минна, успевшая во время своих посещений искренне его возненавидеть, придерживался весьма шаблонных и поверхностных методов лечения. Рано утром, часов в 5, производились обертывания, имевшие целью вызвать испарину. Несколько часов спустя меня сажали в прохладную ванну. Под конец температура была доведена до четырех градусов тепла, после чего для согревания полагалась быстрая прогулка на свежем осеннем воздухе. В лечебнице соблюдалась «водяная диета», причем вино, кофе и чай были абсолютно запрещены. За столом приходилось сидеть в ужасном обществе неизлечимо больных субъектов, а по вечерам, чтобы как-нибудь убить томительные часы, оставалось лишь спасаться игрой в вист. Эта обстановка, которая ухудшалась полным устранением всякого умственного труда, постепенно увеличила напряжение и чрезмерное раздражение нервов. Вот какова была жизнь, которую я выдержал в течение девяти недель и которую я готов был продолжать до тех пор, пока не добьюсь ожидаемого радикального излечения. Кроме того, находя теперь вино чрезвычайно вредным, я хотел ослабить действие зульцеровских попоек: я надеялся, что вызываемая обертываниями испарина сможет выделить из моего организма оставшиеся там неудобоваримые вещества. Фантазия моя в это время работала главным образом над одним вопросом: как должна быть устроена квартира, чтобы я мог свободно и охотно отдаваться художественному творчеству. Дело в том, что жизнь в убогих комнатах швейцарских пансионов с их твердой деревянной мебелью и общим мещанским убранством вызывала во мне по контрасту тоску по исключительно комфортабельной, уютной обстановке, тоску, которая отныне приобрела у меня характер настоящей страсти, с годами только все более и более усиливавшейся.
267
В это время обозначилась возможность улучшения в ближайшем будущем моего материального благосостояния. На свое горе, Карл Риттер написал мне из Штутгарта о предпринятой им на собственный страх попытке водолечения, состоявшей в том, что он не прибегал к ваннам, а лишь принимал внутрь как можно больше воды. Но мне теперь стало известно, что чрезмерное употребление воды само по себе, без остального лечения, может оказаться весьма гибельным, и потому я потребовал от Карла, чтобы он подчинился правильному медицинскому режиму и немедленно приехал ко мне в Альбисбрунн, не малодушничая при мысли о неудобствах. Карл тотчас же послушался меня и, к моему радостному изумлению, прикатил через несколько дней в Альбисбрунн. К гидропатии он относился с прежним энтузиазмом, но в своем практическом применении она ему очень быстро опротивела. Карл резко восставал против холодного молока, находя его неудобоваримым и утверждая, что с естественной точки зрения всякое молоко, подобно материнскому, следует пить непременно теплым. Обертывания и холодные ванны он находил чересчур возбуждающими. Вообще он решил создать себе – за спиной доктора – более приятный режим. В ближайшей деревне Карл нашел довольно скверную кондитерскую, в которой и начал покупать разные не допускавшиеся в лечебнице сладости. Если его случайно заставали за этим занятием, он искренне злился. Скоро он стал себя чувствовать очень стесненным, но из самолюбия не хотел положить конец тягостному для него положению. Здесь, в Альбисбрунне, до Карла дошла вдруг весть о смерти его богатого дяди, который отказал по крупной сумме каждому члену семьи Риттер. Извещая меня и сына об улучшении своих денежных дел, мать Карла прибавляла в письме, что со своей стороны она в состоянии регулярно высылать мне то пособие, которое мне ранее было обещано семьями Лоссо и Риттер. Таким образом я мог располагать, пока захочу, годовой рентой в 800 талеров.
Этот поворот судьбы внушил мне бодрость, радостное чувство. В душе моей созрело решение заняться обработкой первоначального проекта «Нибелунгов», совершенно не считаясь с вопросом, сумеют ли наши театры справиться с некоторыми отдельными частями моего произведения. Но прежде чем приступить к работе, мне необходимо было освободиться от обязательств перед дирекцией веймарского театра, от которой я уже получил в счет гонорара 200 талеров. Карл ликовал, что мог немедленно вручить мне эту сумму для расплаты с Веймаром. Отсылая деньги, я сердечно благодарил дирекцию за доброе ко мне отношение. Кроме того, я написал еще отдельно Листу, подробно изложив ему свой замысел и те внутренние побуждения, которыми я руководствовался. Лист ответил мне выражением живейшей радости по поводу того, что мое теперешнее положение позволяет мне взяться за такую грандиозную работу, и находил, что сообщенный ему план хотя бы уже по своей необычайности вполне меня достоин. Теперь я действительно мог вздохнуть свободно: исчезла наконец мучившая меня мысль, что я обязан тотчас же написать «Юного Зигфрида» и отдать его для немедленной постановки на сцене театра – пусть даже лучшего немецкого театра, но не располагавшего для этого достаточно подготовленными силами. Эта мысль не давала мне раньше покоя, ибо все предприятие с «Юным Зигфридом» казалось мне теперь ложью по отношению к самому себе.
268
Дальнейшее пребывание в водолечебнице становилось все более и более мучительным. Я рвался к работе, но отдаться ей в Альбисбрунне было невозможно, и это обстоятельство приводило меня в сильнейшее нервное возбуждение. Одно лишь упрямство мешало мне сознаться, что лечение не достигло своей цели и, наоборот, оказало на меня резко отрицательное действие: радикальной секретации я так и не дождался, но зато исхудание наступило ужасающее. Я решил, что можно ограничиться этим результатом; и в конце ноября покинул Альбисбрунн. Через несколько дней моему примеру последовал Мюллер, а Карл, желая довести дело до конца, хотел пожить здесь до тех пор, пока лечение не окажет на него такого же прекрасного действия, какое, по моим уверениям, я испытал на себе. В Цюрихе меня обрадовала обстановка нашей новой, правда очень тесной, городской квартиры: большой, широкий диван, кое-где ковры на полу и несколько других вещей, придававших комнатам уютный вид. Свой простой рабочий стол мягкого дерева я покрыл зеленым сукном, а на окнах развесил гардины из легкого шелка, что очень понравилось не только мне самому, но и всем окружающим. Этот стол, за которым я с тех пор постоянно работал, впоследствии перекочевал со мной в Париж, а оттуда перешел к старшей дочери Листа, Бландине Оливье[186]186
Оливье (Ollivier) Бландина Рашель, урожденная Лист (1835–1862), старшая дочь Листа и графини Мари д'Агу. 22 октября 1857 г. вышла замуж за Эмиля Оливье (см. ниже), французского адвоката и политического деятеля, министра юстиции при Наполеоне III. 3 июля 1862 г. у них родился сын Даниэль Эмиль; 11 сентября Бландина скоропостижно умерла, что стало страшным ударом для Листа.
Слухи о якобы имевшей место любовной связи между Вагнером и Бландиной Оливье являются абсолютно необоснованными.
[Закрыть], которая перевезла его в имение своего мужа Сан-Тропе, где, как я слышал, он продолжает находиться по сей день.
Я рад был видеть у себя цюрихских друзей, которым теперь, на новой квартире, гораздо удобнее было посещать меня. Долгое время, однако, я сильно изводил их своей страстной пропагандой «водяной диеты» и нападками на вино и другие возбуждающие напитки. Я создал себе из этого новую религию. Правда, Зульцер и Гервег, гордившийся своими сведениями по химии и физиологии, часто ставили меня в тупик указаниями на несостоятельность учения Раусса о ядовитых свойствах вина, но тогда я переходил на морально-эстетическую почву и доказывал, что опьянение вином представляет скверный и варварский суррогат того экстатического настроения, которое может быть достигнуто лишь при помощи любви. Я подчеркивал, что в вине, даже при отсутствии излишеств, мы ищем именно опьянения или, иными словами, экстатического подъема духовных сил. Но – продолжал я свою аргументацию – подобный подъем в его истинно облагораживающей форме способен испытать лишь тот, чьи душевные силы возбуждены настроением любви. Такая постановка вопроса приводила меня к критике современных сексуальных отношений между людьми, причем поводом для этой критики послужили мои наблюдения над разобщенностью между мужчинами и женщинами, которая с особой, грубой резкостью наблюдалась в Швейцарии. В ответ на это Зульцер заявил, что он ничего не имеет против опьянения женщинами, но «где их взять, если не прибегать к воровству?». Гервег, наоборот, готов был во многом согласиться с моими парадоксами, но считал нужным отметить, что ко всему этому вино не имеет никакого отношения и само по себе является укрепляющим питательным средством, которое, как это доказывает Анакреон, отлично уживается с любовными экстазами.
Вскоре, однако, мои исключительные и упрямые экстравагантности начали внушать друзьям серьезные опасения: присмотревшись ко мне, они все больше убеждались в моем болезненном состоянии. И действительно, я был поразительно бледен, сильно исхудал, невероятно мало спал и обнаруживал во всем крайнюю возбужденность. Вскоре я и совсем лишился сна, но тем не менее уверял, что никогда еще не чувствовал себя так бодро и хорошо, как именно теперь. Несмотря на зимнюю стужу, я продолжал рано утром принимать холодные ванны и затем, чтобы согреться, отправлялся на прогулку, доставлявшую мучения моей жене, которая должна была с фонарем в руках освещать мне путь.
269
Находясь в таком состоянии, я получил однажды печатный экземпляр «Оперы и драмы». Книга вызвала во мне какую-то почти болезненную радость, и я проглотил ее единым духом. Мое повышенное настроение было в значительной мере обусловлено сознанием, что я окончательно разделался с мучительной для меня карьерой капельмейстера и оперного композитора. Теперь даже Минна вынуждена была стать на мою точку зрения. Отныне никто не мог требовать от меня того, что еще два года назад делало меня совершенно несчастным. Гарантированная мне семьей Риттеров поддержка, которая должна была обеспечить мое существование и дать мне возможность вполне располагать собой именно для свободного творчества, еще более усиливала во мне презрение ко всему, что мыслимо было достигнуть при настоящем положении вещей. Для меня было ясно, что работы, с планом которых я теперь носился, исключают всякую возможность войти в соприкосновение с современным художественно-артистическим миром. Но вместе с тем я отнюдь не думал, что мои писания не могут иметь практического значения. Я был убежден, что как в сфере искусства, так и во всей нашей социальной жизни вообще наступит скоро переворот огромной важности, который неминуемо создаст новые условия существования, вызовет новые потребности. Для удовлетворения этих потребностей мои работы, задуманные с таким безоглядным размахом, должны были, как я полагал, доставить надлежащий материал, и в самом скором времени установится новое отношение искусства к задачам общественной жизни.
Эти смелые ожидания, о которых я не мог, конечно, подробно распространяться перед своими друзьями, возникли у меня под влиянием анализа тогдашних европейских событий. Общая неудача, постигшая предыдущие политические движения, нисколько не сбила меня с толку. Наоборот, их бессилие объясняется только тем, что их идейная сущность не была понята с полной ясностью, не была выражена в определенном слове. Эту сущность я усматривал в социальном движении, которое, несмотря на политический разгром, нисколько не утратило своей энергии, а напротив, становилось все интенсивнее. Так, по крайней мере, я оценивал факты, которые наблюдал во время своего последнего пребывания в Париже. Мне пришлось присутствовать там на собрании избирателей так называемой социал-демократической партии, которое произвело на меня сильное впечатление. Собрание происходило в большом, временно приспособленном для этой цели «Зале Братства» [Salle de la Fraternité], в предместье Сен-Дени, и присутствовало на нем до шести тысяч человек. Полное достоинства поведение публики, далекой от всяких внешних резкостей и выкриков, вызвало у меня очень лестное представление об этой новой партии: в ней чувствовалась сила, сосредоточенная и уверенная в себе. Речи главных ораторов, принадлежавших к крайнему левому крылу тогдашнего Национального собрания, поразили меня своим необычайным подъемом и сквозившей в каждом слове твердой убежденностью. К этой действительно крайней партии стали понемногу примыкать все, кого господствующая реакция толкала в сторону оппозиции. Элементы, которые прежде считались только либеральными, начали открыто высказываться за программу, выставленную социал-демократами. На основании этих фактов можно было думать, что новая партия получит, по крайней мере в Париже, сильный перевес на общих выборах и сыграет решающую роль при избрании нового президента республики. Как известно, мои предположения совпадали с надеждами всей Франции, и, таким образом, 1852 год должен был принести с собой коренной переворот. Так смотрела на дело и реакционная партия, испытывавшая величайший страх перед грядущими событиями. А бессмысленная жестокость, с какой в других европейских государствах подавлялся малейший общественный порыв, в свою очередь заставляла предполагать, что создавшееся положение не может рассчитывать на особую долговечность.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































