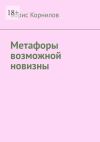Текст книги "Шок новизны"

Автор книги: Роберт Хьюз
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В каком-то смысле «Большое стекло» – это картина ада, причем конкретного модернистского ада одиночества и повторения того же самого. Но можно увидеть в нем и декларацию свободы – если вспомнить, насколько жестко табуирована была тема мастурбации в годы молодости Дюшана. При всех своих недостатках онанизм – это вид секса, не подконтрольный ни государству, ни родителям, освобождающий человека от необходимости быть благодарным кому-либо за доставленное удовольствие. Это был символ восстания против семьи и ее власти. Стерильность и бесплатность сделали онанизм символом авангарда, который все больше тяготел к нарциссизму. «Фригидные люди действительно добиваются успеха», – говорил Энди Уорхол, этот Дали 70-х. То же и с фригидным искусством. «Большое стекло» – это свободная машина или, по крайней мере, машина непослушная, но это также и печальная машина, свидетельство безразличия, а Дюшан знал толк в таком состоянии ума. Его собственное, тонко сбалансированное безразличие стало водоразделом между машинным веком и нашим. «Большому стеклу» было очень далеко до оптимистической веры в то, что искусство способно выразить жизнь во всем ее многообразии, а эту веру накануне Первой мировой войны разделяли многие великие – хоть и менее искушенные, чем Дюшан, – художники. Вот как Гертруда Стайн вспоминает свой первый полет на самолете:
Когда я посмотрела на землю, я увидела линии, которые писали кубисты, когда ни один художник еще не летал на самолете. Я увидела на земле перепутанные линии Пикассо, то сходящиеся, то расходящиеся, то развивающиеся, то уничтожающие себя, я видела простые решения Брака, да, я увидела и еще раз поняла, что творец наш современник, он понимает, когда современники еще не поняли, но он современник, и так как XX век – это век, который видит землю, какой ее еще никто не видел, то, значит, у земли появилось великолепие, которого у нее никогда не было, и раз все уничтожает себя в XX веке и ничто не выживает, значит у XX века есть свое собственное великолепие.
Совсем скоро великолепие новой эпохи будет казаться менее очевидным. После 1914 года машины выступили против своих изобретателей и их детей. Кончились сорок лет мира в Европе, и самая страшная в истории война уничтожила веру в добрую технику, в доброжелательную машину. Мифу о Будущем был нанесен тяжкий удар, а европейское искусство ударилось в иронию, отвращение и протест.
Глава II. Лики власти
Если ехать по шоссе из Арраса в Бапом, холм Варленкур будет слева. Это всего лишь поросший кустами бугорок в долине Соммы. Тут нет указателей, хотя военное кладбище войск Антанты всего в полумиле отсюда. На вершине – давно рассохшийся деревянный крест, поставленный немцами. Все вокруг засеяно свеклой, ровные борозды рыхлой глины смешаны с прахом целых армий. В течение двух лет – с осени 1916 года и до Компьенского перемирия – этот холм был символом одержимости. Сначала его занимали немецкие пулеметчики, потом он перешел к британским и австрийским войскам, затем его отбили немцы, потом опять союзники – за эти два года он много раз переходил из рук в руки. Здесь погибли тысячи людей, каждый участок этой земли на полметра вглубь взлетал в воздух от разрыва снарядов вперемешку с человеческими останками. На Варленкуре и вообще на Сомме наши отцы и деды вкусили первые ужасы XX века. Здесь упования на блага современного мира, оптимизм от появления первых машин нового века были уничтожены совсем другими машинами. В долине Соммы был уничтожен и язык: он больше не мог оставаться носителем прежних смыслов. Первая мировая война изменила жизнь слов и образов в искусстве – радикально и навсегда. Она ввергла нашу культуру в эпоху производства смерти в промышленных масштабах. Поначалу это было неописуемо.
Когда в 1914 году началась Первая мировая война, ни один человек в Европе не знал, что значит механизированная позиционная война. Некоторые профессиональные солдаты – французы, англичане, немцы – имели опыт сражений в колониальных войнах в Африке и Азии, но представить тотальную войну – ни качественно, ни количественно – не могли даже генералы. Филип Ларкин находит правильное слово – «невинность», описывая только что собранные армии в стихотворении «MCMXIV»:
Неровные длинные очереди
Стоят терпеливо, как на матч
На арене «Овал» или «Вилла Парк»,
Шляпы на затылках, солнце
На архаичных усатых лицах,
Улыбающихся, будто это
Праздничные гулянья в августе…
Никогда такой невинности
Не было ни до ни после,
Она разменяла себя на прошлое
Без единого слова – мужчины
Уходят из аккуратных садов,
Тысячи браков длятся чуть дольше,
Никогда больше этой невинности.
Их вожди говорили о войне напыщенной риторикой рыцарских времен. Любые слова, которые описывали реалии современной войны, были по определению неуместными. Вместо этого сотни тысяч людей встретили смерть, повторяя имперские клише: «честь», «жертва», «страна». Официальный язык по обе стороны фронта при помощи непрекращающейся пропаганды (по сегодняшним меркам наивной – ведь мы живем в век рекламы, но в 1914–1918 годах она была чрезвычайно эффективна) создавал образ Великой войны то как Армагеддона, последней битвы Добра со Злом, после которой установится вечное царство справедливости, «войны против войны», то как нечто среднее между средневековым рыцарским турниром и партией в крикет. В Англии у пропаганды было много голосов – от Руперта Брука до сэра Генри Ньюболта, чье стихотворение Vitaï Lampada («Факел жизни») школьники учили и через тридцать пять лет после окончания войны:
Пески окрасились в алый цвет
От крови распавшегося каре.
Заклинило «Гатлинг», полковника нет,
И слепнет полк в дыму и жаре.
Далек наш дом, только смерть близка,
Но есть слово «честь», и голос юнца,
Как в школе, летит над рядами полка:
«Играть, играть, играть до конца!»[24]24
Перевод с английского И. Егорова.
[Закрыть]
Схватить меч и окрыленным помчаться спасать цивилизацию – это одно. Сидеть месяцами в переполненных крысами окопах с другими новобранцами, сходя с ума от бомбардировок, изредка постреливая из винтовки «Ли-Энфилд» или «Маузер» в далекие серые предметы, снующие за мешками с песком через изрытое взрывами и покрытое трупами поле, – это совсем другое. У солдат не было способа сказать правду о войне, кроме как втайне сочинять стихи. Как писал Хемингуэй, эта война была «самой колоссальной, убийственной, плохо управляемой организованной бойней, какая только случалась на земле. Писатели, говорившие иначе, врали. Все они либо писали пропаганду, либо молчали, либо воевали». То же самое относится к художникам, которые на фронте имели возможность работать лишь в качестве художников официальных. Рядовые солдаты не могли ходить с мольбертом под мышкой. Неожиданно стерильное изображение Первой мировой войны у Пола Нэша, Уиндема Льюиса и Кристофера Невинсона отчасти объясняется тем, что военные чиновники запрещали изображать трупы. «Я больше не художник, – жаловался Нэш. – Я вестник, приносящий слово от тех, кто на фронте, тем, кто хочет, чтобы война длилась вечно. Ничтожным и невнятным будет мое послание, но все равно в нем будет горькая правда, и пусть она выжжет их паршивые души». Такие чувства разделяли художники по обе стороны фронта – и «официальные», и те, кто сидел в окопах, как, например, сражавшиеся во Фландрии Отто Дикс с Максом Бекманом или Ласло Мохоли-Надь.
Какой была бы история искусства XX века, не будь Первой мировой войны? Сказать невозможно. Эта война опустошила целое поколение. Мне все еще страшно ходить по военным кладбищам в долине Соммы между крестами с табличками inconnu – «неизвестный солдат» – или стоять под огромными арками памятного монумента на вершине холма Тьепваль, с выбитыми на нем именами тысяч и тысяч англичан, чьи тела так и не нашли в этой глине. Мы знаем имена нескольких погибших художников: Умберто Боччони, Франца Марка, Августа Макке, скульптора Анри Годье-Бжеска, архитектора Антонио Сант’Элиа, поэтов Гийома Аполлинера, Уилфреда Оуэна, Айзека Розенберга. Но на каждое известное имя приходятся десятки, а то и сотни людей, которые не успели прославиться. Если вы спросите, где английский Пикассо или французский Эзра Паунд, то ответ на это может быть только один: остался в окопах.
Однако можно проследить, что́ война сделала с культурой. Реальность войны оказалось невозможно описать тем, кто в ней не участвовал, тем домашним патриотам, которых английский писатель и поэт, участник Первой мировой войны Зигфрид Сассун так мечтал расстрелять из танка: «Чтоб не шутили в мюзик-холлах / О горах трупов под Бапомом». Опыт воевавшей молодежи разительно отличался от опыта гражданских старших. Война положила начало одному из самых ожесточенных конфликтов отцов и детей; его влияние на современную культуру продолжалось вплоть до 60-х, особенно в Германии. К похожим последствиям в США привела война во Вьетнаме. Преступления старших казались молодежи безграничными – ведь те не только развязали войну, но и проиграли ее, – но при этом единственной институцией, оставшейся в послевоенной Германии нетронутой, была ее военная машина.
Те, кто побывал в окопах сражений при Вердене и на Сомме, знали, что их обманули. Генералы – и головотяпы вроде Хейга, и воротилы вроде Жоффра – врали о том, что такое эта война и как долго она продлится. Политики врали о ее причинах, а услужливая и готовая на самоцензуру пресса позаботилась о том, чтобы на страницах французских, немецких или британских газет не было никаких ужасных реалий, ни одной фотографии трупа. Никогда еще пропасть между официальным языком и чувственно воспринимаемой действительностью не была так широка.
Когда война наконец закончилась, обеим сторонам был нужен миф о жертвах – пусть сколь угодно раздутый, – чтобы все произошедшее не казалось тем, чем оно было, – бессмысленным убийством миллионов людей. Если цвет юношества сгинул во Фландрии, следовательно, выжившие к нему не относились: мертвые восторжествовали над травмированными живыми. Поскольку уничтожено, по сути, было целое поколение, еще больше увеличилась дистанция между молодыми и старыми, между официальным и неофициальным. Не случайно некоторые художники горячо возненавидели любые авторитеты и традиции. Но главный результат войны – желание начать с чистого листа. Верден символизировал патриотическую, националистическую, законопослушную культуру отцов – поэтому сыновья ударились в пацифизм и интернационализм. Кто-то, как мы увидим в следующей главе, решил буквально построить утопии разума и социальной справедливости, причем именно построить (а не всего лишь выразить) через архитектуру и искусство. Менее амбициозные просто мечтали выбраться из всего этого безумия, а так как далекая Америка была недостижима, тихой гаванью стал Цюрих. Этот город манил всех мастей беглых интеллектуалов, писателей и художников из Северной Европы. Некоторые из них причислены к самым значимым фигурам XX века – как, например, Ленин или Джойс (который написал бо́льшую часть «Улисса» как раз на берегу Цюрихского озера), – но немало здесь было и героев второго плана. Покинутую родину им заменило местное кафе «Одеон».
Сегодня сама идея встреч в «интеллектуальном кафе» несет отпечаток некой несерьезности и старомодного снобизма. Но в те времена места вроде «Одеона» были средой, где так же, как в литературных журналах, бурлила реальная интеллектуальная жизнь. Для людей, вытесненных из социальной пирамиды по собственной воле или помимо нее, кафе одновременно служило кабинетом и оперой: здесь назначали встречи, работали, спорили и красовались. Это было место для избранных, для специалистов в своем деле, которые здесь могли встретить себе подобных, а без этого немыслима жизнь большого города, а значит, модернизм в целом, который в своей самоиронии и глубоком понимании цивилизации был воплощением урбанистической чувственности. Интеллектуальные кафе в Цюрихе, Берлине, Барселоне, Вене, Милане и Париже стали новым домом для изгнанников и полиглотов вроде испанца Пикассо или ирландца Беккета – для тех, кому по большому счету и обязан своим возникновением модернизм. Кафе стали театром новой жизни, в их стенах интеллектуалы, писатели и художники ощутили себя самостоятельным классом, министрами перемен. Когда позже Сталин – который так любил все упрощать и вообще являл собой все то, что не принадлежало миру изгнанников и споров о культуре, – объявил войну космополитам, он имел в виду именно публику таких кафе.
Среди иностранцев, нашедших приют в «Одеоне», были немецкий писатель Хуго Балль и его подруга Эмми Хеннингс – пацифистка и радикальная журналистка. Поскольку Хеннингс зарабатывала на жизнь, выступая в кабаре, а Балль играл на пианино, они вполне резонно решили открыть собственное крохотное кабаре, «центр художественных развлечений, – как писал Балль, – где каждый день выступали бы приглашенные музыканты и поэты». Собранных денег оказалось достаточно, чтобы снять помещение в переулке Шпигельгассе (где в это же время жил Ленин), и в феврале 1916 года «Кабаре Вольтер» распахнуло свои двери для немногочисленной молодой и шумной публики. Среди первых его посетителей оказались два румына – художник Марсель Янко и двадцатилетний поэт Сами Розеншток, писавший под благозвучным псевдонимом Тристан Тцара, а также немецкий писатель Рихард Хюльзенбек и художник из Эльзаса Ханс Арп. Все вместе они образовали художественно-литературную группку «Дада».
Точно не известно и теперь уже, видимо, останется тайной навсегда, кто именно придумал такое на редкость емкое название. Ханс Рихтер, тоже участник цюрихской группы, отмечал, что оно «имело родственное отношение к жизнерадостной форме славянского подтверждения: „да-да“, сказанного самой жизни»[25]25
Цит. по: Рихтер Х. Дада / Пер. с нем. Т. Набатниковой. М.: Гилея, 2014. С. 44.
[Закрыть]. Важно подчеркнуть, что дадаизм не являлся художественным стилем, как, например, кубизм, и не обладал воинственной социально-политической программой, в отличие от футуризма. Его суть – в совершенно эклектичной свободе эксперимента; высшей формой человеческой деятельности он считал игру, а главным инструментом – случайность. «Мы обратились к искусству, потому что не могли смотреть на бойню мировой войны, – писал Арп, самый одаренный из цюрихских дадаистов. – Мы искали элементарное искусство, которое, как нам казалось, спасет мир от яростного безумия тех лет… мы стремились к анонимному коллективному искусству». Как и многие художники того времени, дадаисты еще не утратили веры в способность искусства спасти человечество от политических ужасов и главный миф авангарда – будто изменив структуру языка, искусство способно изменить структуру опыта, а значит, и социальные условия. Более того, еще пятнадцать лет этот миф будет неизменным источником оптимизма, пока новая политическая реальность не похоронит его окончательно.
Одним из главных условий «элементарного» искусства, которое искали Арп и другие завсегдатаи «Кабаре Вольтер», была спонтанность, которая, как писал Балль, позволит «казнить рисованную мораль». Как обрести спонтанность? Например, обращаясь к другим культурам. Дадаисты имели лишь самое приблизительное знание о джазе, однако «играли на сцене сногсшибательную музыку негров (всегда с большим барабаном, бум-бум, бум-бум)». Надо думать, происходившее мало напоминало изысканное веселье новоорлеанских мелодий и имело больше сходства с дикарским праздником с барабанами и черепами, каким его мог вообразить себе цивилизованный белый человек. В том же духе условного «негрокубизма» для театральных представлений в кафе Марсель Янко соорудил из раскрашенного гуашью картона аляповатые яркие маски. Для дадаистов двумя главными источниками спонтанности были детство и случай. Выпиленные лобзиком деревянные рельефы Арпа 1916–1920 годов напоминают игрушки – они просты и бесхитростны; в отличие от неопределенных жестких форм кубистов, он предлагал искусство мягких объектов, листьев, облаков, плоти, сведенных к контуру и раскрашенных яркими эмалевыми красками. Они и в самом деле были куда непосредственнее многих игрушек, ведь в 1916-м даже обычные детские кубики, из которых так хорошо компоновать прямолинейные объемы, уже попали в ручонки будущих идеологов постбаухауса. Арп также занимался тем, что рвал бумагу на клочки (их контуры «рисуют сами себя» без всякого вмешательства сознания – просто самим фактом отрывания) и бросал их на листы, чтобы приклеить там, где они упали, – получавшийся в результате коллаж весь был создан по законам случайности. Подобным образом творил и Тристан Тцара: в случайном порядке он вытягивал из мешка слова, менял местами предложения.

Ханс Арп. Птицы в аквариуме. Ок. 1920. Крашеное дерево. 25,1×20,3×11,4 см. Музей современного искусства (MoMA), Нью-Йорк
Значительное влияние на цюрихский дадаизм оказали футуристы. Маринеттиевская концепция управляемой истерии и рассчитанного преувеличения послужили риторической основой для большинства последующих авангардистских «конфронтаций». Как отмечал Балль, дадаизм стремился к «синтезу романтических, дендистских и демонических теорий XIX века», и провокационный дендизм Маринетти стал – в частности, для Тцары – образцом стиля. Однако цюрихские дадаисты не поклонялись машинам и совсем уж не разделяли Маринеттиево жужжание во славу войны. Балль писал:
Не люблю черепов на гусарских киверах
И мортир с именами женскими,
И, когда наконец наступили дни славы, я
Ненавязчиво в путь свой отправился.
Маринетти хотел разрушить культуру во имя будущего, Балль – во имя прошлого: «Мы должны сжечь все библиотеки; пусть выживет только то, что люди помнят наизусть. Вот когда начнется великолепная эпоха легенд». Отвращение Маринетти к истории с радостью подхватил фашизм, дадаистский принцип «знать ничего не знаю» пышным цветом расцвел в «контркультуре» 60-х… В своем стремлении к венчающему историю свободному, не ангажированному и не служащему никаким социальным интересам искусству (на фоне пророчеств о скором приходе «Dada-mensch»[26]26
Дада-человек (нем.).
[Закрыть], беспечного мессии) цюрихские дадаисты взяли у Маринетти столько же, сколько сам Маринетти взял у Ницше. Маринетти видел в Заратустре машину, дадаисты – ребенка. Все-таки машины надругались над Европой, усеяв ее миллионами трупов от западной границы до восточной, и культурное младенчество – единственный способ начать все сначала. «Каждое слово, звучащее в наших стихах или песнях, – объявлял Балль, – дает понять по меньшей мере одно: этот позорный век не смог добиться нашего уважения».
Однако, за исключением Арпа, который использовал все эти мелкие брожения в Цюрихе для привлечения внимания к собственным работам, оставаясь при этом трезвым, лирическим и «конструктивным» художником, – никакого выраженного дадаистского искусства еще не существовало. Импровизации, симультанные стихи и псевдоритуалы, происходившие на сцене «Кабаре Вольтер», представляли собой вольные адаптации футуризма, развитие «Театра Варьете» Маринетти, замешанном на интересе к архаическим ритуалам, – не случайно Балль одевался в картонные одежды кубистского епископа и распевал псевдосакральную тарабарщину. Лирическая и воинственная сторона дадаизма проступит только в 20-х. Его сценой станет послевоенная Германия.
Великий лирик дадаизма Курт Швиттерс (1887–1948) жил в Ганновере и создавал объекты из того, что находил на улице. Пролить свет на деятельность этого святого подвижника утилизации отходов может пассаж из письма Винсента Ван Гога, которое он отправил из Гааги за пять лет до рождения Швиттерса:
Сегодня я побывал в месте, куда дворники свозят мусор. Господи, как там красиво!
Завтра они принесут пару интересных вещей из этой горы мусора, в том числе сломанные фонари, чтобы я на них полюбовался или даже написал… Идеальный сюжет для сказки Андерсена – куча из мусорных баков, корзин, горшков, мисок, металлических кувшинов, проводов, фонарей, труб и сетей, которые выкидывают люди. Я уверен, что сегодня она мне приснится, и зимой я буду много работать с этим материалом… Я бы с удовольствием отвез тебя туда и еще в несколько мест, которые на самом деле рай для художника, несмотря на всю свою неприглядность.
Есть некая поэтическая логика в том, что художника des misérables, отверженных, угнетаемых голландских бедняков и крестьян, настолько тронул вид неодушевленных предметов – тоже, по сути, отверженных обществом; никто до Ван Гога не чувствовал этот антропоморфизм с такой остротой.
Швиттерс пошел еще дальше. Он не просто рисовал мусор, он создавал из него произведения искусства, вещь в себе – обшарпанную, облупленную, испачканную, ржавую, гнутую, порванную, скомканную и тем не менее способную с помощью художника воссоздать себя в бесконечном числе комбинаций. Позаимствовав натиск образов из манифеста футуристического театра Маринетти, Швиттерс в 1920 году мечтал о масштабной постановке случайных событий, порожденных визуальной энергетикой коллажа:
Пусть развеваются вуали, ниспадают складки, пусть набухает вата и фонтанирует вода… Возьмем колеса и оси, соберем их так, чтобы они запели (мощные постройки водных гигантов). Оси танцуют, колеса крутятся, шары вращаются. Зубцы превращаются в зубы, найдем зевающую швейную машину. Разгибаясь и сгибаясь, швейная машина обезглавливает себя, ноги вверх. Возьмем сверло зубного врача, мясорубку, путеочиститель паровоза, возьмем автобусы и прогулочные автомобили, велосипеды, тандемы с шинами – и деформируем их. Возьмем фонари – и деформируем как можно жестче. Столкнем паровозы друг с другом… Взорвем паровые котлы, чтобы железная дорога утонула в тумане. Возьмем юбки и тому подобную одежду, обувь и парики, а еще коньки и бросим их туда, где им место и где они всегда вовремя. По мне, возьмем ловушки, пистолеты, адские машины, воронки – разумеется, все это художественно деформированное. Используйте активно внутренние трубки.
Это была большая опера – практически механический Вагнер, – но Швиттерс так и не смог ее реализовать. Его композиции были относительно скромных размеров, они состояли из «палитры объектов» (говоря словами Роберта Раушенберга), тщательно собранных на городских свалках. Композиционная система Швиттерса имела кубистско-конструктивистскую структуру; несмотря на контраст материалов, их грани, толщина, поверхность и цвет тщательно подогнаны, а буквенные фрагменты служат той же цели, что у Брака и Пикассо, – внести элементы различимой реальности в гущу потока. Швиттерс называл свои картины «мерц» – это фрагмент текста печатной рекламы Kommerz– und Privatbank, использованной в одном из его коллажей. Общей их темой был город как среда сгущенного и обостренного опыта. Сколько людей, столько историй – следов частных путешествий, новостей, встреч, обладаний, отказов; город обновляет свою ткань взаимодействий в каждый момент дня и ночи, как змея, сбрасывающая кожу, – и узоры покинутого покрова превращаются в «обычный» мусор.
Шедевр Швиттерса – так называемый Merzbau («Мерцбау») – был разрушен во время бомбардировки Ганновера в 1943 году. В 1923-м он принялся за эту священную конструкцию, которая постепенно заняла два этажа его дома и даже забралась на чердак. Полное название работы – Kathedrale des erotischen Elends («Храм эротического страдания»). Это название, любопытным образом перекликающееся с содержанием «Большого стекла» Дюшана (Швиттерс мог слышать об этом произведении, но никогда его не видел), на первый взгляд плохо согласуется с тем, что мы видим на сохранившихся фотографиях – обширную кубистскую структуру, достаточно простую в художественном отношении. Вообще говоря, это крайне джойсовский объект – своеобразный наутилус, в наружных камерах которого спрессованы воспоминания, подлинный город в городе, похожий на него, как ярмарки походят на средневековые изображения ада. Некоторые закутки в «Храме» посвящены друзьям Швиттерса: Мондриану, Арпу, Рихтеру; некоторые – «классическим» произведениям прошлого: «Пещера Нибелунгов», «Грот Гёте». Была там и «Пещера недооцененных героев», и даже промышленная «зона» – Рурская область. А еще в «Храме» был «Грот любви», «Пещера убийц», «Берлога насильников» и «Каверна почитания героев». Это вымышленное пространство разрасталось, поглощая Lebensraum[27]27
Жизненное пространство (нем.).
[Закрыть] Швиттерса, – как выразился Брайан О’Догерти, «чем больше личностных черт автора обретают форму в его раковине/пещере/комнате, тем у́же она становится. В результате он порхает в сжимающемся пространстве, как деталь подвижного коллажа». Можно было бы добавить: и таким образом выполняет пророчество Швиттерса, в котором теперь можно увидеть предпосылку боди-арта: в алеф-подобной вселенной «Мерц» «использовать можно даже людей… Люди даже могут участвовать активно, даже в своих повседневных позах».

Курт Швиттерс. Мерц 410: Что-то в этом роде. 1922. Коллаж. Художественный музей Ганновера. Коллекция Шпренгеля

Марсель Дюшан. L.H.O.O.Q. 1919. Карандаш по репродукции «Моны Лизы». 19,7×12,4 см. Частная коллекция
Такое пожирание повседневного миром искусства – наряду с высокопарными антикультурными тирадами Тцары со товарищи – убедили многих (вплоть до сего дня), что дадаизм – это восстание искусства против самого себя, а значит, он внутренне противоречив. Может ли какая-нибудь картина отменить живопись? Может ли какая-нибудь скульптура аннулировать искусство ваяния? Не может, но в 1918 году многим хотелось кинуть камень в мещанский культ искусства. В наше время этому культу служат публичные выставки драгоценных шедевров из корпоративных коллекций, и опыт восприятия искусства заменяется возбуждением от созерцания немыслимых капиталов. Шестьдесят лет назад искусство существовало в статусе некой псевдорелигии: культ великого мертвого художника, посмертно назначенного божественным творцом. Самой известной сатирой на это поклонение легендарным героям стала «L.H.O.O.Q» Марселя Дюшана, «Мона Лиза» с пририсованными усами, – жест, который и десятилетия спустя кажется проявлением самого разнузданного неуважения к культуре. Этот характерный для Дюшана каламбур работает сразу на нескольких уровнях. Непристойное название «L.H.O.O.Q.» – если прочесть это сочетание букв по-французски, получится elle a chaud au cul («у нее горячая задница») – сочетается с рисунком в духе мальчишеской шалости; на другом уровне произведение тревожит грубым диссонансом недвусмысленно мужских признаков, приданных самому известному и фетишизированному женскому портрету всех времен, – в этом явно слышится намек на гомосексуальность Леонардо (в те времена – запретная тема) и на интерес самого Дюшана к смешиванию сексуальных ролей.
Дюшан предпринимал и другие попытки демистифицировать искусство. Наиболее известными стали его реди-мейды, то есть обычные вещи – лопата, велосипедное колесо, сушилка для бутылок, – которые он выставлял как собственные произведения, в результате чего объекты, не представляющие эстетического интереса, благодаря контексту должны были восприниматься наравне с привычным искусством. Самой агрессивной работой в этом жанре был «Фонтан» (1917) – фаянсовый писсуар с подписью Дюшана. Эти объекты во всеуслышание заявляли, что мир уже и так полон «интересных» вещей и у художника нет нужды создавать новые. Вместо этого он может выбрать из существующих, и сам иронический акт выбора эквивалентен творчеству – выбор разума, а не руки.
Берлинским дадаистам, заявившим о себе в 1918 году, в последние месяцы Первой мировой войны, такие семантические игры, вероятно, показались бы чересчур утонченными, чтобы быть интересными. (Увлечение немецкими дадаистами последующих поколений американских и европейских художников, которые силились постичь смысл искусства, при этом крайне слабо понимая, что оно способно выразить, – другой вопрос.) В Берлине дадаизм стал насквозь политизированным течением; присущий ему изначально мистический анархизм остался в Цюрихе. Он не был уже альтернативой конфликтам. В послевоенном Берлине идти в ногу со временем значило активно выступать на политической сцене – на фоне тотального дефицита и всех остальных принесенных войной бед правые и левые отчаянно боролись за власть. Проиграв войну, Германия получила вовсе не мир, а катастрофический Версальский договор. В ноябре 1918 года, через год после большевистской революции в России, в Германии вспыхнуло социалистическое восстание. Рабочие и коммунисты, на долю которых выпали основные тяготы войны, хотели упразднить прусскую военную машину и слой общества, интересам которого она служила. Однако у них ничего не получилось. В ответ на повсеместные забастовки было введено военное положение, коммунистические лидеры Карл Либкнехт и Роза Люксембург были убиты. В эти неспокойные месяцы, когда Германия, казалось, вот-вот последует по пути России, художник, бросающий клочки бумаги на лист в соответствии с законами случайности – пока его соотечественники штурмуют Рейхстаг, – явно не поспевал за галопом своего времени. Политический накал всегда выжигает частное пространство, делает его зависимым от публичного, и веймарская Германия не была исключением. В атмосфере тех дней невозможно было представить радикальное искусство, которое не содержало бы конкретного политического высказывания. Молодой художник-идеалист был практически обречен примкнуть к левым – если конечно, его звали не Адольф Гитлер, который в те дни мерз на своем чердаке с коробкой акварельных красок.

Франц Марк. Судьба животных. 1913. Холст, масло. 195×266 см. Художественный музей Базеля
В немецком искусстве к тому моменту уже сформировалось представительное и мощное антивоенное движение. Оно было связано с экспрессионистами (см. главу VI), которые к 1914 году стали достаточно авторитетной культурной силой, чтобы вызывать презрение более молодых художников. В 1913 году Франц Марк, который вскоре погибнет под Верденом, пишет апокалиптическую картину уничтожения безвинных существ «Судьба животных». На ней трагедия материи – не только животных, но и растений и земли, расколотой и изломанной безжалостными вспышками. И теперь картина воспринимается пророчеством, немецким эквивалентом вопроса, которым задавался в окопах Первой мировой английский поэт Уилфред Оуэн: «Где звон по павшим, словно скот на бойне?»[28]28
Первая строка стихотворения «Отпевание обреченной юности» в переводе М. Зенкевича.
[Закрыть] Экспрессионизм считал «я» единственной заданной точкой в центре рассыпающегося враждебного мира, поэтому он легко адаптировался к необходимости выразить мучительный страх перед лицом войны. Когда Эрнст Людвиг Кирхнер изображал себя новобранцем с ампутированной рукой – той самой рукой, которой он работал, – он представал в образе искалеченного святого мученика, жертвы символической кастрации. На самом деле он не был ранен.