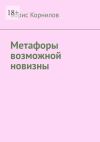Текст книги "Шок новизны"

Автор книги: Роберт Хьюз
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
С другой стороны, что осталось от искусства протеста? Не много. Удивительно плодовитый мексиканский художник Диего Ривера (1886–1957), расписавший километры стен производственными и революционными сюжетами, был, пожалуй, единственным крупным модернистом за пределами Германии и России, целиком посвятившим себя социально значимому искусству, однако у него не было столь же выдающихся последователей. Размах его искусства, до сих пор составляющего предмет национальной гордости Мексики, связан с конкретными историческими обстоятельствами: как и в России, народные массы там отличались низким уровнем грамотности и технической оснащенности и за моральными наставлениями привыкли обращаться к христианскому искусству. Помимо этого, за последние пятьдесят лет лишь одно политическое и гуманистическое произведение искусства обрело заслуженную славу – это «Герника» Пикассо. Эта работа стоит в одном ряду с такими картинами битв и страданий, как «Битва при Сан-Романо» Уччелло, сцены противостояний у Тинторетто и Рубенса, «Третье мая 1808 года в Мадриде» Гойи и «Резня на Хиосе» Делакруа. «Герника» посвящена эпизоду Гражданской войны в Испании – бомбардировке баскского городка немецкими самолетами по просьбе генерала армии националистов Эмилио Молы. Республиканская армия Испании признала автономию басков, и Герника стала столицей независимой республики. Ее мощнейшую бомбардировку лондонская «Таймс», а за ней и вся мировая пресса сделали символом варварства фашистов. Таким образом, слава картины Пикассо отчасти связана с тем, что посвящена известной катастрофе; подобным образом за восемьдесят лет до этого стихотворение Теннисона «Атака легкой бригады» также превратилось в памятник событию.
«Герника» – мощнейшее выступление против насилия в современном искусстве, однако она вдохновлена не только войной: отдельные мотивы – плачущая женщина, лошадь, бык – регулярно появлялись в более ранних работах Пикассо. Здесь они стали проводниками чрезвычайно сильных переживаний; как отмечает Джон Бёрджер, Пикассо мог увидеть больше страдания в голове лошади, чем Рубенс в целой сцене распятия. Заостренные языки, устремленные к небу глаза, исступленно вывернутые пальцы рук и ног, судорожно изогнутые шеи – все это было бы невыносимо, если бы напряжение в картине не складывалось в единый, пусть и ломаный ритм. Изображение напоминает саркофаги римских военачальников – несмотря на трещины и сколы, они все равно остаются для нас вестниками из Древнего мира – мира идеальных тел и мускульной силы, высеченного на каменной панели. «Герника» была пропагандистской картиной, наличие конкретного политического тезиса было не обязательным. Все уже сделали газеты, и Пикассо прекрасно знал, где найти подходящий контекст, – им стал испанский павильон на Парижской всемирной выставке 1937 года, где картина была представлена практически как официальное высказывание республиканского правительства Испании. Если рассматривать работу вне ее социального контекста, при условии, что это возможно и желательно (с точки зрения Пикассо – нежелательно, но отдельные формалисты с этим до сих пор не согласны), то она предстанет общим размышлением о страдании при помощи не столько исторических, сколько архаичных символов: окровавленная раненая лошадь (Испанская республика), бык (Франко), нависающий над кричащей от ужаса женщиной, различные атрибуты домодернистских образов: сломанный меч, выживший цветок и белый голубь. Кроме кубистического стиля, единственные специфически модернистские элементы «Герники» – это электрический свет в форме глаза Митры и будто бы газетные строки на теле лошади, как в коллажах Пикассо, созданных двадцатью пятью годами ранее. В остальном героическая абстракция и монументализированная боль ничем не выдает своей принадлежности к эпохе фотографии и самолетов «Хайнкель 51». Однако «Герника» принадлежит своему времени, и Пикассо нашел весьма эффективный способ показать это: используя только черный, белый и серый цвета, несмотря на огромный размер, он сделал ее похожей на зернистую газетную фотографию.
«Герника» стала последней великой исторической картиной, а также последней значительной модернистской картиной на политическую тему, которая пыталась изменить отношение людей к власти. После 1937 года появилось несколько произведений искусства с политическими коннотациями – это некоторые работы Йозефа Бойса или «Элегии об Испанской республике, номер 34» Роберта Мазервелла. Однако сама идея, что художник создает с помощью картины или скульптуры общественно значимые образы и таким образом меняет политический дискурс, ушла – и, видимо, ушла навсегда – вместе с рожденным в XIX веке идеалом художника как общественной фигуры. Политическую речь у искусства перехватили средства массовой информации. Когда Пикассо создавал «Гернику», регулярное телевещание в Англии существовало всего год, а во Франции телевизор был лишь у немногих специалистов по электронике. Во всем Нью-Йорке телевизоров насчитывалось тысяч пятнадцать. Телевидение было еще слишком сырым, слишком новым, чтобы вызывать доверие. День, когда большинство жителей капиталистического мира будут формировать свои политические взгляды на основании того, что им покажут по телевизору, наступит лишь поколение спустя. К концу Второй мировой войны роль «военного художника» практически свела на нет военная фотография. Чему вы больше поверите: рисунку истощенного тела в канаве, в духе плохого немецкого экспрессионизма, или неопровержимым фотографиям из Берген-Бельзена, Майданека и Освенцима? Оглядываясь назад, понимаешь, что художники веймарской Германии и ленинской России жили во времена неразвитых средств массовой информации, и поэтому они еще могли искренне и без ложной скромности верить в то, что искусство может нравственно влиять на мир. Сегодня от этой идеи отказались, но так и должно быть в обществе эпохи массмедиа, в котором основная социальная роль искусства – быть инвестицией, или, попросту говоря, новым золотом. У нас есть политическое искусство, но нет действенного политического искусства. Художник должен быть известным, чтобы его услышали, однако чем он известнее, тем «ценнее», то есть ipso facto безобиднее, его работы. И для политиков сегодня искусство не более чем музыка в супермаркете – приглушенный фон для власти. Если бы Третий рейх простоял до наших дней, молодежь из Внутренней партии[35]35
Имеются в виду реалии романа Дж. Оруэлла «1984».
[Закрыть] не интересовалась бы старомодными работами Альберта Шпеера или Арно Брекера, гитлеровского скульптора-монументалиста, а выстраивалась бы в очередь к Энди Уорхолу за портретом, сделанным трафаретной печатью. Трудно называть хоть одно произведение искусства, про которое кто-то мог бы сказать: «Оно спасло жизнь одного еврея, вьетнамца, камбоджийца». Возможно, существуют такие книги – но не картины и не скульптуры. В отличие от нас, художники 20-х годов верили, что такое произведение искусства возможно. Может быть, все дело в их наивности. Но даже если так, нам ее очень недостает.
Глава III. Пейзаж удовольствия
Одна из задач искусства – примирять нас с миром, причем не через протест, иронию или политические метафоры, а с помощью экстатического созерцания удовольствия на лоне природы. Художники регулярно показывают нам вселенную, в которую бы мы без колебаний переселились. Это мир не как он есть, а каким его хотят видеть наши измученные чувства – не враждебный и равнодушный, а полный смысла: земной рай, врата в который не открываются одним лишь фактом нашего рождения.
XIX век не изобрел искусства наслаждения, но существенно его разнообразил. Прав был Талейран, наполеоновский министр иностранных дел, когда говорил: кто не жил до Французской революции, не знал сладости жизни. Для богатых это было именно так: принцип удовольствия в искусстве XVIII века принадлежал только одному классу – аристократии. Центральным образом просвещенного удовольствия в живописи была пастораль: группа людей развлекается на открытом воздухе, на зеленых лужайках приятного пейзажа, у фонтана, под арками из деревьев, обнаженные или нарядно одетые. Культура рисуется перед своей противоположностью – Природой. Эти идеализированные пикники впервые появились в венецианской живописи XVI века у Джорджоне и Тициана. Они стали свидетельством того, что лесные страхи средневекового мира наконец отброшены; Природа теперь доброжелательна, к ней можно приближаться – по крайней мере, символически – без содрогания. Именно в пасторали древние образы рая как закрытого сада, со стенами и беседками, – защищенного от демонических сил неприрученной природы – объединяются с вторичными образами Природы как собственности, принадлежащей тем, для кого она становится фоном. «Сельский концерт» Джорджоне – одна из первых картин в истории искусства, где люди просто наслаждаются собой, там нет действия, есть только состояние. В XVII веке мы находим этот идеал удовольствия у Рубенса, а в XVIII веке у Антуана Ватто он превращается в féte champêtre[36]36
Праздник на лоне природы (фр.).
[Закрыть], самый яркий пример которого – «Паломничество на остров Цитеру». Стоянка на острове Венеры закончена, гости возвращаются на корабль, то есть к реальной жизни; пушистые деревья, тускнеющее небо, каждая складка и оборка на шелковых одеждах в наступающих сумерках превращаются в последние воспоминания об удовольствиях, немного печальных оттого, что они вот-вот закончатся. Но если Ватто с его неповторимым чувством хрупкости и мимолетности был Моцартом этого жанра, то множество художников помельче сделали его стандартом придворного декора, и хотя к 70-м годам XVIII века fête champêtre стал тривиальностью, его вполне можно было сочетать с другими жанрами. Томас Гейнсборо объединил его с парадным портретом: «Мистер и миссис Эндрюс» (ок. 1750) – это богатые супруги, которые созерцают Природу, вполне уместившуюся в их владениях. Фигуры на фоне пейзажа, их одежда и владения – все эти объекты представляют класс, собственностью которого является эта живопись. Это всегда было нормой в искусстве, однако через несколько десятилетий после Французской революции в Европе появился новый правящий класс – буржуазия. Его представители захотят, чтобы художники документировали их существование и изображали их развлечения: не пикантные позы маркизы де Помпадур на качелях, а свою жизнь и жизнь своих детей.
К победившему среднему классу принадлежали не только консервативные, но и вполне передовые художники конца XIX века: Эдуард Мане, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Клод Моне. Первая выставка импрессионистов прошла в 1874 году, и в течение последующих ста лет это направление оставалось одним из самых популярных в искусстве, хотя поначалу критики говорили, что от такого ужаса у беременных случаются выкидыши. Тяга к импрессионистской живописи сильна и по сей день, хотя импрессионизм изображает мир утраченный, досовременный, мало похожий на нынешнюю культуру.
У обеих тенденций есть общая причина. Около 1870 года область живописуемого удовольствия резко расширилась. Импрессионисты увидели удовольствие в вещах, которые могли себе позволить совсем не богатые люди, они брали эти образы из собственной жизни. Ренуар и Моне, Сислей и Кайботт, Дега и Писсарро были не похожи друг на друга как художники и по-разному воспринимали мир не только технически, но и нравственно: ренуаровские розовощекие jeunes filles en fleur[37]37
Юные девушки с цветами (фр.).
[Закрыть], например, имеют мало общего с женщинами у балетного станка или гладильного стола, которых с холодным вниманием писал Дега. Однако в широком смысле все эти художники одинаково чувствовали, что изображения жизни в городе и деревне, в кафе и лесу, в салонах и спальнях, на бульварах, пляжах и берегах Сены могут стать образами рая, цветущим миром, излучающим только покой. На этот мир можно смотреть с иронией, но никогда – с отчаянием.
Однако к середине 80-х годов XIX века импрессионистская любовь к спонтанности стала вызывать недоверие со стороны более молодых художников. Импрессионистский взгляд был, по сути, реализмом: он изображал конкретную вещь в конкретный момент времени, свет и цвет, которые по определению связаны с предметом; идеальный импрессионистический пейзаж должен быть написан в то самое мгновение, когда его увидел художник, – если бы это было возможным. В импрессионизме не было никакой системы, кроме остроты взгляда художника и чувственности его кисти, торопливо создающей узор на холсте. Именно бессистемность и сделала импрессионизм таким популярным, более того, никто не боялся почувствовать себя униженным и оскорбленным при виде такой живописи. «Il n’est qu’un oeil, mais, mon Dieu, quell oeil!» («Он всего лишь глаз, но боже мой – какой глаз!») – говорил Сезанн о Моне. Подобной оценки придерживались и художники моложе Сезанна, которые считали, что импрессионизм – это победа зрения над разумом. Они же хотели придать своим произведениям неизменность и достоинство классического или восточного искусства: хаос видимого должен быть упорядочен, структурирован, систематизирован. Величайшим выразителем этой идеи стал Жорж Сёра (1859–1891).
Сёра был гением. На момент смерти ему не исполнилось и тридцати двух лет. Не многие художники так рано находят свой стиль. При этом Сёра создал один из самых ясных классических стилей за последние пятьсот лет. Его основу составляла точка. Единица импрессионизма – мазок: широкий или тонкий, энергичный или мягкий, фактурный или прозрачный, всегда непредсказуемой формы, привязанный к рисунку в своем направлении и нерегулярно положенный, чтобы соответствовать видимому. Сёра стремился найти нечто более стабильное. Он был дитя позитивизма и научного оптимизма конца XIX века. Благодаря периодической таблице человек, казалось, узнал все составные части реальности, кирпичики материи. Можно ли разложить зрение на мельчайшие составляющие и построить объективную грамматику зрения? Сёра считал, что можно, и его теория основывалась на научных исследованиях цвета и визуального восприятия. Особенно сильно на него повлияла работа Эжена Шеврёля «О законе одновременного контраста цветов» (1839). Там утверждалось, что чистые цвета смешиваются при восприятии. Вокруг каждого цветового пятна есть как бы гало из дополнительного цвета: оранжевый, например, окаймлен синим, красный – зеленым, пурпурный – желтым. «Интерференция» этих ореолов приводит к тому, что каждый цвет влияет на соседний. Таким образом, восприятие цвета – это результат взаимодействия, сетки связанных событий, а не последовательного считывания оттенков глазом. Сёра решил продемонстрировать это наблюдение, уменьшив цветовые пятна до размера точки, отсюда название стиля – пуантилизм. Множество расположенных рядом друг с другом точек, подобно коралловому рифу, соединяются в нечто плотное и имеющее форму. На каждом квадратном сантиметре достаточно точек, чтобы отражать изменения цветов или оттенков, хотя, разумеется, такая статичная манера больше подходила для сюжетов спокойных, иератических, наполненных солнцем, а не для волнующих и драматичных.

Жорж Сёра. Канал в Гравлине. 1890. Холст, масло. 73,3×92,7 см. Музей искусств Индианаполиса. Дар миссис Феслер
Лучше всего пуантилизм подходил для пейзажей. Сёра часто ездил в северные французские порты на Ла-Манше. Его картины пустых променадов, плоских морских горизонтов и штиля в солнечный день показывают поразительную мощь визуального анализа. Сюжет «Канала в Гравлине» кажется беззатейным, однако посмотрите, насколько гармонична эта работа. А ведь малейший ошибочный оттенок прорвал бы эту тугую зернистую мембрану из точек. Если бы связь между используемой Сёра системой и описываемыми ею крупными формами ослабла хоть на мгновение, вся картина буквально бы рассыпалась. Вместо этого мы видим идеальную разреженность, в которой дымка и специфический свет Ла-Манша скрупулезно переводятся в форму (то есть передаются не только цветом). Отсутствие событийного сюжета в этой работе – мы видим лишь острые мачты, маяк, швартовую тумбу и изгиб пристани – предлагает взгляду задуматься о свете как о главном предмете анализа. Трудно представить другую картину, столь тонко подающую себя как пейзаж мысли.

Жорж Сёра. Воскресный день на острове Гранд-Жатт. 1884–1886. Холст, масло. 207×308 см. Институт искусств, Чикаго. Коллекция Хелен Берч Бартлетт
Сёра изображал ту же натуру, что и импрессионисты, но его задачи были иные. Чтобы в этом ни у кого не было сомнений, он за шесть лет до «Канала в Гравлине» начал работу над своим шедевром – картиной «Воскресный день на острове Гранд-Жатт». Ее традиционные истоки очевидны. Это fête champêtre, Аркадия с отдыхающими людьми. Однако художественная Аркадия – лишь образ, а Гранд-Жатт – реальный зеленый островок посреди Сены, где парижане часто устраивали пикники, удили рыбу, гуляли с детьми. Идеальная натура для импрессиониста. Но Сёра пошел противоположным путем. Его картина – прежде всего заявление: это не схваченное мгновенье, работа заняла не один день. «Гранд-Жатт» – огромное полотно: два на три метра, то есть размером с исторические картины Давида, Гро, Делакруа и гораздо крупнее произведений импрессионистов. Эта картина изображает средний класс с той же церемонностью, какой прежде удостаивались лишь монархи и боги. Можно понять, почему некоторые критики, увидевшие ее в Салоне независимых в 1886 году, либо упрекали Сёра, что тот прячет реальность за роем цветных блох (точек), либо смеялись над его «ассирийскими» фигурами. Он хотел изобразить процессуальность современной жизни: нечто формальное, строгое, внушительное, наподобие того героического дендизма, который тридцать лет до этого увидел на парижских бульварах и описал Шарль Бодлер. «Я хочу показать современных людей, двигающихся, как фигуры на фризах, – заявлял Сёра, – раскрыть их сущность и поместить их на картины, отличающиеся гармонией цветов, гармонией линий, – чтобы линия и цвет соответствовали друг другу». Отчасти источником вдохновения для этой работы стал французский художник Пюви де Шаванн (1824–1898), чьи фрески до сих пор украшают Пантеон в Париже; это был поэт спокойных, идеализированных аллегорий all’ antica. Для Пюви характерно изображение людей в профиль, в торжественных позах, бледный свет, выстроенная композиция; все это показалось молодым парижским художникам очень современным, и его влияние прослеживается у Ренуара, Гогена, Матисса, Мориса Дени и даже Пикассо «голубого периода» – а также Сёра. В некотором отношении «Гранд-Жатт» восходит к пасторальной картине Пюви, посвященной основанию Марселя. Неудивительно, что друг Сёра, критик Феликс Фенеон, описывал «Гранд-Жатт» следующим образом: «На картине около сорока персонажей иератического рисунка; они повернуты точно в фас или спиной к зрителю, сидят, образуя прямой угол, лежат, вытянувшись по горизонтали, стоят, выпрямившись: как будто у современного Пюви»[38]38
Цит. по: Богемская К. Послесловие // Перрюшо А. Жизнь Сёра. М.: Радуга, 1992.
[Закрыть].

Пьер Пюви де Шаванн. Массилия – греческая колония. 1869. Холст, масло. 427×569 см. Музей изящных искусств, Марсель
Получается, что картина удовольствия «Гранд-Жатт» выполнена в традиции монументальной исторической живописи. Выстраивая это большое, тщательно скомпонованное пространство, Сёра уделил каждой детали столько внимания, сколько мы ожидаем от Рафаэля или Пьеро делла Франческа. Они связаны рифмами и гармониями форм, порой едва заметными. Хвост обезьянки рифмуется с изгибом трости денди. У дамы, удящей рыбу слева на переднем плане, есть крохотный двойник в глубине картины. Позы и жесты, расстояние между людьми на этой абстрактной зеленой лужайке в раю складываются в образ величия, достойный классики: манеры возвышаются до эстетики. Культура и природа играют друг с другом, как на «Сельском концерте» Джорджоне: строгая шляпа молодого денди перекликается с очертаниями виллы на заднем плане, а простоватая кепка его деревенского приятеля похожа на неподрезанную крону дерева. Сёра несколько ироничен по отношению к современникам из среднего класса. Они скользят по траве, как жестяные игрушки на колесах и, кажется, являются предвестниками того серьезного механического абсурда, который через сорок лет возведет в высокое искусство чаплиновскую пантомиму. Ирония – часть модернизма Сёра. Именно из-за отвлеченного характера этой картины, из-то того, что это не окно, а поверхность, хочется подольше на ней задержаться и задуматься. Сёра привлекала зрелищная сила искусства как языка. Сейчас она привлекает многих художников, но до 1880 года этим мало кто занимался. Сёра понял, что в модернистском сознании есть нечто атомизированное, разделенное, аналитическое; его работа во многом предсказала то, как искусство стало все больше и больше замыкаться на себя. Чтобы создать единый смысл в этом состоянии полной замкнутости, необходимо разложить субъект на молекулы и затем собрать их в новый формальный порядок. Реальность становится вечной, если показывать ее как сеть мелких отдельных неподвижностей. Именно об этом в конечном итоге говорит нам «Гранд-Жатт»: бесконечное деление, бесконечные отношения и борьба за то, чтобы сделать их видимыми – пусть даже принеся в жертву «настоящую жизнь».

Клод Моне. Стога. 1891. Холст, масло. 65,8×101 см. Институт искусств, Чикаго
Вскоре к таким же выводам – хотя и другим способом – пришел Клод Моне. Умри он в том же 1891 году, что и Сёра, то остался бы в истории ключевой фигурой импрессионизма, но его значимость как модерниста была бы значительно меньше. Ни один импрессионист не обращался с поверхностью пейзажа более изысканно. Он писал деревья, море и небо так же, как Ренуар – женскую кожу. При этом до своего пятидесятилетия Моне создал не так много работ, которые бы отличались непрерывностью мысли и аналитическим спокойствием в матрице удовольствия, которые свидетельствуют о величии художника. К 1880 году Моне начал сомневаться в импрессионизме как движении, ведь даже второсортный художник мог с легкостью обучиться импрессионистским трюкам. Моне хотел пойти глубже, показать фундаментальные взаимодействия между глазом и разумом.
Преследуя эту цель, в 1888 году он начинает писать серию с одним и тем же мотивом. Возможно, на эту мысль его натолкнули японские гравюры, которые циркулировали среди парижских художников и из которых те черпали множество сюжетов. Вероятно, Моне вдохновили «Сто видов Фудзи» Хокусая. Так или иначе, в 1891 году Моне выставляет свою первую живописную серию – 15 картин стогов сена, настолько бесформенных, насколько это вообще возможно для созданных человеком объектов. В своем выборе натуры Моне в чем-то близок Курбе, написавшему связку хвороста, расположенную так далеко, что, пока он ее писал, не мог разобрать, что это такое. Стога сена – нейтральные приемники света. Однако именно в этом Моне и видел их смысл, потому что он хотел показать пятнадцать вариантов из бесконечного числа световых эффектов одного-единственного мотива в разное время суток и при разной погоде. Каждый стог должен был стать одновременно образцом чего-то обыденного и бесконечного, способного заполнить собой все способности человеческого глаза к наблюдению и различению. «Увидеть мир в песчинке и небо в полевом цветке».
Наделив стога волшебными цветами, как будто это витражи, Моне перешел к готическому собору и написал его так, будто это стог сена. В 1892 году он снял комнату напротив Руанского собора и сделал около двадцати картин с его фасадом в разном свете. Разумеется, в выборе натуры не было ничего религиозного; Моне не был набожным французом. Никогда еще строение, столь именитое в веках, не изображалось так решительно современно, никогда еще к столь известному религиозному объекту не относились так по-светски. До сих пор ощущается нечто тревожное в той легкости, с какой Моне обходится с Руанским собором, – будто это тополь, стог сена, лужайка; тем самым он дает понять, что сознание важнее любой религии. На «Соборах» краска будто бы стекает, как тающее мороженое. Эта плотность рассеивает атмосферу: фасад теперь не купается в воздухе, а покрыт коркой краски. Работая сериями, Моне объявляет, что его предметом является не вид, а акт ви́дения – умственный процесс, разворачивающийся в субъекте, постоянно изменяющийся и не имеющей окончательной формы. Такой анализ невозможно проводить на враждебном или неприятном материале – он бы слишком отвлекал. Мотивом надо обладать. Размышления должны начинаться в радости, а не боли, в центре самого себя, а не на его тревожных границах. «Искусство – это роскошь, – однажды заметил Гюстав Флобер. – Для него нужные чистые и спокойные руки». Одним из символом такого состояния ума у художников стал сад, который Клод Моне устроил рядом с деревней Живерни в восьмидесяти километрах от Парижа. Он жил там с 1883 года до самой смерти в 1926-м и писал картины своих владений.

Клод Моне. Руанский собор. Утренний эффект. 1894. Холст, масло. 106×73 см. Лувр, Париж
Сад Моне развивался в два этапа. Сначала был цветник перед домом. В 1893 году, когда художнику уже было за пятьдесят, он начал работать над второй частью – прудом, воду для которого предполагалось брать из притока Сены Рю. Местные власти чуть было не запретили ему эту затею, опасаясь, что из-за изменения русла Рю оставит без воды фермеров ниже по течению. К счастью для истории искусства, в итоге строительство разрешили. Рю прошла через сад, который постепенно принял окончательную форму – с лилиями, ирисами, плакучими ивами и увитым глициниями Японским мостиком. Этот сад стал натурой для самых главных картин Моне.

Клод Моне. Тополя. 1891. Холст, масло. 81,9×81,6 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Приобретено по завещанию миссис Г. О. Хэвемайер
Макс Эрнст описывал, как он в детстве наблюдал за отцом, рисующим в саду. Однажды у Эрнста-старшего никак не получалось изобразить дерево, и тогда он, к ужасу будущего сюрреалиста, взял топор и срубил его, вычеркнув из жизни и искусства. Моне в своем саду пользовался такой же свободой. Сад стал произведением искусства, породившим множество других произведений; Моне копался в нем вместе с десятком садовников, управляя не только своими картинами, но и тем, что на них изображено. Живерни, как остроумно замечает искусствовед Кирк Варндоу, стал «гаремом природы» для Моне. К 1891 году его живопись уже отошла от многоплановости ранних импрессионистских полотен; серия «Тополя», сделанная в Живерни, сводит пейзаж к трем цветным полосам – небо, берег, отражение в воде, – расчерченным слегка дрожащими вертикалями деревьев. «Водяные лилии» – пример еще большего уплощения. Это долгое наблюдение за утонувшим, отраженным миром, в котором небо видно только в отражении, а весь холст заполняет вода. Эта картина роднит Моне с поэтом-современником Стефаном Малларме: пустота значит не меньше, чем полнота, а отражения столь же важны, как и вещи. Малларме считал поэзию структурой из слов и пустот: «Интеллектуальная конструкция стиха скрывает себя; она присутствует – и действует – в пустоте между строфами и в белизне бумаги: это наполненная смыслом тишина, сочинять которую не менее приятно, чем само стихотворение». И дальше: «Создание отрицательного объекта с помощью намеков и косвенных указаний, которые постоянно исчезают в смежной тишине, – задача, сопоставимая с актом творения». «Отрицательный объект» Малларме, символистское ощущение реальности, скрывающийся за семантической пеленой, проступает и в пруду с лилиями Моне.

Клод Моне. Водяные лилии. После 1916. Холст, масло. 200,7×426,7 см. Национальная галерея, Лондон
Ведь пруд – это искусственное творение, как и сама живопись. Он плоский, как картина. Все, что появляется на его поверхности, – облака, лилии, рябь от ветра, темные пятна отраженной листвы, синяя глубина и молочное мерцание неба – сжимается в неглубокое пространство, в кожу, подобную пространству картины. Ивы касаются его, как кисти. Нет никакого переднего и заднего плана, вместо этого – сеть связей. Моне видел энергию, проявляющуюся в непрерывном поле нюансов; через тридцать лет после его смерти это станет очень важно для абстракционистов. «Лавандовый туман» (1950) Джексона Поллока с его пульсацией красок-нитей, переплетенных по всему холсту (см. с. 330), – это американское продолжение символистской линии, проходящей через сад Моне. Но даже если бы они не отдавались эхом в будущем, отдельные картины из серии «Водяные лилии» все равно остались бы величайшими образами западного искусства. Пруд – это срез бесконечности. Ухватить неопределенное, зафиксировать неустойчивое, дать форму и место видам столь мимолетным и сложным, что им едва ли можно подобрать имя, – таковы были основные амбиции модернизма, и они шли вразрез с той детерминированностью, о которой так самоуверенно талдычили материализм и позитивизм. Третьим художником после Сёра и Моне, ставившим перед собой похожие цели, был Поль Сезанн, работ которого мы уже касались.

Поль Сезанн. Яблоки и апельсины. 1895–1900. Холст, масло. 73×92 см. Национальная галерея «Жё-де-пом», Париж
С 1880 года до своей смерти в 1906 году Сезанн бо́льшую часть времени проводил на юге Франции – в студии, пристроенной к его семейной усадьбе в Лове, что в Экс-ан-Провансе. Небольшое здание, сохранившееся до наших дней – в отличие от вида с террасы на гору Сент-Виктуар, которую теперь заслоняют новостройки, – одна из святынь современного ума, реликварий. Блуждающий здесь дух раздражительного диабетика до сих пор не дает нам покоя – отчасти потому, что он прожил тут четверть века в уединении, ненавидел теоретизирования о своей работе, с неохотой вел переписку, а отчасти потому, что впоследствии живопись часто возводила свою родословную к Сезанну и мы уже сбились со счета тех, кто называл себя его наследниками. В этом смысле сезаннов не меньше, чем последователей Микеланджело. Он был одним из тех редких художников, которые влияют почти на всех. Символисты восхищались декоративностью его работ. Другие считали его поздним импрессионистом; кубисты заостряли внимание на относительности структур в его пейзажах, а еще позже его назвали родоначальником абстрактного искусства. Все это так, но свидетельствует больше о том, как воспринимали Сезанна. А как он сам себя воспринимал? В первой главе я цитировал письмо сыну, где он описывает свой восторг перед бесконечностью и невыразимостью форм и отношений, которые преподносит обычный вид на реку. Дальше он пишет: «Предмет, увиденный с разных ракурсов, превращается в интереснейший мотив – настолько разнообразный, что я, наверное, мог бы писать его месяцами, не сходя с места, а просто слегка отклоняясь вправо или влево». Лишь природа могла освободить художника от тирании истории; Сезанн описывал своего молодого ученика, художника Эмиля Бернара, как «интеллигента, напичканного воспоминаниями о музеях, который недостаточно смотрит на природу – а это великая вещь, освобождающая от любой возможной школы». «Настоящая и великая школа, – пишет он Бернару за два года до своей смерти, – это многообразие картин природы». Сезанн презирал стилизации Гогена, его изогнутые контуры и плоскую декоративность, потому что это было слишком просто, и не хотел, чтобы Бернар следовал этим путем. Однако мало кто из молодых художников мог понять, что внимание Сезанна к мельчайшим деталям натуры не просто еще один живописный стиль, поэтому урок прошел для Бернара даром – впрочем, как и для последующих поколений начинающих художников, подвергающих яблоки огранке. Идеальный пейзаж Аркадии не устраивал Сезанна в качестве натуры, он предпочел писать свою родину – Экс-ан-Прованс. Даже элементы натюрмортов, сохранившиеся в его студии по сей день, оказываются частью пейзажа за окном: гипсовый амур, синяя имбирная ваза, безыскусная прованская керамика, ажурный кухонный столик, ковер с цветочным орнаментом, черепа, луковицы и персики. А если еще выйти на улицу! Ни у одного современного художника, кроме Ван Гога, нет таких сразу узнаваемых пейзажей; только гуляя по Провансу, по редким красным холмам, пахнущим сосновой смолой, и смотря, как серые массивы известняка взмывают к свету неровными рядами, понимаешь смысл картин и начинаешь их чувствовать. Этот пейзаж вошел в кровь Сезанна: светлый, каменистый и архаичный, он узнается так же безошибочно, как вкус маслин или холодной воды. А ведь есть еще гора Сент-Виктуар, которой, благодаря навязчивой точности художника, было суждено стать самой тщательно анализируемой горой в истории искусства. Хорошо видно, как сильно Сезанн ненавидел повторы, и стратегией их преодоления стала работа en série. Он никогда не писал одну и ту же гору два раза. Каждая картина – это новый вопрос в изучении горы и расстояния до нее. Объем складывается из переливов акварели над горизонтом, его неровная полупрозрачная линия отдается эхом в бледно-зеленых и лавандовых фигурах деревьев на переднем плане, создавая бескрайнюю гущу, – это филадельфийская версия «Горы Сент-Виктуар». Здесь все не на месте. Вместо объекта в предполагаемых границах, окруженного импрессионистической прозрачностью, – поле сопротивляющейся формы. Лоскутные пятна серого, голубого, лавандового, образующие небо, выписаны с той же тщательностью, что и плоскости горы. У позднего Сезанна нет пустот, ни один клочок картины не оставлен без краски. Эта диалектика формы и цвета стала предметом его знаменитого замечания: «Писать с натуры означает вовсе не рабски копировать предмет, но воплощать свои ощущения». Выразить чувство значило дать ему синтаксис, и у позднего Сезанна заштрихованные наклонные плоскости становятся все менее иллюзорны, а сила их выразительного языка – все более упорядоченна. Его целью было присутствие, а не иллюзия, и он стремился к ней с неослабевающей серьезностью. Фрукты в поздних натюрмортах Сезанна – например, «Яблоки и апельсины» – настолько утяжелены живописными решениями – а их розовые поверхности нагружены, условно говоря, мыслью, – что они кажутся значительно плотнее, чем реальные фрукты. Как подчеркивает Мейер Шапиро, Сезанна привлекала именно обособленность вещей, их независимое от человека существование: каменная гора, заброшенные карьеры Бибемюс, яблоки, представленные как самостоятельные сущности, а не объекты гастрономического интереса, стрекочущая тишина под сводом сосен. Эти предметы оставались сами собой, им не было никакого дела до противоречий, раздирающих его страстную, но замкнутую натуру.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!