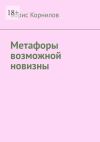Текст книги "Шок новизны"

Автор книги: Роберт Хьюз
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Поль Сезанн. Яблоки, бутылка и спинка стула. 1902–1906. Бумага, акварель, карандаш. 45,8×60,4 см. Галерея Института Курто, Лондон
Поздние акварели Сезанна – самая радостная часть его наследия. В них нет (и, конечно, не могло быть) ощущения тотального порядка и кропотливого наложения красок его масляной живописи. Это быстрая техника, и Сезанн пользовался ею, чтобы зафиксировать свои первые встречи с определенным мотивом; мы почти видим быстрые мазки красного, желтого и голубого, высыхающие на прованской жаре, так что можно сразу же писать поверх них. Акварели позволяли Сезанну фиксировать аспекты пейзажа, недоступные менее воздушным техникам: туманный радужный свет, проблески далей по утрам, неуловимые серебряные тени в оливковой роще из-за того, что листья сначала поворачиваются к солнцу более темной верхней плоскостью, а потом белесой нижней.
Эти этюды хорошо отражают общее направление движения молодых французских художников. Начиная с начала 80-х в передовом французском искусстве появляется необычайное буйство цветов. Цвет всегда был связан с природой, однако теперь он стремится к насыщенности, не свойственной обычному видению. Это было движение на юг от Парижа – к Провансу и Лазурному Берегу. По сути, произошло вот что: художники искали пейзаж, рождающий те ощущения, которые они хотели усилить. Бегство Ван Гога в Арль в 1888 году было частью этого общего движения, «потому что, – писал он в письме брату Тео, – не только в Африке, но уже за Арлем – повсюду встречаешь великолепные контрасты красного и зеленого, голубого и оранжевого, серно-желтого и лилового. Каждому подлинному колористу следует побывать здесь и убедиться, что на свете существует не только такая красочная гамма, какую видишь на севере»[39]39
Цит. по: Ван Гог В. Письма к брату Тео / Пер. с англ. П. Мелковой. СПб.: Азбука, 2019. С. 320.
[Закрыть]. Поль Синьяк, самый талантливый последователь Сёра, в 1892 году поселился в тогда еще девственной рыбацкой деревушке Сен-Тропе, где в 1904 году принимал в гостях Анри Матисса; в 1905-м Матисс и Андре Дерен отправились на пленэр в Коллиур и дальше по побережью в сторону Испании. Все они искали более чистого восприятия природы и хотели открыть особый вид хроматической энергии – цвет, охватывающий душу в целом, который можно было бы положить на холст. Не считая Ван Гога (см. главу VI), дальше всех в поисках независимого символического цвета и в деле его освобождения в искусстве продвинулся выдающийся позёр и странник Поль Гоген (1848–1903).
Горе художнику, которого заприметили в Голливуде. Благодаря Энтони Куинну каждый хоть что-то знает о Гогене: классический отщепенец, бросивший карьеру в банке ради живописи, взбесившийся на своего одноухого дружка Винсента в открытом холодным ветрам желтом доме в Арле и бросивший жену (причем очень симпатичную и терпеливую женщину, а не какую-нибудь сухую и властную антимузу из бульварных романов) ради легкодоступных объятий таитянок. Гоген был первым французским художником, попытавшимся найти земной рай за пределами Франции (если отбросить африканские путешествия романтиков XIX века), однако он никоим образом не был первым европейским художником, оказавшимся на Таити. Рай в южных морях был разработанной темой европейского искусства еще за сто лет до Гогена. Почти сразу после того, как в 1767 году капитан Уоллис открыл Таити, этот остров стал изображаться исследователями (и их читателями) как рай до грехопадения – «достойный карандаша Буше», как выразился французский путешественник Бугенвиль, приплывший в залив Матавай годом позже, – с темнокожими полинезийскими нимфами, «чья внешность божественна, будто сама Венера явилась фригийскому пастуху». Это было паломничество на остров Цитера по-настоящему – причем особую остроту ощущениям придавало предшествующее шестимесячное пребывание в море без женщин.
Впервые Таити стал писать шотландец Уильям Ходжес, попавший туда вместе с капитаном Куком в 1769 году. (Вернувшись в Англию, он, в отличие от Гогена, благоразумно оставил живопись ради работы в банке.) К концу XIX века образ благородного дикаря, живущего в блаженной невинности на лоне щедрой природы, стал одной из главных фантазий европейской мысли; Таити же рассматривался как подтверждение тому, что такие дикари существуют. Кроме того, этот рай был французской колонией – с почтой и прочими удобствами, так что, когда надоедала диета из плодов хлебного дерева и джекфрута, всегда можно было перейти на консервированные сардины и божоле, что Гоген и сделал, тем самым ввергнув себя в финансовую катастрофу.
В 1880-х, вращаясь среди самых передовых французских художников и поэтов – особенно символистов, которых привлекал его необузданный нрав, – Гоген, а вслед за ним и его молодые друзья-художники Морис Дени и Эмиль Бернар начинают испытывать невыносимое отвращение к буржуазной культуре. Ему казалось, что в нем течет «примитивная» кровь: бабка его, незаконнорожденная дочь перуанки, обладала воинственным характером, проявлявшимся в активной пропаганде социалистических идей в южных провинциях Франции; Гоген любил намекать, что среди его предков были рабы с Мартиники. Он считал себя пережитком романтизма, порождением вольного духа, которому не место в кафе и салонах, и мечтал бросить Францию. Импульсом к бегству стала Парижская выставка 1889 года, на которой среди тысяч других экспонатов выставлялась не только перуанская мумия – Гоген сразу же почувствовал связь с этим усохшим прародственником и включил его скрюченное в позе эмбриона тело в несколько своих картин и ксилогравюр как образ зловещих времен, – но также и несколько перенесенных «диких» деревень из различных частей Французской империи – Кохинхины, Марокко и Таити. Именно этот остров поразил Гогена, он даже выучил наизусть текст брошюры с выставки, гласивший в частности: «Счастливые обитатели Таити знают жизнь только с самой яркой стороны». В 1891 году он отплывает из Марселя в южные моря, подбадриваемый друзьями и поклонниками – среди которых был, например, символистский критик Октав Мирбо. Он должен стать дикарем и от их имени. В багаже у него дробовик, чтобы охотиться в раю за дикими животными, две мандолины и гитара, чтобы петь под пальмами серенады нимфам.
А кроме того, в багаже у него были стереотипы. Гоген знал, что́ он хочет видеть: часть сценария была написана еще раньше, чем он уехал, – и написал его Стефан Малларме. Первая строчка эклоги Малларме «Послеполуденный отдых фавна» (1876), вдохновившая Дебюсси, гласит: «Ces nymphes, je les veux perpétuer!» («Вам вечность подарить, о нимфы!»[40]40
Перевод с французского Р. Дубровкина.
[Закрыть]). Гоген вторит ей в своих письмах с Таити: «Эти нимфы, я хочу подарить им вечность – с их золотистой кожей, резким животным запахом, тропическим привкусом». Возможность обессмертить их была – его искусство, уже вошедшее в зрелую стадию. Популярный миф о том, что Гоген «открыл себя» как художника на Таити, не соответствует действительности. Все составляющие его творчества – плоские цветные орнаменты, вьющиеся контуры, стремление к символическому осмыслению человеческих судеб и эмоций, интерес к «примитивному» искусству и представление, что цвет может функционировать как язык, – обнаруживаются у него во Франции еще до 1891 года. Время, проведенное в Бретани, где он был центральной фигурой в одной из многочисленных колоний художников, рассеянных по побережью (ибо бретонская жизнь со всей ее строгостью, живописностью и религиозным примитивизмом была любимым предметом для многих художников, а не только для Гогена и его окружения в Понт-Авене), можно отчасти считать репетицией к Таити.
Остров же был давно мертв. Его закат начался в тот самый момент, когда сюда прибыл капитан Уоллис, и длился без перерывов уже 125 лет. Вместо рая Гоген увидел колонию; вместо благородных дикарей – проституток; вместо чистых детей Аркадии – равнодушных полукровок; культуру, разрушенную миссионерами, выпивкой, эксплуатацией и гонореей; мертвые ритуалы, утраченную память и население, сократившееся с сорока тысяч во времена Кука до шести тысяч человек во времена Гогена. «Местные, – сокрушался он, – которым нечем, совершенно нечем заняться, думают только об одном: о выпивке. Когда-то здесь было множество необычных и живописных вещей, но сейчас от них не осталось и следа; все утрачено».

Поль Гоген. Сбор урожая в Бретани. 1889. Холст, масло. 92×73 см. Галерея Института Курто, Лондон
Итак, рай оказался обманом, замаранным Эдемом, населенным культурными фантомами, а таитяне походили на людей, переживших золотой век, но забывших об этом. Однако это определенным образом отвечало формальной, классической стороне творчества Гогена. Мы считаем его модернистом, но он им не был или был лишь отчасти – его воображение принадлежало скорее культуре Третьей империи, чем XX веку; особенно это выдает его увлечение аллегорией. Он хотел, чтобы его картины были морализаторскими притчами, причем зловещими; он считал себя нравственным наставником, а не инженером визуальных ощущений. Перейдя из XIX века в XX век, искусство главным образом отказалось от желания проповедовать широкой аудитории на религиозные или этические темы. Такой жертвы требовала новая идея приватности. Гогену же казалось, что в поверженном мифе о благородном дикаре можно найти универсальные ответы, касающиеся судьбы человечества. В 1897 году он написал большую картину «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». Она пронизана символизмом: Ева-таитянка, рвущая плоды с тропического райского древа, шепчущиеся фигуры, пророчица в позе перуанской мумии – это «философская работа, – писал Гоген своему другу во Франции, – тематически сравнимая с Евангелием».

Поль Гоген. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? 1897. Холст, масло. 139,1×374,6 см. Музей изящных искусств, Бостон
Для будущего оказались важны не сюжеты Гогена, а его цвет. Таитянские цвета были необыкновенными, и Гоген, который никогда не был сдержанным колористом, обогатил свою палитру еще более напряженными и яркими оттенками. Он верил вслед за символистами, что цвет действует как слово, что он способен передать любое чувство вплоть до мельчайших нюансов. Это было визуальное воплощение того, что Малларме называл «музыкальностью» поэзии, в которой слова складывались в смысловые структуры благодаря внутренним силам притяжения – как металлическая стружка на магните. Если стихотворение – это пятна (слова) на бумаге, то и картину – как утверждал Морис Дени – надо считать упорядоченными пятнами на изначально пустой плоской поверхности. Цель живописи не описывать, а выражать. Таким образом, цвет может обеспечить свободу мышления.
Для молодых художников этот тезис стал судьбоносным. Они хотели воплотить его во Франции, и самым подходящим регионом для этого был Юг. Цвет – знак жизни и благополучия, ему не нужен никакой символический подтекст. Достаточно того, что цвет опирается на подлинность чувства, что он должен расширять и усиливать ощущение энергии у художника и зрителя, их совместную joie de vivre[41]41
Радость жизни (фр.).
[Закрыть]. Цвет оказывается скорее даром, чем предписанием.
Из этого желания родилось движение, названное фовизмом. Что в этом имени? Не много, – вынуждены признать искусствоведы. Кубизм не про кубы, и фовизм не про диких зверей[42]42
Fauve – дикий (фр.).
[Закрыть]. В 1905 году один обходительный критик, осматривая итальянский бюст в окружении работ Анри Матисса и его соратников в зале Осеннего салона, пошутил: «Donatello chez les fauves» («Донателло среди диких зверей»), и это обманчивое прозвище прочно закрепилось за новым направлением в искусстве. Фовизм был малочисленным движением и просуществовал всего три года; в 1907 году, когда Пикассо закончил «Авиньонских девиц», фовизм уже сошел со сцены. В отличие от символизма, у фовизма не было собственной теории и даже желания ее разрабатывать; чтобы определить это направление, надо назвать несколько имен, которые в течение короткого времени испытывали сильное влияние Матисса и пейзажей юга Франции: Морис де Вламинк и Андре Дерен, Рауль Дюфи и Жорж Брак, Кес ван Донген и Анри Манген. Можно говорить разве что об общих чертах картин фовистов: они яркие, с диссонирующими цветами, грубой поверхностью, деформированным рисунком и склонностью к живым, необузданным чувствам. Фовизм не был «движением» с точки зрения общих приемов. «Можно говорить о школе импрессионистов, – отмечал впоследствии ван Донген, – потому что они придерживались определенных принципов. У нас ничего подобного не было, нам просто казалось, что у импрессионистов какие-то блеклые цвета».
Если сравнивать, так оно и было. Поставьте рядом с какой-нибудь картиной Писсарро одну из ключевых фовистских работ Андре Дерена – «Поворот дороги в Эстаке», и первую просто сдует со стены. У Дерена заметно влияние Гогена: голубой контур у красного дерева в правой части работы и его змеевидный профиль, разумеется, чистый клуазонизм, – однако ручка громкости, условно выражаясь, выкручена сильнее. Сегодня такие работы ценятся за декоративность: обилие деталей, смелые цвета – яркие пунцовые стволы, сложные переливы синего в тенях, взрывная веселость зеленой и желтой листвы. Семьдесят пять лет назад это было бескомпромиссным ударом по чувствам, оскорбление порядка и mesure[43]43
Меры (фр.).
[Закрыть], которые французы так долго считали самым главным в искусстве.

Андре Дерен. Поворот дороги в Эстаке. 1906. Холст, масло. 129,5×195 см. Музей изящных искусств, Хьюстон. Коллекция Джона и Одри Джоунз Бек
Через несколько лет немецкий экспрессионизм (см. главу VI) позаимствует агрессивные фовистские цвета, но не тот оптимизм, идеал чувственной полноты, который выражался посредством цветов, как дух – посредством медиума. Фовисты восхваляли удовольствие: триколоры и полосатые зонты на уличных сценках у Рауля Дюфи, колоритная театральная энергетика сценок из жизни на дне у ван Донгена, небрежное, но заразительное волнение видов Шату у Вламинка. Но лучшим видом стало изобретенное Анри Матиссом Средиземноморье. До сих пор удивительно, насколько сильно на наше восприятие этого исчезающего побережья повлияли матиссовские козырьки и небеса, мысы львиного цвета и проблески розовой воды позади выглядывающих из-за балкона красных мачт. Работы Матисса составляли костяк фовизма. Освобождение цвета, случившееся в эти годы, было по большей части результатом его работы, и уход от фовистского изобилия также стал его решением. «Нельзя все время пребывать в состоянии пароксизма, – мудро отмечал Жорж Брак о своем фовистском периоде. – Первый год был чистым восхищением парижанина, оказавшегося на южном побережье. На следующий год все уже было по-другому. Мне пришлось бы ехать в Сенегал, чтобы добиться таких же результатов». Отход Брака от фовистских цветов стал одним из источников кубизма; а усилия Матисса по исправлению недостатков и упорядочиванию движения, которое он сам и создал, заложили основу всего его последующего творчества. Начиная с 1908 года, пока Дерен занимался плотными, сцепленными композициями и тональными переходами в духе старых мастеров, пока невежественный Вламинк скатывался в грубую самопародию, а Дюфи обходился милыми картинками на продажу, у Матисса наступил самый зрелый и плодотворный период творчества; нечто подобное в XX веке переживал разве что Пикассо.
Анри Матисс родился в 1869 году, когда был спущен на воду парусник «Катти Сарк», а умер в 1954-м, когда на атолле Бикини была взорвана первая водородная бомба. Он не просто родился и умер в разных мирах – он пережил самые страшные политические катастрофы в истории человечества: самые страшные войны, самые масштабные массовые убийства, самые безумные идеологические войны, на первый взгляд не обращая на все это ни малейшего внимания. У Матисса нет ни одной дидактической картины, он не подписал ни единого манифеста, и вообще в его записях не упоминаются политические события и тем более нет никаких политических суждений. Возможно, его, как и всех остальных, обуревали страх и отвращение, но они никак не проявлялись в его работе. Его мастерская была замкнутым миром, точкой равновесия, в которой на протяжении шестидесяти лет производились образы комфорта, убежища и гармонии. Ни в одной картине Матисса не чувствуется и следа отчуждения или конфликта, которые так часто отражал модернизм, это зеркало нашего столетия. Его картины – это неподвластные нападкам истории идеальные места, как их видит Бодлер в «Приглашении к путешествию»:
Вся мебель кругом
В покое твоем
От времени ярко лоснится.
Дыханье цветов
Заморских садов
И веянье амбры струится.
Богат и высок
Лепной потолок,
И там зеркала так глубоки;
И сказочный вид
Душе говорит
О дальнем, о чудном Востоке.
Это мир таинственной мечты,
Неги, ласк, любви и красоты[44]44
Перевод с французского Д. Мережковского.
[Закрыть].
Творчество Матисса с его задумчивостью, неустанным развитием, благотворной ясностью и богатыми историческими аллюзиями напрочь опровергает тезис о том, что все великие открытия модернизма были сделаны путем грубого отрицания прошлого. Его работа укоренена в традиции, причем куда менее нервно и иронически, чем творчество Пикассо. Еще в молодости, будучи учеником Одилона Редона, он тщательно изучал картины Мане и Сезанна – причем купленные в 1899 году малые «Купальщицы» Сезанна стали его талисманом. В 1904 году он заинтересовался пуантилизмом с его цветными точками. Сёра к тому времени уже давно умер, и Матисс подружился с одним из его самых близких последователей – Полем Синьяком, чьи картины с видами на залив Сан-Тропе оказали на него большое влияние. Кроме того, следует выделить шедевр Синьяка, выставленный в Салоне независимых в 1895 году, – большую аллегорическую композицию «Во времена гармонии», выражающую его анархические убеждения. На картине изображена утопическая Аркадия, где предаются отдыху и занимаются земледелием на берегу моря, которая в восприятии Матисса вполне могла переплестись с традиционным сюжетом fête champêtre, в результате чего родилась его собственная, немного неуклюжая, но важная работа «Роскошь, покой и сладострастие». Здесь интерес к Бодлеру сливается с идиллическими фантазиями – возможно, под влиянием бесед с Синьяком о грядущем золотом веке. Мы видим пикник у моря возле Сан-Тропе – написанные пуантилью обнаженные женщины у лодки с латинским парусом. И хотя особой роскоши здесь нет, это первая попытка Матисса запечатлеть Средиземноморье как состояние ума.
В 1905 году Матисс снова едет на юг работать вместе с Андре Дереном в маленьком прибрежном городе Коллиуре. В этот момент он достигает полной свободы в обращении с цветом – это хорошо видно по работе «Открытое окно в Коллиуре». Это первый вид из окна – мотив, ставший сквозным в творчестве Матисса. Все цвета решительно искажены: терракотовые цветочные горшки, ржаво-красные мачты и сложенные паруса превращаются в пылающую киноварь; отражения лодок, крутящихся на якоре в пятнах света, – розовые; неожиданно ярко-зеленая стена слева, которая отражается в стекле раскрытой двери справа, перекликается с оттенками неба. Эта жизнерадостная и бескомпромиссная живопись, наверное, казалась еще радикальнее в своем отказе от ремесленничества на фоне более спокойной манеры Дерена.
Работы Матисса, показанные осенью 1905 года, стали шоком для публики. Даже немногие сторонники пребывали в неуверенности, тогда как хулители просто считали их варварством. Особенно оскорбительным казалось использование контрастных цветов в знакомом жанре салонного портрета – несмотря на то, что «жертвой» была выбрана жена художника, позировавшая в своей лучшей эдвардианской шляпке.

Анри Матисс. Роскошь, покой и сладострастие. 1904–1905. Холст, масло. 98,5×118,5 см. Музей Орсе, Париж
В криках о варварстве была толика правды, хотя и незначительная. Матисс снова взялся за изображение мира до цивилизации, Эдема до грехопадения, населенного мужчинами и женщинами без истории, безвольных, как растения, или же энергичных, как животные. Тогда, как и сейчас, этот образ был чрезвычайно привлекателен для цивилизованных ценителей искусства, одним из которых был главный патрон Матисса, московский фабрикант Сергей Щукин, – он регулярно наведывался в Париж и скупал все на корню.
Отношения Щукина и Матисса, как и парижские гастроли Русского балета Дягилева, играли важную роль в связях между Парижем и Москвой, пока революция не разорвала их навеки. Щукин заказал Матиссу работы «Танец» и «Музыка» для лестницы в своем московском доме – дворце Трубецких.

Анри Матисс. Танец. 1910. Холст, масло. 260×391 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Даже в нейтральном музейном интерьере семьдесят лет спустя примитивизм этих работ все так же тревожит. На лестнице дворца Трубецких они, должно быть, смотрелись крайне необычно. Кроме того, чтобы оценить их воздействие на зрителя, надо вспомнить, каким социальным смыслом обладало слово «музыка» в царской России. Музыка пропитывала культуру на всех уровнях, но в Москве и Петербурге она была социальным искусством par excellence. Этой атмосфере пышного и льстивого социального ритуала Матисс противопоставил музыку, близкую к своим истокам, и исполняют ее не виртуозы с антрепренерами и бриллиантовыми запонками, а пять голых дикарей – доисторических, практически досоциальных. Флейта из тростинки, грубо сделанная скрипка, шлепки по голой коже – как далеко это от шумных премьер, соболиных мехов и дрожек! Однако композиция Матисса обладает невероятной силой: у каждого элемента – земли, неба, тел – свой локальный цвет, и вся сцена полностью завладевает вниманием смотрящего. В этой простоте скрыта безграничная энергия. «Танец» – один из немногих по-настоящему убедительных образов физического экстаза, созданных в XX веке. Считается, что замысел этой работы родился у Матисса в Коллиуре в 1905 году, где он видел, как рыбаки и крестьяне водят хоровод сардана. Однако сардана вальяжна, тогда как «Танец» исполнен напряжения. Круг из топающих, крутящихся менад ассоциируется с самыми древними образами – с краснофигурными средиземноморскими вазами и даже наскальной живописью. Матисс пытался ухватить движение, древнее, как сам танец.
С другой стороны, Матисса интересовало ремесло. Он любил узоры и узоры внутри узоров – не только мягкие декоративные формы своих композиций, но и изображенные внутри картин гобелены, вышивки, шелка, полосатые навесы, завитушки, крапинки, точки, пятна, захламленные разноцветной мебелью комнаты. Особенно он любил исламское искусство, крупную выставку которого он видел в Мюнхене в 1911 году, когда возвращался из Москвы. Исламский орнамент создает иллюзию абсолютной полноты мира, когда и близкое, и далекое действует на глаз с одинаковой силой. Матисс восхищался этой техникой и хотел переложить ее на язык красок. Одним из результатов этих усилий стала работа «Красная студия».

Анри Матисс. Музыка. 1910. Холст, масло. 260×389 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
С одной стороны, Матисс хочет поместить нас внутрь своей картины, заставляет проникнуть в нее, как в зазеркалье. Поэтому коробка с мелками лежит под рукой, как приманка, – точно так же она лежала у него. Но это не настоящее пространство: здесь все залито красным, почти без оттенков, этот нереальный красный покрывает всю комнату, придавая картине звенящую ирреальность. Это мозаичный узор, в котором множество «окон», на деле оказывающихся такими же плоскостями. Это картины самого Матисса. Все остальные предметы – также произведения искусства или ремесла: мебель, комод, часы и скульптуры, явно сделанные самим Матиссом. Единственный намек на природу среди всего этого – комнатное растение, покорно повторяющее изгиб плетеного стула справа и обнаженной слева. «Красная студия» – это поэма о том, как живопись отсылает к самой себе: как она питается другими видами искусства и как при должном уходе искусство может образовать собственную республику удовольствия, лакуну в бытии, рай.
Именно из-за этой веры в полную самодостаточность искусства Матисс не замечал четырех всадников Апокалипсиса. В 1914 году, когда началась война, ему было сорок пять – он был слишком стар, чтобы идти на фронт, слишком мудр, чтобы думать, будто искусство способно вклиниться между историей и ее жертвами, и слишком уверен в своих художественных задачах, чтобы менять их. За время войны его живопись – под воздействием поездки в Северную Африку – стала еще размашистей и абстрактней, о чем свидетельствует картина «Марокканцы» (1916). В 1917-м он переселился на юг Франции. «Чтобы писать свои картины, – отмечал он, – мне надо несколько дней пребывать в одном и том же состоянии ума, и нигде у меня не получается это лучше, чем на Лазурном Берегу». Он купил просторные апартаменты в отеле «Регина», белом эдвардианском особняке около Ниццы. Именно они оказались «Великим интерьером», элементы которого неизменно появляются на картинах Матисса: кованая балконная решетка, полоска голубого средиземноморского неба, пальма, ставни. Художник как-то сказал, что его искусство должно действовать на зрителя так же, как уютное кресло на уставшего в обыденной жизни человека. В 60-х, когда все мы еще верили, что искусство способно изменить мир, эта цель казалась ограниченной, но, вообще говоря, здравомыслие Матисса достойно восхищения. У него, по крайней мере, не было иллюзий относительно своего зрителя. Он понимал, что авангардное искусство может рассчитывать только на образованных буржуа, и история подтвердила его правоту. Поэтому очень кстати то, что сценой многих его великих картин была комната или апартаменты в отеле – песочница взрослого ума. Сквозной темой в интерьерах Матисса оказывается акт созерцания доброжелательного мира в условиях полной безопасности. Границей между «снаружи» и «внутри» становится окно. Иногда оно изображается абстрактно, скудными линиями – как в удивительно строгой и смелой работе «Балконная дверь в Коллиуре». «Моя цель, – вторит Матисс Сезанну, – передать свою эмоцию. Это состояние души создают окружающие предметы, которые отзываются во мне, – от горизонта до меня самого, включая меня самого. Я часто изображаю себя в своих картинах, и я знаю, что происходит за моей спиной. Я выражаю пространство и предметы в нем так естественно, как будто передо мной лишь море и небо, то есть самые простые вещи в мире».

Пьер Боннар. Столовая. Ок. 1930–1931. Холст, масло. 159,6×113,8 см. Музей современного искусства (MoMA), Нью-Йорк
Другие великие художники тоже обретали нужный эмоциональный настрой в Средиземноморье. В их числе был и Пьер Боннар (1867–1947), давний почитатель Гогена и пропагандист японского искусства. Долгие годы он регулярно ездил писать на юг, пока в 1925 году не поселился окончательно в доме в Ле-Канне близ Канн. К середине 20-х творчество Боннара – утонченная и чрезвычайно насыщенная форма импрессионизма, строившаяся на мерцающих цветовых полях высочайшей напряженности, – казалось многим художникам старомодным. Пикассо, назвавший работы Боннара «винегретом нерешительности», считал его творчество декадентским, лишенным столкновения и решительного контраста форм, которые он так ценил в живописи. Вопрос о «современности» Боннара, однако, теряет всякий смысл на фоне глубины и вдумчивости его ви́дения – настолько личного и пронзительного в мельчайших своих деталях, что на ум приходит сравнение с поздним Моне. В каком-то смысле Боннар был полной противоположностью Матисса – мелким буржуа по сравнению с ценителем роскоши и великолепия. От композиций Матисса, даже когда они представляли собой срез частной жизни, веяло величием формы; в полном согласии с традицией высокого французского искусства они были полны патетики. Боннар, как и его товарищ Эдуар Вюйяр (1868–1940), был, напротив, «интимистом»: его волновали обыкновенные, естественные сцены домашней жизни, в которых люди выглядели беззащитными, а объекты становились действующими лицами в спектакле (не обязательно комическом), складывавшемся из повседневных событий. В натюрмортах Боннар давал вещи такими, какими он их обнаруживал, или по меньшей мере старался создать именно такое впечатление живописными средствами. В работе «Столовая» расстановка чашек, тарелок и кувшинов на накрытом для завтрака столе может показаться случайной и произвольной – кажется, что все эти вещи попали в поле зрения случайно, как и женщина слева, видимая лишь наполовину. Притаившись, как кошка, Боннар то и дело застает врасплох попавшиеся ему на глаза давно знакомые вещи: обрезает их самым странным образом, пишет с неожиданных углов, распыляет, превращая в непредсказуемые вспышки розового и сиреневого, ярко-красной крапп-марены, желтого хрома и виридиана, в пятна яркого, покрытого солнечными бликами зеленого. Мазки свободны, сплетены друг с другом, импрессионистичны – вещество этих полотен кажется не до конца оформленным, готовым снова превратиться в свет, из которого оно было создано. Все открывается частному, а не публичному взгляду: домашняя еда, расставленные повсюду цветы и женщина.

Пьер Боннар. Голубая обнаженная. 1899. Холст, масло. 30×39,5 см. Национальная галерея «Жё-де-пом», Париж
Почти всегда это одна и та же женщина, Мари Бурсен, известная окружающим как Марта. Боннар познакомился с ней в 1894 году, и через пять лет она стала героиней одной из самых чувственных картин в истории живописи – «Голубой обнаженной», на которой распростертая в посткоитальной дреме молодая женщина открывает свою животную суть в синих сумерках спальни. Через тридцать лет после знакомства он наконец женился на ней, и они жили вместе до самой ее смерти в 1942 году. Он был полностью предан ей, предан до мазохизма: далекая от идеального образа femme d’artiste, поливающей герань в доме на Лазурном Берегу, Марта была ворчливой истеричкой, которая вечно портила жизнь Боннару и его друзьям, ничего не понимала в живописи и не умела даже готовить. Но Боннар был одержим образами домашней жизни и воспоминаниями о чувственных наслаждениях: приватность, мимолетные впечатления, тело, которое после многих лет супружеской жизни воспринимается как нечто само собой разумеющееся, ощущение, что все секреты давно на виду. В какой-то момент, примерно в 1920 году, Боннар решил, что Марта не будет стареть. И когда ей было уже шестьдесят, он все рисовал ее тридцатилетней. До самого конца она осталась обособленной, погруженной в себя под внимательным посторонним взглядом: вечная Сюзанна в купальне, за которой, как беспокойный старец, все время подглядывает Боннар – растворяя ее в свете, воссоздавая в цвете, раз за разом овладевая ею на расстоянии. Шестидесятилетняя женщина попросту не может выглядеть как нежащаяся в воде наяда в залитой светом ванной, какой она предстает на поразительной картине Боннара «Обнаженная в ванне». Свет, который наполняет эту комнату, искажая безупречную геометрию и превращая обычную плитку в перламутр и опал, этому миру не принадлежит. Боннар-вуайер сумел, хотя бы частично, передать то, что увидел Данте, взглянув на свою возлюбленную:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?