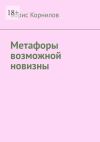Текст книги "Шок новизны"

Автор книги: Роберт Хьюз
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Как и лидеры Французской революции, Ленин и Луначарский верили в пропагандистскую силу памятников. Ленин даже собирался (впрочем, впоследствии отказался от этой идеи) усеять московские улицы статуями отцов революции – Дантона, Марата, Жореса, Виктора Гюго, Вольтера, Бланки, Золя и даже Поля Сезанна. Его вкусы были куда более консервативны, чем у Луначарского; он не хотел остаться в истории «футуристическим пугалом», однако именно под его покровительством в России было переосмыслено монументальное искусство. Ни одно государство прежде не выражало свои идеалы образами настолько радикально абстрактными; и тот факт, что их в итоге так и не воплотили, меркнет перед тем, что об этом вообще думали. Воплощению препятствовала сама реальность: в России был дефицит бронзы, стали и рабочей силы. Поэтому художникам заказывали почти забытые формы агитпропа: плакаты, оформление уличного театра, декорации для демонстраций. Таким образом были созданы и через систему советской пропаганды растиражированы тысячи простых и запоминающихся плакатов «Окна РОСТА», напечатанных яркими красками на дешевой бумаге. Художники писали лозунги и декорации для агитпоезда и даже агитпарохода «Красная звезда», который ходил по Волге, распространяя листовки и показывая крестьянам пропагандистские фильмы. Они же руководили художественными училищами, этими инкубаторами будущего. Так, директором училища в Витебске был Марк Шагал, а среди преподавателей числились Малевич и Эль Лисицкий. Луначарский хотел создать «искусство за пять копеек» – дешевое, общедоступное, современное – и основал в Москве Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС). Они стали русским Баухаусом – самым передовым художественным институтом в мире и идеологическим центром русского конструктивизма.

Владимир Козлинский. Прежде и теперь. Плакат «Окон РОСТА». 1920–1921. Линогравюра. 38,1×63,5 см
Из всех течений в русском искусстве конструктивизм, пожалуй, был ближе всего к ленинскому идеалу. Он был воплощением диалектики в бетоне. Никакого мистицизма, вместо него – голос материалов. Вместо примитивизма – современность: заклепки, целлулоид, крылья самолета, легкие каркасные конструкции вместо тяжелых объемов. Вместо статических фигур – динамическое разворачивание сил. Искусство (как надеялись его создатели) будет доступно пониманию каждого, а не горстке посвященных; старорежимное разделение художника и ремесленника, архитектора и инженера будет преодолено единой концепцией искусства как производства.
Самым влиятельным из конструктивистов был Владимир Татлин (1885–1953). Он учился иконописи, работал матросом и, вероятно, корабельным плотником. Эти навыки сказались на его скульптурной работе, ведь они предполагали работу с разнородными, «нечистыми» материалами: для иконописи характерен контраст между окрашенной поверхностью и серебряным или золотым окладом, на верфях же работают с такими крепкими, практичными материалами, как дерево, железо, канаты, смола и уголь. Можно ли сделать из этих двух начал единую материю для дидактического пролетарского искусства? Татлин думал, что можно, а инструментарий для этого позаимствовал у Пикассо: в 1913 году он был в его мастерской и видел скульптуры из дерева, картона и гнутой жести. Сконструированные скульптуры Пикассо 1912 года, особенно «Гитара», были самым радикальным новшеством в скульптуре с момента изобретения бронзового литья: впервые акцент сместился с массива на поверхность, с глыбы на каркас, с закрытого объема на открытый. Маргит Роуэлл отмечает, что перед Татлиным стояли иные задачи, чем перед Пикассо: он считал жанр натюрморта (чем, по сути, и были скульптуры Пикассо) запятнанным буржуазными условностями. Натюрморт был как-никак самым непосредственным изображением частной собственности в западном искусстве. Для социалистического искусства требовалось избавиться от предметов собственности – или, говоря проще, уйти в абстракцию. (Современный художественный рынок Татлин счел бы абсолютным злом.) Экспрессивная сила скульптуры должна, с точки зрения Татлина, идти от фактуры, то есть особенностей самого материала. Он хотел, по собственному признанию, «приступить к созданию художественной формы, подбора материалов железа и стекла как материалов современного классицизма, равносильных в прошлом по своей строгости – мрамору». Эти материалы должны были стать материей конструкции – недорогие, величавые, но в то же время обычные, и красоту их мало кто понимал. Они должны были показывать мир материальной необходимости, существующий параллельно с миром ручного труда, в котором жили те, к кому обращался Татлин. Он считал свои скульптуры иконами, передатчиками социальной истины и помещал их туда, где русские держат иконы, – в угол.
Вера Татлина в технологию вызывала уважение у немецких авангардистов, несмотря на то что его работы никогда не выставлялись за границей; на Первой международной ярмарке Дада в Берлине в 1920 году Гросс и Хартфилд сфотографировались с плакатом, гласящим: «Искусство умерло. Да здравствует новое машинное искусство Татлина». Рауль Хаусман сделал его портрет в технике коллажа – «Татлин дома», на котором художник предстает monteur или инженером, в голове которого роятся механические мечты (притом что у портняжного манекена человеческие внутренности), а на стену за его спиной спроецированы еще более масштабные машинные фантазии; висящая рядом карта намекает на интернационализм татлиновской эстетики. Это уважение было заслужено одним особенным проектом Татлина. В 1919-м, через два года после революции, Народный комиссариат просвещения поручил Татлину разработать проект памятника Третьему Интернационалу. Модель была представлена зимой 1920 года на VIII съезде Советов в Москве.

Рауль Хаусман. Татлин дома. 1920. Коллаж (оригинал утрачен). 40,6×28 см
Памятник представлял собой наклонную башню высотой 400 метров, то есть почти на 100 метров выше Эйфелевой башни. Конструкция Эйфеля стала символом технического прогресса XIX века, татлиновская башня должна была стать символом технологий XX века; не зря висевший над моделью транспарант: «Инженеры-мостовики! Делайте расчеты изобретенной новой формы» – толпы студентов позже носили с песнями по улицам Москвы. Башня стала бы самой высокой конструкцией в мире, а марксизм-ленинизм получил бы идеальное архитектурное воплощение – метафору динамизма и диалектического изменения. Башня состояла из трех располагающихся друг над другом помещений. Нижнее, кубическое предназначалось для законодательного совета, оно должно было вращаться со скоростью один градус в сутки, то есть делать полный оборот в год. Над ним располагался пирамидальный блок для исполнительных органов Интернационала, вращающийся со скоростью один оборот в месяц. Еще выше Татлин поместил цилиндрический объем для информационных служб, делающий полный оборот в сутки. Венчала всю конструкцию полусфера. За вращение должны были отвечать «специальные машины», в их уникальности сомневаться не приходится. При этом вся конструкция располагалась внутри двух взмывающих в небо металлических спиралей. Материалы башни – сталь и стекло. «Осуществить эту форму, – гласило одно из описаний проекта того времени, – значит воплотить динамику с таким же непревзойденным величием, с каким воплощена статика пирамидой». Если неподвижность пирамид отражала статичность монархии, то устремленная вверх рискованная конструкция Татлина должна выражать диалектику разворачивающейся революции.
Еще со времен Античности спираль символизировала стремление к победе, и в качестве условных предшественников башни Татлина можно назвать колонну Траяна, минарет в Самарре (Ирак), картину Брейгеля «Вавилонская башня». Однако они не были промышленными символами и не вращались. Составив памятник из четко определенных частей, неотступно следуя утилитарной логике и используя машинную силу, Татлин, по сути, определил, что такое конструктивизм и какова его возможная политическая роль, если политики им заинтересуются. Но этого не произошло: России не хватило бы стали, чтобы построить такую башню. Она до сих пор остается самым значимым из несуществующих объектов XX века и – как не реализуемая на практике метафора практичности – самым парадоксальным.

Владимир Татлин. Модель памятника Третьему Интернационалу на первомайской демонстрации 1926 года в Ленинграде
Татлиновский утопизм заразил других русских художников; после революции утопизма вообще было в избытке, и башня была отнюдь не самым фантастическим продуктом – некоторые архитекторы предлагали строить города на пружинах и с крыльями. (Оглядываясь, можно увидеть, что нереализуемые проекты были подходящими памятниками идеалу: раз они не построены, то и разрушить их невозможно.) Как и Татлин, Эль Лисицкий (1890–1941), художник, скульптор, типограф, иллюстратор, monteur и дизайнер, мастер на все руки, пытался придать абстрактным формам социальную функцию. Его картины, которые сам он называл проунами (аббревиатура от «проекты утверждения нового»), были похожи на планы воображаемых городов; это были как бы квадраты и прямоугольники Малевича, изображенные в трехмерном измерении. Пересекающиеся плоскости и кристально ясное, спокойное пространство вокруг «динамических» диагоналей, заменивших «пассивные» горизонтали и «авторитарные» вертикали, – все это должно было стать «пересадочной станцией» между живописью, скульптурой и архитектурой. Их чертежная точность была для Лисицкого знаком экономии и реализма: «кистью нельзя достать того, что можно пером. Она растрепана и не может достать в извилинах мозга, перо острее». Кроме того, он надеялся, что проуны лягут в основу будущего искусства среды, одним из предвестников которого стала «Комната проунов» – инсталляция на берлинской выставке 1923 года. Даже спустя почти шестьдесят лет нам трудно ожидать от искусства того, что от него ждал Лисицкий: для него оно было ни больше ни меньше инструментом тысячелетия. «Так, на смену ветхому завету пришел новый, – пишет он в манифесте „Супрематизм миростроительства“ (1920), – на смену новому – коммунистический, и на смену коммунистическому идет завет супрематический». Только принимая во внимание такую страстную веру Лисицкого, можно понять смысл плаката «Клином красным бей белых». Для человека, искушенного в абстрактном искусстве, он вполне ясен, особенно если разглядывать его в музее достаточно долго: острый красный треугольник, символизирующий власть большевиков, врезается в разрозненные отряды белых. Такой же мотив присутствует в проекте памятника Николая Колли. Но как его понимали прохожие на улицах русских городов – не говоря уже о деревнях – в 1919 году? Никак – язык был слишком нов.

Эль Лисицкий. Клином красным бей белых. 1919. Плакат. 48,2×58,4 см. Музей ван Аббе, Эйндховен

Эль Лисицкий. Проуны. Ок. 1922. Бумага, гуашь, чернила. 50,2×40 см. Музей современного искусства (MoMA), Нью-Йорк. Дар Курта Валентина
Многие пропагандистские идеи Лисицкого оказались гораздо практичней. Он был одним из лучших типографов XX века. Он создал проект трибуны для Ленина, которая была бы вдохновенным объектом, если бы ее построили: стальной каркас, возносящий лидера революции над толпой; это воздушная конструкция – полная противоположность царской или сталинской архитектуре. «Конструктивизм, – говорил венгерский коллега Лисицкого Ласло Мохоли-Надь, – это социализм зрения», и трибуна Ленина хорошо демонстрирует, что он имел в виду. Это вещь в себе, искусство, заявляющее себя как «материал + работа».
Наиболее эффективно искусство и общественную жизнь объединил авангардист Александр Родченко (1891–1956). Будучи талантливым художником, он занимался графическим дизайном и фотографией, при этом разделяя позицию Лисицкого: новое государство – это тотальное произведение искусства. «Беспредметная живопись – это сама улица, площади, города и весь мир. Искусство будущего не будет уютным украшением семейных квартир. Оно будет равно по необходимости 48-этажным небоскребам, грандиозным мостам, беспроволочному телеграфу, аэронавтике, подводным судам, которые трансформируются в искусство». Не ограничившись этими футуристическими лозунгами, Родченко пытается реализовать их на скромном практическом уровне дизайна и фотографии. Плакат оказался основной формой массовой коммуникации этой эпохи (неполный каталог русских плакатов 1917–1923 годов содержит около трех тысяч наименований), и Родченко становится самым оригинальным дизайнером в этом жанре: его блистательный и энергичный стиль подходил для дешевой печати, ведь он редко когда использовал больше двух цветов, помимо черного. Его непосредственные образы приковывают внимание, действуя как окрик на улице. Это не фантазии современной рекламы, а упорядочивание того, что было доступно, – того, что давала улица. Лозунги были немногословны и, возможно, с точки зрения современного капитализма несколько наивны в своей простоте:
Тот не гражданин СССР, кто Добролета не акционер.
Долой запивающих до невязания лык, но пей Трехгорное пиво – пей «Двойной золотой ярлык».
Нами оставляются от старого мира только – папиросы ИРА.
И даже призывали к таким странным видам бережливости:
Лучших сосок не было и нет – готов сосать до старых лет.
Рекламные лозунги для Родченко сочинял главный поэт русского модернизма Владимир Маяковский, у них даже была единая подпись: «Реклам-конструктор Маяковский – Родченко». Эти двое – ярчайший художник и ярчайший поэт своего времени – занимались рекламой государственной продукции в то самое время, когда Т. С. Элиот впадал в депрессию из-за необходимости работать в банке, и это много говорит о духе конструктивизма, целью которого было разработать все возможные способы обращения к товарищам, а не искать себе место на иерархической лестнице искусства.

Александр Родченко. Рекламный плакат «Трехгорное пиво». 1923. Музей современного искусства, Оксфорд
Лучшей художественной техникой для достижения этой цели была, конечно же, фотография. Родченко видел в ней выражение социализма: быстрая и дешевая в изготовлении, достоверная, ее можно бесконечно воспроизводить, копировать, распространять. Именно фотографии, настаивал Родченко, станут для будущего настоящими памятниками:
Скажите честно, что нужно, чтобы осталось о Ленине:
художественная бронза,
масляные портреты,
офорты,
акварели,
дневник его секретаря, воспоминания друзей —
или
папка фотографий, снятых во время работы и отдыха,
архив его книг, блокноты, записные книжки, стенограммы,
киносъемки, граммофонная запись?
Я думаю, выбора нет.
Искусству нет места в современной жизни… Вести борьбу против искусства как опиума должен каждый современный культурный человек.
Не лгите!
Снимайте и снимайтесь!
Догадка об огромном потенциале фотографии как инструмента памяти была пророческой и верной. Однако только в конструктивистском контексте фактографическая сила документа превосходила идеализирующую силу «художественного» портрета. Родченко отвергал последний, поскольку считал его «синтетическим» – сочетанием приблизительностей, ложным единством обобщений. Предпочтительной ему представлялась достоверность отдельного, ни с чем не связанного факта, отдельного момента как он есть. В деле создания иллюзии фотоаппарат не мог тягаться с кинокамерой, однако разрезанные и по-новому собранные фотографии вполне могли соперничать с фильмами – отсюда фотомонтажи Родченко, оказавшие влияние на творчество его друга, режиссера-документалиста Дзиги Вертова, и, в свою очередь, сами испытавшие влияние его фильмов.
Насколько сильно работа этих художников способствовала созданию нового сознания в Советской России? Точно сказать невозможно – настолько тщательно заметены все следы. Судя по внешним признакам, их творчество не произвело на пролетариат особенно глубокого воздействия. Слишком оно было ново и слишком рано подверглось репрессиям. Реализация больших проектов оказалась невозможной из-за нехватки средств; Ленин был бы безумцем, если бы стал выделять государственные средства на строительство грандиозных монументальных проектов – при всем их пропагандистско-просветительском потенциале. Его отношение хорошо видно в словах, сказанных Луначарскому: «Пусть в это трудное и голодное время экспериментальные театры продержатся на известном энтузиазме. Совершенно необходимо приложить все усилия, чтобы не упали столпы нашей культуры». Монтажи Родченко были сложнейшими аллюзиями на иконопись, однако вряд ли полуграмотный слесарь из Магнитогорска или черноморский рыболов были способны распознать эти аллюзии – не говоря уже о том, чтобы оценить их. Новое искусство стало утрачивать поддержку государства задолго до смерти Ленина; после нее Сталин объявил государственным преступлением все, что хоть на йоту отступало от канонов массового искусства. Конструктивисты были для него буржуазными формалистами – островками свободного воображения на океанской глади его новой России. Кого-то репрессировали, остальных лишили работы; так государственное искусство в СССР вернулось к своей традиционной задаче – обслуживать нарциссизм власти.
Однако взаимодействие авангарда с европейскими тоталитарными режимами на этом отнюдь не закончилось. Нам нравится думать, что модернизм по самой природе своей является левым или как минимум глубоко либеральным. Однако думать так – значит сбрасывать со счетов футуризм, ставший фирменным стилем итальянского фашизма после муссолиниевского Марша на Рим. Именно Маринетти определил для Муссолини основные черты стиля: культ новизны, молодости и силы, женоненавистничество и милитаризм, а также объединяющий все эти общественные добродетели и хорошо знакомый нам миф динамизма. Художники-футуристы с радостью потворствовали стремлению дуче к увековечению самого себя, и какое-то время казалось, что в борьбе за статус главного клише передового итальянского искусства на венецианских биеннале муссолиниевский подбородок одержит-таки верх над кубистической гитарой. С точки зрения фашизма привлекательность нового искусства была именно в его новизне – оно предвещало новую эру в культуре так же, как фашизм обещал ее в политике. В 1932 году, в десятую годовщину своего прихода к власти, Муссолини учредил в Риме культурную ярмарку в честь фашистской революции. Его архитектор украсил Выставочный дворец у подножья холма Пинчо возле Муро Торто фасадом из черного металла в стиле механо-деко с огромными фасциями и топорами. Все залы были заполнены дидактическими материалами, перемежающимися изредка фресками и скульптурами. В каталоге совершенно в футуристском духе утверждалось, что цель выставки —
ухватить атмосферу времени, его лихорадочный жар, буйство, лирику, блеск. Эту цель можно достичь только в пространстве, которое стилистически соответствует художественным дерзаниям нашего времени, в самой современной среде. Художники получили от дуче короткий и ясный приказ: сделать что-то современное, дерзкое. И они не ослушались своего командира.
Если не обращать внимания на политические ярлыки, разница между Выставкой фашистской революции и русским агитпропом невелика. В них используются совершенно идентичные техники: бомбардировка лозунгами вперемешку с визуальными материалами, монтажи и коллажи, кубистские и футуристские формы, кинопроекции. Своего рода предсказанием минималистического искусства был Зал павших героев с черной плитой, вздымающейся в центре, и изогнутыми черными стенами, испещренными уставной фразой фашистской армии для торжественных церемоний: presente, presente, presente.

Выставка фашистской революции, Рим. 1933
Лучше других подобные спектакли самоуверенного, брутального модернизма описал немецкий эссеист Вальтер Беньямин, ставивший знак равенства между фашистским культом и любовью Маринетти к «металлизации человеческого тела» и «огненным орхидеям митральез». «Все усилия по эстетизации политики достигают высшей степени в одной точке, – отмечал Беньямин. – И этой точкой является война. „Fiat ars – pereat mundus“[31]31
«Пусть погибнет мир, но торжествует искусство». Выражение В. Беньямина, основанное на латинской фразе «Fiat justitia – pereat mundus» («Пусть погибнет мир, но торжествует правосудие»). – Примеч. ред.
[Закрыть], – провозглашает фашизм и ожидает художественного удовлетворения преобразованных техникой чувств восприятия, как это открывает Маринетти, от войны. Это очевидное доведение принципа I’art pour I’art до его логического завершения»[32]32
Цит. по: Беньямин В. Краткая история фотографии / Пер. с нем. С. Ромашко // Беньямин В. Судьба и характер. СПб.: Азбука, 2019. С. 327, 329.
[Закрыть]. Размах тоталитарной эстетики окончательно проявится только на Берлинской олимпиаде 1936 года и нюрнбергских съездах, которые соединили два культурных элемента, одинаково важные в России, Германии и Италии и при этом никак не связанные с живописью, – кино и культ тренированного тела. Идея, что фашизм всегда предпочитал ретроградное искусство авангардному, – чистейший миф. Несколько художников и архитекторов, составивших славу Выставки фашистской революции в 1932-м, позже стали важными фигурами итальянского модернизма. В частности, известный своими скульптурами лошадей и наездников Марино Марини выставил там травертиновую фигуру «Вооруженная Италия», а Энрико Прамполини был автором стенной росписи с изображением чернорубашечников, топчущих коммунистические красные флаги во время фашистского восстания 1919 года, – она была написана в манере, сильно напоминающей работы Фернана Леже.

Энрико Прамполини. Чернорубашечники Муссолини 15 апреля 1919 года. 1933. Стенная роспись для Выставки фашистской революции
Единственная мораль из всего этого – помимо банального факта, что художники работают на того, кто им платит, – в том, что модернизм был свободен от ценностей и поэтому мог обслуживать любые идеологические интересы. То же самое относится к столь любимому диктаторами неоклассицизму, этому придворному стилю Гитлера и Сталина. Разумеется, оба были уверены, что их вариант дорического свадебного торта лучше. Альберт Шпеер, архитектор Гитлера и впоследствии министр вооружений и боеприпасов, писал, что «русская архитектура была сырой. Наша была утонченной, а их была сырой».

Марино Марини. Вооруженная Италия. 1933. Скульптура для Выставки фашистской революции
То, что Шпеер проектировал для Гитлера в 30-е годы, мало походит на модернизм, общим является лишь время создания – XX век и тот факт, что Гитлер разделял фундаментальную веру веймарского авангарда в уникальную способность архитектуры обслуживать идеологические интересы. (Подробнее см.: «Глава IV. Неприятности в Утопии.) Если бы проекты Шпеера были реализованы, они стали бы самыми грандиозными государственными строениями со времен пирамид, – кстати, некоторые из них были бы куда больше монумента Хеопса. В 1925 году нищий и никому не известный Гитлер уже делал наброски огромных куполов и арок для новой столицы мира – Берлина. С помощью крупнейших немецких инженерных компаний Siemens и AEG Шпеер был готов воплотить их в жизнь; ему помешала Вторая мировая война. Зал народа, вмещающий 130 тысяч членов нацистской партии и предназначавшийся для церемоний, объявлений войны и мира и т. п., должен был иметь 250 метров в высоту, а диаметр его мощного купола в семь раз превосходить микеланджеловский купол собора Святого Петра. Он был бы таким огромным, что под потолком образовывались бы тучи от теплого дыхания и пота присутствующих. Однако размер купола создает серьезные проблемы особого рода. Как вспоминает Шпеер, «в таком огромном здании самый важный человек, тот, для кого это все построено, становится незаметным. Его просто не видно. Я пытался решить эту проблему, но ничего не получалось. Я хотел повесить за Гитлером огромного орла со свастикой, чтобы показать: вон он здесь, – но увидеть его в этом громадном пространстве было бы невозможно». Зал народа стал знаком того, что в массовом государстве архитектура неизбежно уступает средствам массовой информации. Нацистам не удалось раздуть агору до размеров тысячелетнего рейха и привести всех к своему фюреру. Более эффективным решением было бы поместить лидера в каждый дом посредством телевизора, но это произойдет только через четверть века.

Альберт Шпеер. Модель «Зала народа»
Шпеер знал, что власти нужна архитектура регулярная, как ритм кованых сапог по бетону. Ее цель – скреплять единство, а не выражать чувства. На Нюрнбергском стадионе отдельный зритель превращался в ничто. Вот как об этом пишет сам Шпеер:
В мои задачи не входило дать что-то почувствовать каждому зрителю. Я только хотел, чтобы те, кто находится в здании, были поражены его величием. Я читал у Гёте в «Итальянском путешествии», что, когда он увидел амфитеатр в Вероне, он сказал себе: если собрать в этом месте думающих по-разному людей, они станут думать одинаково. Именно этого я хотел достичь, проектируя этот стадион; мысли конкретного человека не имеют значения.
Нюрнбергский стадион в плане похож на подкову, как и небольшой римский амфитеатр в Вероне, однако вмещать он должен был 450 тысяч человек. Его так и не построили. Вообще, из всех проектов, предложенных Шпеером Гитлеру, – куполов, арок, дворцов, стадионов, гробниц – до наших дней дошел только один – развалины трибуны Гитлера на поле Цеппелина в Нюрнберге. Если Зал народа был нацистской противоположностью башни Татлина, то эта трибуна была антиподом ленинской трибуне Лисицкого. Масса против решетки; центрирование против распыленности; громоздкая, сокрушительная симметрия против живых ритмов асимметрии; камень и бронза против железа и стекла; мощные опоры против рассредоточения нагрузки. Центральная трибуна стадиона оказалась вдвое длиннее терм Каракаллы, она должна была стать каменным свидетелем начала Третьего рейха и конца истории. Так и вышло – хотя другим образом, нежели ожидал Шпеер.

Альберт Шпеер. Империя света. Рисунок

Трибуна Гитлера на стадионе в Нюрнберге. 1937

Альберт Шпеер. Эскиз трибуны Нюрнбергского стадиона
Сегодня остались только руины. Колоннаду и орла расстреляли из пушек в конце войны. Стоят только ступени из потрескавшегося известняка, через трещины в котором пробивается трава. «Какое счастье, что я больше не работаю на Гитлера, – он бы взбесился из-за плохого качества камня», – шутит Шпеер. Но стадион остается ярким и пугающим свидетельством мощи лаконичных форм. Эпитафию его заказчику написал У. Х. Оден – еще когда трибуна была цела:
Совершенство – или что-то вроде – вот к чему он стремился.
Его поэзия была понятна всем.
Он знал людей как свои пять пальцев,
А потому особо заботился об армиях и флотах.
Когда он смеялся, хохотом взрывался почтенный сенат.
Когда плакал – на улицах умирали дети[33]33
Перевод с английского Е. Воскресенского.
[Закрыть].
Именно под влиянием Шпеера Муссолини в конце 30-х переключился с модернизма на классическую государственническую архитектуру и даже построил под Римом новый итальянский Форум, украшенный обнаженными атлетами и псевдоантичной мозаикой Прамполини. Метафорой этих предприятий была, разумеется, преемственность – настоящее, покоящееся на фундаменте прошлого. Гитлеру нравились развалины Рима, и он, как и всякий тиран, хотел превзойти их; Муссолини же этими развалинами владел и поручил своим архитекторам использовать это. История знает Рим цезарей, Рим пап, теперь же будет Terza Roma, Рим фашизма – между собором Святого Петра и устьем Тибра. Муссолини рассчитывал закончить строительство к 1942 году – ко Всемирной выставке Рима. Последним росчерком должна была стать Триумфальная арка – взмывающий вверх эллипс из армированного бетона. В итоге ее построили не из бетона и не в Риме: стальная конструкция Ээро Сааринена «Врата на запад» стоит в Сент-Луисе, штат Миссури.
Когда Гитлер в 30-е годы впервые приехал в Рим с государственным визитом, Муссолини пришлось поставить на последних километрах железной дороги возле вокзала Термини декорации жилых домов. Тысячи итальянцев стояли на лесах за картонными фасадами, приветствуя фюрера из «окон». Тогда по этому поводу родился сатирический куплет:
Roma di travertine
Rifatta di cartone
Saluta l’imbianchino,
Il suo prossime padrone
(Мраморный Рим перестроен в картонный,
Салют маляру – он нам станет патроном.)

Дворец итальянской цивилизации в Риме. 1939
Квартал Всемирной выставки (EUR) – так называется муссолиниевский Третий Рим – и есть Рим картонный: неоклассицизм, украшенный формочками для печенья. Сносить его не пришлось, потому что он находится слишком далеко от центра, чтобы мешаться своим назойливым символизмом. Формально он похож на творения Шпеера, но без гигантизма: авторитарная архитектура должна быть ясной и регулярной снаружи, а главное – чтобы прохожий ни за что не догадался, что происходит внутри. Она должна быть бесстрастной вплоть до полной неподвижности – чтобы маска не соскочила. Лучше всего из сохранившихся фашистских зданий это иллюстрирует Дворец итальянской цивилизации. Спустя двадцать пять лет хоть одно похожее здание можно найти в большинстве кампусов американских университетов, особенно в Южной Калифорнии. Как будто в результате осмоса этот стиль стал стандартом для культурных центров и других зданий, символизирующих гражданское благородство; основные компоненты государственнической архитектуры, какой ее видели декораторы тоталитаризма, в 50-е пересекли Атлантику и стали лицом архитектуры демократической. Грандиозный проект оказался низведенным до исторической реконструкции, лишенной оригинальных функций; это не ностальгия, а скорее пародия – разумеется, неумышленная. Примеров множество: от нью-йоркского Линкольн-центра, безвкусного жалкого подобия Кампидольо[34]34
Итальянское название Капитолийского холма.
[Закрыть], до смертельно скучного Кеннеди-центра для исполнительских искусств в Вашингтоне, не говоря уж о беззастенчивом Mussolinismo мемориальной библиотеки Линдона Джонсона в Техасе. В 50-х и 60-х этот государственнический стиль стал интернациональным, как ар-деко в 30-е: безразмерный, непонятный, с необузданными метафорами.

Мемориальная библиотека Линдона Джонсона в Остине, штат Техас

Правительственный комплекс в Олбани, Нью-Йорк
А его по-настоящему страшный образец – это правительственный комплекс в Олбани, столице штата Нью-Йорк. Этот продукт деятельности губернатора Нельсона Рокфеллера отличается римской брутальностью и более чем римским масштабом; эта каменная коробка еще ужаснее правительственного комплекса в столице Бразилии (см. главу IV), если такое вообще возможно. У этого строения только одна задача, с которой оно, впрочем, блестяще справляется, – выразить идею централизованной власти. Трудно представить, чтобы хоть один человек, проходя мимо этих мрачных зданий – настолько гигантских, что даже мраморная отделка, теряясь в масштабе, воспринимается как пластиковый сайдинг, – ощущал малейшую связь с бюрократической деятельностью, происходящей за их стенами. По сравнению с ними проекты Альберта Шпеера – само изящество. Смысл такой архитектуры чрезвычайно прост, двусмысленности здесь не место. Все прелести минимализма налицо. Эти камни выражают не разницу между американской свободой предпринимательства и, например, русским социализмом, а сходство между корпоративным и бюрократическим состоянием ума, независимо от страны или идеологии. На любое здание правительственного квартала в Олбани можно повесить хоть орла, хоть свастику, хоть серп и молот – они будут там одинаково уместны. Если посмотреть, что реально построил модернизм (не обращая внимания на то, что при этом говорилось), можно увидеть присущий ему язык политической власти. Он не связан ни с какой конкретной идеологией. Он свободен от ценностей и может значить все, что пожелает заказчик. По сути, это архитектура принуждения. Единственное, чего нам не может дать государственническая архитектура XX века, – это образа свободы воли.