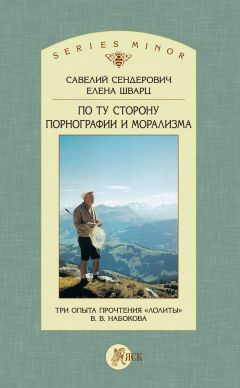
Автор книги: Савелий Сендерович
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Савелий Яковлевич Сендерович, Елена Михайловна Шварц
По ту сторону порнографии и морализма: Три опыта прочтения «Лолиты» В. В. Набокова
© Сендерович С. Я., Шварц Е. М., текст, 2021
© Издательский Дом ЯСК, 2021
Введение
Романы Владимира Набокова принадлежат числу сложнейших текстов европейской художественной литературы. Такие тексты нет смысла рассматривать в какой-либо одной концептуальной плоскости. В различных контекстах, в оптических фокусах разной разрешающей силы и их множественных интертекстуальных планах неуместно искать единое логически правильное поле. Напрашиваются сравнения стиля Набокова-романиста с многогранным драгоценным камнем (The Prismatic Bezel – название первого романа Себастьяна Найта) или фасеточным глазом насекомого, отражающим мир под множеством углов. Но такие метафоры вносят упрощение: фасеты набоковских художественных миров требуют – каждый – своего подхода, особой исследовательской методологии.
На этих страницах собраны три опыта чтения романа «Лолита» (1956) (в обеих его версиях – оригинальной английской и авторском переводе на русский язык) под тремя различными углами зрения.
Первый опыт посвящен пронизывающему роман полемическому диалогу Набокова с концепциями Вяч. И. Иванова, поэта, теоретика, русского ницшеанца, основоположника эстетической, в сущности театральной, концепции русского Серебряного века. Ориентация эта необычна, так как включает обыгрывание самой человеческой фигуры Иванова, как она обозначилась на культурном горизонте, в контексте литературного быта.
Второй опыт рассматривает пробегающие в романе тени мотивов Александра Блока. Не тех мотивов, что можно было бы ожидать обращаясь к влиятельному поэту. Набоков писал Эдмунду Уилсону в 1943 году: «Блок <…> – один из тех поэтов, что становятся частью вашего существа, и все становится неблоковским и плоским. Я, как и большинство русских, прошел через эту стадию примерно двадцать пять лет тому» (NWL: 94). Мы обращаемся к мотивам из не художественных текстов Блока – из его статей о литературе. В самом американском романе Набокова обнаруживается довольно эзотерическая русская территория, в которую он вписан, на которой он ориентирован.
В третьем опыте нами подняты вопросы этики и эстетики Набокова, рассмотрены их удивительные течения и повороты в их своеобразном, проблемном взаимном пересечении и переплетении.
Все три опыта чтения романа, будучи независимы друг от друга, имеют общий контекст, разработанный нами за последние 25 лет в полусотне статей: представление о том, что всё творчество Набокова преломляет мир сквозь призму художественного и философского мышления Серебряного века русской культуры. Но Набоков не остается в его рамках, а, обыгрывая, переигрывает его насвежо, спорит с ним, принимает его как ткацкую основу, по которой расшивает собственные вúдения и узоры мысли. Интертекстуальные исследования получили большое распространение с середины ХХ в., но они как правило сводятся к частным текстуальным перекличкам; мы же заняты выявлением обширных контекстов, которые задают набоковским текстам уникальные резонантные пространства. Их распознание актуализует особые звучания набоковских текстов. Как нельзя читать Толстого, не познакомившись с социальным контекстом России ХIХ века, так Набоков останется непрочитанным без контекста культуры Серебряного века.
Первые версии включенных в эту книжку эссе опубликованы в следующих изданиях:
«Закулисный гром») // Wiener slawistischer Almanach, № 44, 1999, сс. 23–47.
«Лолита. По ту сторону порнографии и морализма») // Литературное обозрение, № 2, 1999, сс. 63–71. (Idem: Старое литературное обозрение, № 1, 2001, сс. 67-7.)
«Lolita the Butterfly» // Nabokov Studies, № 17, 2020 (в печати).
Закулисный гром:
О замысле «Лолиты» и о Вячеславе Иванове
Закулисный Иванов
В письме подруги Лолиты, Моны Даль, описывающем школьный спектакль с роковым для Гумберта Гумберта названием «Зачарованные охотники», в котором она играла, упоминается между прочим следующее обстоятельство: «… невероятная гроза на дворе несколько заглушила наш скромный “гром за сценой”» (ССАП: 2.
273; в дальнейшем в ссылках на «Лолиту» в этом издании указываем только страницы). На этой, казалось бы, проходной фразе следует остановиться; дело в том, что в словаре Набокова гром за сценой или закулисный гром – не единичное и значит не случайное выражение, это мотив. Набоков его употребил в «Других берегах», характеризуя обстановку последних лет старой России: «И уже погромыхивал закулисный гром в стихах Александра Блока» (ССРП: 5. 284. Здесь и далее подчеркивания наши. – С.С., Е.Ш.). В этой фразе, помимо намека на «Балаганчик» и на революционные тенденции поэта, слышен отзвук слов, сказанных Александром Блоком Андрею Белому о Вячеславе Иванове (о его статье «Мысли о символизме» (1912): «Над печальными людьми, над печальной Россией в лохмотьях он с приятностью громыхнул жестяным листом» (письмо от 16 апреля 1912 // Блок 1960: 8. 387). «Закулисный гром», упомянутый в «Других берегах» и «гром за сценой» в «Лолите» – это гром, производимый в театре с помощью жестяного листа. Этот образ у Блока выражает желание отделить свое острое трагическое восприятие судеб России от «театральной трагедийности Иванова». Является ли «гром за сценой» в «Лолите» целенаправленной аллюзией или ассоциативной реминисценцией, так или иначе этот мотив служит нам эмблемой связи Блока и Иванова в набоковском восприятии. За отчетливой фигурой Блока в текстах Набокова, как это и было в реальном ландшафте культуры эпохи, то и дело выглядывает фигура другого корифея символизма, Вячеслава Ивановича Иванова. Закулисный гром Иванова, подхваченный Блоком, – это его теория происхождения трагедии из дионисийского культа, в котором «пафос боговмещения, полярности живых сил разрешаются в освободительных грозах» («Ницше и Дионис», 1904; цит; по: Иванов 1909: 8). Теории Иванова воспринимались одними современниками как пророчества о той «невероятной грозе на дворе» русской истории, которая их заглушила, другими же, – как пророчества шутовские, балаганные (см. Д. Мережковский, «Балаган и трагедия», 1910), а слова Блока были ироническим признанием того и другого. Но подлинная ценность скромного закулисного грома в «Лолите» заключалась в том, что это был символ, принадлежащий контексту мыслей о современной театральной культуре. Прозвучали они не со сцены, а в теоретических кулисах театральной культуры Серебряного века.
Набоков никогда не упоминал Вяч. Иванова прямо по имени, но мы намерены показать, что тексты Набокова пронизаны диалогом с ним. Этого можно было ожидать: Набоков был продуктом петербургского Серебряного века, Символизма в первую очередь. Иванов же был ведущим теоретиком младшего Символизма, а его знаменитая «башня» – важнейшим центром литературной жизни в период 1905–1912 годов. Объяснение, разумеется, находится на более глубоком уровне, но и эти внешние знаки ведут нас в нужном направлении. То, что Набоков, имея в виду Иванова, не называет его по имени, подразумевает особую значимость: прятать наиболее важное – таков обычай Набокова.
Что касается «Лолиты», то диалог с А. Блоком составляет канву, или контурную карту, той территории, на которой роман концептуально развернут. В неменьшей степени «Лолита» связана с Вяч. Ивановым; в первую очередь с ним связан самый замысел романа. Блок – эолова арфа эпохи, но не мыслитель, считал своим долгом высказываться по вопросам мировоззрения и философии искусства. В этом он был главным образом последователем Вяч. Иванова. Ивановский закулисный гром погромыхивал в его стихах. Свою программную статью «О современном состоянии русского символизма», на которую Набоков отозвался в «Лолите», Блок назвал «бедекером по Иванову» (Блок 1960: 5. 426).
В качестве теоретика символизма Иванов сильно отличался от Блока. Если Блок вещал в визионерских образах и в тонах откровения, то символизм Иванова был рассудочно-философским и все же не абстрактно измышленным, а состоявшим в интерпретации символов, находимых готовыми в истории культуры. Его книжный мистицизм черпал убедительность в психологии творчества. Ивановский теоретический символизм имел собирательный характер, он сводил воедино разнородные элементы культуры, он опирался на аналитическую и интегративную работу структурального и систематического типа. Иванов выступил в роли кодификатора истории европейской культурной традиции с точки зрения нового Символизма. Его усилиями внедрилась пожалуй самая известная символистическая формула: a realibus ad realiora, от действительности к высшей действительности, под которой подписался практически каждый из младших символистов. Блок нашел в ней формулу синтеза диалектической квази-истории символизма, и развернул ее в статье «О современном состоянии русского Символизма».
В более точном смысле, той территорией, которую Блок прокомментировал в своем бедекере по Иванову, был доклад Вяч. Иванова в московском Обществе Свободной Эстетики и в петербургском Обществе Ревнителей Художественного Слова, который он затем оформил в статье «Заветы символизма», опубликованной в журнале «Аполлон» за май-июнь 1910 г. вместе с путеводительным докладом Блока в том же петербургском Обществе.
Статья «Заветы символизма» претендует на роль Нового Завета Символизма, причем роль Ветхого Завета с ивановской позиции достается Символизму французскому. Формула Иванова a realibus ad realiora лежала в основе эстетики, метафизики, космологии, историософии и теологии нового Символизма. Она прежде всего обозначала мистическую установку сознания художника, проницающего мир, в котором за внешними ежедневными явлениями лежит мир высших сущностей. Отличительными признаками «чисто символического художества», по Иванову, является «гармонически найденное созвучие того, что искусство изображает как действительность внешнюю (realia), и того, что оно провидит во внешнем как внутреннюю и высшую действительность (realiora)» (Иванов 1916: 134). В этом смысле Иванов называет свой мистический Символизм – реалистическим, а французский, ограничивающийся проекциями внутреннего на внешний мир, – идеалистическим.
Иванов предлагает диалектическую картину истории современного Символизма (что и было подхвачено Блоком). Первым диалектическом моментом душевной истории художника, тезой, является осознание художником, что мир волшебен, «что есть ходы и прорывы в его тайну из лабиринта души человеческой» (там же: 136). Это оптимистический момент доверия миру, за которым, однако, наступает момент распада и религиозно-нравственного испытания и отчаяния, ведущего к неприятию сего мира. Это второй момент, антитеза. Если первый характеризуется теургической установкой художника, то второй – романтической ностальгией по прежним лучезарным видениям души. Если символизм этих двух моментов заключается в создании разрозненных и рассеянных символов, откуда происходит преобладание лирики, то третий момент, синтез, должен возникнуть в цельном и едином миросозерцании поэта. Тут возникнет теория большого стиля символической трагедии. У Иванова все сходится к теории трагедии и все из нее вытекает.
Путеводители Бедекера отмечали места, достойные посещения, звездочками. Блок, называя свою статью о Символизме «бедекером по Иванову», имел в виду очень конкретную подробность: он отмечает, как Бедекер звездочками, места наиболее ему близкие в статье Иванова. Сравнение с Бедекером было подсказано должно быть самим Ивановым – его излюбленным мотивом кормчих звезд.
Своеобразным бедекером романной символики предстает казалось бы необъяснимо растянутый перечень достопримечательностей, осмотренных Гумбертом и Лолитой в их первом путешествии по Америке. Внешне он напоминает так называемые эпические перечисления, которыми полна повествовательная литература от Гомера до Апдайка; Особый смысл им придавал Иванов, отметивший перечни от Гомера до Андре Жида («Две стихии в современном символизме» // Иванов 1909: 253): он видел в них магию, вызывающую в читателе сознание «реального бытия» – в смысле высшей реальности, которую он же называл realiora. Перечень достопримечательностей в «Лолите» имеет символический смысл в особом, набоковском значении, откликающемся на ивановский контекст.
Ежеутренней моей задачей в течение целого года странствий было изобретение какой-нибудь предстоящей ей приманки – определенной цели во времени и пространстве – которую она могла бы предвкушать, дабы дожить до ночи. <…> Поставленная цель могла быть чем угодно … <следует перечень – С.С. и Е.Ш.>, все равно чем, но эта цель должна была стоять перед нами, как неподвижная звезда… (187)
В следующей главе, продолжая список достопримечательностей, Гумберт упоминает парк Магнолий в южном штате, который они посетили, «потому что Бэдекер в 1900-ом году его отметил звездочкой» (191).
В нашем путеводителе по теме «Иванов и Набоков» мы отметили звездочкой «гром за сценой», или «закулисный гром».
Орхестры и фимелы
Самый заголовок упомянутой выше статьи Мережковского, «Балаган и трагедия», симптоматичен для культуры Серебряного века, который свел эти два понятия.[1]1
При этом Мережковский был решительно против смешения балагана с трагическим– новаторства символистов с социальной революцией.
[Закрыть] Культура эпохи была пронизана вагнерианской идеей синтеза искусств. Театр мыслился местом и условием этого синтеза. Это была эпоха новаторства в театре, эпоха появления особо эксцентрических форм театральности. Первой среди них по влиятельности была возрожденная commedia dell’arte. Как заметил Дуглас Клейтон, покрытая ромбами фигура арлекина стала иконой авангардистской революции (Клейтон 1994: 7). Русским Серебряным веком был оживлен легкий, светлый дух венецианской комедии масок 17-го столетия, воспринятой в музейной рамке старинного и потому высокого искусства, но гораздо распространеннее была ее балаганная разновидность – с тем особым русским оттенком слова балаган, который подразумевает стихию примитивную, неуправляемую, разрушительную, страшную (там же: 14), который звучит в выражении «да это же балаган». Эпоха была насыщена апокалиптическими настроениями, и поэтому не странно то, казалось бы, парадоксальное обстоятельство, что концептуальная экспансия балагана в художественной культуре вовлекла в свою сферу и трагическое и самое трагедию.
Русский Серебряный век в определенном смысле был и русским ницшеанством. В могущественном импульсе, заданном Фридрихом Ницше, гениальным автором «Рождения трагедии», видели – Иванов в первую очередь – залог всеобщего обновления (см. Иванов [1923]: 11). Концепцию этой книги раннего Ницше (1872) Иванов по-своему развивал в целом ряде работ, положив ее в основу своего представления о европейской культуре как органическом единстве, в рамках которого культура античного язычества – в той интерпретации, которую дал ей Ницше, – содержала в себе зерно христианства. Перекраивая теорию Ницше, Иванов стал мерить все явления культуры их отношением к дионисийскому культу. Ивановская концепция оказала сильнейшее влияние на русские авангардистские теории театра.
Поворотным событием в театральной жизни эпохи оказалась пьеса А.А. Блока «Балаганчик». Блок создал ее по настоянию Г.И. Чулкова, ближайшего сотрудника Вяч. Иванова, в русле нео-народнических намерений нести театр в массы (о собрании на ивановской «башне» по этому поводу 3 янв. 1906 г. см. Чулков 1921: 21; Блок 1960: 8.146). А Всеволод Мейерхольд, также находившийся под влиянием Иванова,[2]2
См. в книге Мейерхольда «О театре» (1913) главу «Условный театр», написанную в 1907 г.
[Закрыть] дал ей в своей постановке современное театральное воплощение и т. о. способствовал ее утверждению в качестве шедевра элитарной культуры.
Успех «Балаганчика» – вначале скандальный – был связан с тем, что та область, которая до сих пор казалась никак не совместимой с балаганом, – мир лирического поэта – предстала в виде балагана. Иванов «волил» возрождения трагедии, но к 20-му веку от первозданной сцены выжил лишь балаган. Блок, знавший и любивший городскую ярмарочную балаганную культуру, недолюбливал авангардный театр – его идеалом был театр К.С. Станиславского, против которого восстал Мейерхольд. Блок написал пьесу о страданиях поэта, принявшего роль в неподлинном мире, подобном балагану. Мейерхольд утвердил балаган как свой домен, как мир, подчиненный власти художника-режиссера. Он показал даже возможность замены актеров-людей – актерами-картонными-куклами, включив такую сцену в свою постановку «Балаганчика». Если Блок отождествлял себя с Пьеро, то Мейерхольд отождествлял себя с рукой пуппенмейстера, утаскивавшей Автора против его воли за кулисы. Мейерхольдовский спектакль был ослепителен, но его смысловой эффект был противоположен тому, которого хотел Блок.
Ивановское понимание театра как нерва культуры получило своеобразный отклик в идее театрократии Н.Н. Евреинова. Соперник Мейерхольда, Евреинов, сблизил тоталитаризм сцены с социальным тоталитаризмом («Самое главное», 1922). Он напомнил, что казнь в истории была публичным зрелищем («История телесных наказаний в России», 1913), а театр возник из представления казни и мучений и таковым остается поныне («Театр и эшафот», 1918).
Подчеркнем театральный контекст слов Блока об Иванове: «он с приятностью громыхнул жестяным листом», как и отклик Набокова на «закулисный гром» и «гром за сценой». Театральная культура находится в самом сердце Серебряного века. И Вяч. Иванов заложил её теоретический фундамент. Балаганная сторона этой культуры менее всего представлена у Иванова, но и он не остался в стороне. Занимаясь происхождением трагедии, он неоднократно указывал на то, что ее предшественником был дифирамб (песнь топора), из которого родилась и комедия:
…круговой дифирамбический хор распался на два вида, и развитие продолжалось в двух раздельных руслах. Хор в козлиных масках выработал “драму сатиров”, которая вобрала в свой состав все, что было в первоначальном дифирамбе неустроенного, импровизованного, разнузданного и резвого. Все же героическое, похоронно-торжественное и плачевно-поминальное, высокое и важное стало достоянием того дифирамба – музыкального диалога между хором и протагонистом-героем, – откуда вышла трагедия. (Иванов 1916: 245-6)
Замечательным знаком эпохи стало то, что в книге 1923 г. Иванов самый дифирамб анахронистически называет «commedia dell’arte козлов» (Иванов [1923]: 235), имея в виду именно все, что было в нем «неустроенного, импровизованного, разнузданного и резвого», то есть по существу то, к чему подходит название балагана.
Эта траектория, связывающая Иванова, Блока, Мейерхольда и Евреинова, была в фокусе набоковского преломления феномена театральной культуры Серебряного века. Набоков, принимая концепцию мира как балагана и значительно углубив ее, создал свой балаган – не для масс: это театр одного зрителя.[3]3
«Как читатель я умею размножаться бесконечно и легко могу набить огромный отзывчивый зал своими двойниками, представителями, статистами и теми наемными господами, которые, ни секунды не колеблясь, выходят на сцену из разных рядов, как только волшебник предлагает публике убедиться в отсутствии обмана» («Лолита. Постскриптум к русскому изданию» // 389). Театр одного зрителя создает особого рода затруднение для интерпретатора: необходимость обращаться к значениям, не предназначенным для «нормального» читателя.
[Закрыть] Пуппенмейстер растворен в этом зрителе, и акт становится визионерским. В нем все неявно. Между тем, это основополагающий феноменальный план набоковского мира, мира художника. Набоков индивидуалист. Поэтому более всего ему претит ивановская соборная, коммунальная (если угодно, коммунистическая) утопия, связанная с его теорией трагедии. Иванов жаждал возрождения хоровой культуры, из которой вышла трагедия. В его «мистическом анархизме» она сливалась со славянофильскими идеалами и общинными идеалами народничества. Он мечтал о том, чтобы земля покрылась «орхестрами и фимелами», то есть местами, устроенными для хоров и хорегов («О веселом ремесле и умном веселии» // Иванов 1909: 246). Андрей Белый уже в 1907 г. насмехался над мистическим анархизмом Вяч. Иванова и Георгия Чулкова, а в 1917 г. бросил по поводу новой власти советов: «Это ваши орхестры, Вячеслав» (via Пайман 1998: 315).
Индивидуальный балаган смерти выстроен Набоковым vis-а-vis коммунальных орхестр и фимел Иванова;[4]4
Евреинов придавал особое значение тому, что место хорега, фимела, было первоначально жертвенником в честь Диониса (Евреинов 1996: 22); Мы не знаем, познакомил ли при встрече в Париже Евреинов Набокова с текстом «Театра и эшафота», но весьма вероятно, что он познакомил его со своей идеей.
[Закрыть] в персоналистическом мире Набокова орхестры и фимелы – это места казни (см. Сендерович и Шварц 1997).
Находясь на сцене трагического балагана собственной жизни, неудачливый пуппенмейстер Гумберт Гумберт протестует против театра – со ссылкой на его происхождение: «Я не терплю театра, вижу в нем, в исторической перспективе, примитивную и подгнившую форму искусства, которая отзывает образами каменного века и всякой коммунальной чепухой» (246). Здесь очевидна полемика с Ивановым, хотя бы и в шутовском тоне (подробно о балаганах Гумберта Гумберта см. следующий очерк).
Теорема Иванова
Иванов заметил, что Эсхил более всех нуждался в театральных машинах, потому что у него преобладает «логика стихий, механика слепых страстей» (Иванов 1916: 238). Гумберт знает, какую роль в его судьбе играет «всесильная machina telephonica» (253) – прямая противоположность благодетельного dei ex machina Эсхила. Для него это громовые раскаты судьбы, знак «Incipit Tragoedia». Трагедия рождается для Гумберта из телефонного сообщения о том, что Лолита пропускает уроки музыки. Объяснение с Лолитой по этому поводу заканчивается разразившейся грозой и признанием Гумберта об особенности его эротической жизни: «Физиологам, кстати, может быть небезынтересно узнать, что у меня есть способность – весьма, думается мне, необыкновенная – лить потоки слез во все продолжение другой бури» (255). Дионисийские грозы, по Иванову, предполагают «разнуздание половых страстей» (Иванов 1909: 10). Начало второго путешествия Гумберта и Лолиты проходит под знаком гроз. «Ближайшие дни были отмечены рядом сильных гроз – или, может быть, одна и та же гроза продвигалась через всю страну грузными лягушечьими скачками…». Это дионисийская гроза, сопровождающая, подобно лягушкам Аристофана, спутников Диониса прямо в Аид. Замечательно продолжение этой фразы: «…и мы так же неспособны были её отряхнуть, как сыщика Траппа». И через несколько строк: «… до чего я неверно истолковал указания рока! <…> и во всяком случае даже сумасшедший вряд ли был бы так глуп, чтобы предположить, что какой-то Гумберт Второй жадно гонится за Гумбертом Первым и его нимфеткой под аккомпанемент зевесовых потешных огней» (266). И если грозы, рок и зевесовы молнии недостаточны для осознания «Incipit Tragoedia», то грозовой эпизод включает еще и ночное явление Гумберту человека в маске (267); «личина Чина» – играет словами повествователь, но сыщик Чин из комиксов 1931 года анахронически привлечен к событиям 1949 года ради повода упомянуть личину, атрибут как античного театра, так и commedia dell’arte.
В первой своей статье на интересующую нас тему, «Ницше и Дионис», Вяч. Иванов провозгласил, что Фридрих Ницше «возвратил жизни ее трагического бога…” «Incipit Tragoedia» («Весы» 1904, № 5; цит; по Иванов 1909: 4), но при этом только под конец жизни прозрел в Дионисе страдающего бога; и Иванов с восторгом цитирует подпись под письмом уже безумного философа: «Распятый Дионис». Дионисийство как пра-христианство – это основная линия, руководствуясь которой Иванов исправляет Ницше. Признавая вслед за Ницше, что трагедия должна быть понята как напряжение двух начал, аполлонического и дионисийского, Иванов упрекает немецкого философа в том, что он увлекся Аполлоном и пРенэбрег Дионисом, – упрек символический, означающий, что Ницше видел в трагедии и ее почве, дионисийстве, эстетическое явление, а не религиозное. Религиозное же, по Иванову, это то, что соединяет творческое лицедейство с самой жизнью.
«Искусство станет лицедейством жизни», – скажет Вяч. Иванов позднее в статье «О существе трагедии» («Труды и Дни издательства Мусагет», 1912, № 6; цит; по Иванов 1916: 239). В ней заново изложена и углублена ивановская концепция трагедии в связи с ее происхождением. Статья эта дает ключ к пониманию концептуально-жанрового замысла «Лолиты». Трагедия, согласно Иванову, по своей природе, своему происхождению и имени есть искусство дионисово, простое видоизменение дионисийского религиозного обряда (там же: 237).
При этом Иванов говорит о «теоретически построяемом искусстве» трагедии (там же: 239). То есть его собственный modus operandi – начало аполлоническое, проясняющее, упорядочивающее, задающее единство. И в истории трагедии он видит усиление аполлонического начала. «Чем сознательнее будет протекать воссоздаваемая этим искусством [трагедии] жизнь, тем больше места будет занимать в ее воспроизведении элемент логический. Чем настойчивее эпоха будет требовать от художества сознательности, тем определеннее это искусство будет тяготеть к теореме» (там же: 238). Итак, рационализация культуры ведет искусство трагедии к теореме, понимаемой как теоретическое высказывание, и сам Иванов может восстановить приоритет темного дионисийского начала в искусстве лишь обращаясь к теории.
Это парадоксально звучащее положение чрезвычайно важно для понимания искусства Набокова. Художник в исключительно высокой степени сознательный, даже церебральный, он, так же, как Иванов, стремился к выражению в искусстве глубинного, темного, что можно обозначить понятием дионисийского, но делал это аполлонически. Эту парадоксальную задачу в определенном отношении помогал ему решать Вяч. Иванов. Мы рискнем сказать, что в основе «Лолиты» лежит теорема, и теорема эта ивановская: высказывание Вяч. Иванова о трагедии – хотя бы и взятое в полемическом ключе.
В главе 19-ой Второй части романа Гумберт вскрывает уже цитированное нами письмо Моны Даль к Лолите и читает ее рассказ о том, как прошла постановка пьесы «Зачарованные охотники», в которой увезенная Гумбертом Лолита должна была играть роль Дианы. Мона, игравшая роль Поэта, замечает:
“Как и ожидалось, Бедный Поэт сбился в третьей сцене, в том месте, где я всегда спотыкалась, – на этих глупых стихах. Помнишь?
Пусть скажет озеро любовнику Химены,
Что предпочесть: тоску иль тишь и гладь измены.
Я тут подчеркнула спотычки.” (274)
То, что Гумберт не сумел прочитать намек, тем более замечательно, что он сам прокомментировал подобный прием несколько ранее:
Теперь хочу убедительно попросить читателя не издеваться надо мной и над помутнением моего разума. И ему и мне очень легко задним числом расшифровать сбывшуюся судьбу; но пока она складывается, никакая судьба, поверьте мне, не схожа с теми честными детективными романчиками, при чтении коих требуется всего лишь не пропустить тот или иной путеводный намек. В юности мне даже попался французский рассказ этого рода, в котором наводящие мелочи были напечатаны курсивом. Но не так действует Мак-Фатум – даже если и распознаешь с испугом некоторые темные намеки и знаки. (259)
Когда это предупреждение сбывается буквально при чтении письма Моны Даль (в английской версии романа эти – в правилах поэтики Буало – александрийские стихи даже и написаны по-французски), то читатель в состоянии оценить насмешку над Гумбертом: он видит имя Куильти в подчеркнутом Моной месте. Но не так действует Мак-Фатум, псевдоним греческой Ананке. За этой игрой скрыта классическая концепция греческой трагедии: герой, как и зритель, знает пророчество, но он не знает, что действие трагедии уже началось, и остается слеп к событиям, в которые уже вовлечен. В этом все дело: балаган, в котором «комедийный папаша Профессор Гумбертольди» (299), принимает участие, – это трагический балаган, и представление, как в трагедии, кончается смертью героя. Напомним, что в этом письме Моны Даль появляется фраза о «громе за сценой» – знак «дионисийской грозы» в трагедии по Иванову и знак присутствия самого Вяч. Иванова по Блоку. Наконец, Псевдо-Корнель дурашливого александрийского двустишия про Химену – тоже не случайность, а отсылка к той рационалистической культуре французского театра 17-го века, о которой упоминает Иванов в качестве примера искусства трагедии, тяготеющего к теореме (Иванов 1916: 238). Само имя МОНА ДАль заключает в себе слово МОНАДА – ивановский символ аполлонического единства и теоретической ясности в истории трагедии. Словом, письмо Моны Даль – это далеко идущий текст, 25-ая глава Второй части «Лолиты» начинается странным для такой продвинутой стадии романа утверждением: «Это книга – о Лолите» (311). Понять это можно не как сообщение, а как обращение к рефлексии, к теории, к уяснению себе, что же происходит. В продолжение того же абзаца читаем:
Хотя и следует отметить кое-какие важные подробности, мне хотелось бы ограничиться общим впечатлением: в жизни, на полном лету, раскрылась с треском боковая дверь и ворвался рев черной вечности, заглушив захлестом ветра крик одинокой гибели.
Это образное переложение сущности дионисийского характера трагедии. Вот, что писал по такому поводу Иванов:
Общий же пафос этого теоретически построяемого искусства будет корениться в ужасающем нормально успокоенную душу созерцании и переживании разрыва, темной и пустой бездны между двух сближенных и несоединимых краев, в ощущении сокровенных и непримиримых противоречий душевной жизни, зияние которых будет приоткрывать взору тайну бытия, не умещающегося в земных гранях и представляющегося смертному зрению небытием. (Иванов 1916: 239)
Трагедия строится как борьба антагонистических сил. В эту очевидную истину Иванов внес ряд своеобразных тонкостей. Антагонистические силы трагедии должны быть внутренне слитны. Возникающая при этом двойственность изначально представляет собой не противоречие, а полноту. Дионис – и жертва, и жрец. Поэтому страдательная сущность дионисийства – безвольная, то есть женская. «Центральным назвали мы женский тип в трагедии» (там же: 246). «Поэтому наиболее благодарно для трагического поэта изображение характера женского. Яркая и крупная женская личность естественно трагична. И можно предугадать, что грядущие судьбы трагедии будут тесно связаны с судьбами и типами женщины будущего» (там же: 254-5).
Роман под названием «Лолита» идет именно по этому пути: в его центре находится женщина, это женщина новейшего типа, и при этом – подлинно трагическая фигура, как бы ни казалась она далеко отстоящей от преступающих запреты героинь Эсхила. Тут под балаганной поверхностью гумбертова повествования раскрывается трагедийная сущность романа, которая совсем не то же, что привычный факт разбитых судеб героев и их гибели. Это роман о женском начале трагедии, и опять-таки – не в сентиментальном смысле падших и страдающих героинь Достоевского и Пастернака, так сильно раздражавших Набокова, а в иррациональном, роковом и эстетически совершенном смысле, находящемся по ту сторону морализма.
Дионисийская сущность женского начала трагедии воплощается, по Иванову, в Мэнаде, оргиастической спутнице Диониса, которая была выделившимся из хора действующим лицом, губящим своего бога по его, а не по своей воле, – в том архаическом ритуальном действе, из которого возникла трагедия. Женское трагедийное раздвоение – не внешнее, а внутреннее. Мэнада и хочет быть любимой и бежит от любви. «Мэнада любит и яростно защищается от любви» (там же: 248). И Лолита в известном смысле двойственна. Она по глупости возраста полового созревания вступает в эротическую. связь с Гумбертом, а затем оказывается в его плену, но желает видеть в нем только приемного отца, и в дальнейшем относится к их связи, как к ненужному ей инцесту. Она бежит от него к его двойнику, Куильти, в которого она влюблена, только для того, чтобы обнаружить свою ошибку и бежать и от него. Она выходит замуж за хорошего парня Скиллера, к которому хорошо относится, но, кажется, не любит, и умирает, рожая ему ребенка. Эти перипетии формульны, парадигматичны для женской сущности трагедии нового, современного типа, сопоставимой в своих отличительных чертах с античным. Но заметим, что объяснение внутренним раздвоением требует точки зрения Гумберта. Именно в «романе Белокожего Вдовца» Гумберта Гумберта Лолите приписана роль Мэнады.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































